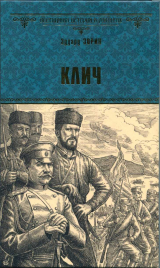
Текст книги "Клич"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
– Да не рано ли празднуете, други? – засмеялся Дринов. – Еще и за Дунай не переправились, еще и о войне не слыхать. Вот сговорятся наверху да и поладят миром? Пожалуют нам турки новый фирман, наобещают свобод да после покажут фигу. Разве так не бывало?
– Всяко бывало, – согласился Бонев, – но время теперь не то; нет, не остановятся русские на полпути, простой бумажкой от них не откупишься.
– А ты вспомни хатти-хумаюн. Чего только нам не было обещано. Так отступились же русские, сам знаешь: на твоей памяти это было, – не унимался Дринов.
– Теперь дело совсем другое, – возразил Бонев.
– Да какое другое-то? Ежели встанет весь Запад по ту сторону, так разве против всех попрешь?..
Постепенно из шутливого разговор снова становился все более и более серьезным; дело даже склонялось к жестокому спору.
– Послушай, Тодор, – сказал, недобро прищурившись, Никола Цанков, – а не подослали ли нам тебя "старые"?
Следует хотя бы в общих чертах пояснить суть неожиданно выдвинутого обвинения, которое вдруг вызвало среди присутствующих некоторое замешательство.
Дело в том, что болгарские эмигранты в Бухаресте были разделены на два непримиримых лагеря, одни из которых именовали себя "молодыми" и требовали немедленной подготовки к восстанию, во всяком случае, призывали к решительным действиям; другие, в основном люди состоятельные, среди которых было много представителей купечества, относили себя к партии "старых", объединившихся в общество, называвшееся "Добродетельной дружиной" и занимавшееся в основном благотворительными целями. "Молодые" создавали повстанческие отряды – четы – и принимали участие в вооруженной борьбе, "старые" копили деньги якобы для просветительных нужд в будущей Болгарии.
Услышав о том, что его обвиняют в причастности к "старым", Тодор Дринов побледнел и вскочил столь стремительно, что опрокинул стул.
– Немедленно возьми свои слова обратно! – закричал он в лицо оторопевшему Николе. – Мой отец был деревенским башмачником и всю жизнь гнул спину на чорбаджиев. Или ты думаешь, что, ставя заплатки на крестьянские башмаки, можно набить деньгами мошну?
Цанков тоже вскочил, и теперь они оба стояли друг против друга посреди комнаты со сжатыми кулаками, которые могли быть в любую минуту пущены в дело.
– Что за вздор? Да остановитесь же, друзья, – протиснулся между ними Бонев. – Будь хоть ты, Никола, благоразумным: ну какой же Тодор богатей? И ты, Тодор, пожалуйста, не горячись – или габровцы уже перестали понимать шутки?
– Ничего себе шутки, – несколько успокоившись, пробормотал Дринов и сел на место.
– Ладно, беру свои слова обратно, – сказал Цанков и тоже подсел к столу. Но, видимо, подозрения его еще не были окончательно рассеяны, потому что взгляды, которые он время от времени бросал на Тодора, обещали продолжение неприятного разговора: должен же он, в конце концов, знать, с кем имеет дело.
– Да успокойся ты, – понял его Константин Борисович. – Никакой Тодор не "старый", понимаешь? Ну, пришло ему желание поспорить, так что же?
Лечев, вращавшийся по большей части среди русских офицеров, не сразу понял причину разыгравшейся на его глазах ссоры. Он был плохо осведомлен в тонкостях происшедшего в освободительном движении раскола, то есть он знал, конечно, о существовании двух партий, но даже и не догадывался о том, сколь глубоки их противоречия.
А между тем вопрос этот довольно бурно обсуждался не только в среде болгарских эмигрантов и славянофилов, но и в кругах, близких к правительству. С приближением войны (а в ее неизбежности теперь никто уже почти не сомневался) необходимость выработки четкой позиции в этом весьма щекотливом деле диктовалась самой жизнью. В этом смысле, думается весьма показательно письмо председателя Петербургского Славянского общества Александра Илларионовича Васильчикова нашему генеральному консулу в Бухаресте барону Стуарту, в котором он, в частности, высказывался следующим образом:
"Принцип мой будет тот, во-первых, чтобы согласовать действия нашего комитета с мнениями и видами официальных наших представителей и, во-вторых, чтобы примирить между собой разные кружки (партиями их назвать нельзя), которые своими пререканиями много вредят общему делу. Союз между ними необходим, потому что у одних больше веса и средств, у других больше энергии и инициативы, и если бы даже их дальнейшие виды были различны, то в настоящий момент желательно, чтобы они оказали друг другу некоторую уступчивость".
История, однако, показала нереальность его затеи. Разногласия между "старыми" и "молодыми" зашли уже слишком далеко. "Старые" не только не оказали содействия в организации болгарского ополчения, но и всячески препятствовали этому.
Несколько забегая вперед, скажу, что, когда известный уже нам генерал Кишельский выехал в Румынию для сбора сведений о болгарских волонтерах, "старые" поставили об этом в известность иностранную прессу; поднялся большой шум, и Иван Кирович был отозван на родину, в результате чего вся тяжесть забот по созданию болгарского ополчения легла на плечи Николая Григорьевича Столетова…
А теперь вернемся к Константину Борисовичу Боневу. Спустя время после неожиданно происшедшей стычки, которая дала нам возможность сделать маленький экскурс в историю болгарского освободительного движения накануне войны, страсти как будто улеглись, Никола с Тодором помирились и теперь сидели рядом, на столе появилась бутыль с красным болгарским вином, Лечев пел неплохим тенором старинные болгарские песни, а Константин Борисович аккомпанировал ему на гитаре.
Прощание было еще более трогательным: уходя, все перелобызались друг с другом, давали клятву верности, а Никола Цанков даже прослезился на плече у Димитра и сказал, что дай Бог, чтобы следующая их встреча произошла уже не в изгнании, а на освобожденной земле Болгарии; он свято верил в это и уходил с твердой мыслью, что предсказание его скоро сбудется.
Лечев, как и рассчитывал, провел ночь у Бонева, они еще долго беседовали, Димитр рассказывал о своей поездке в Сербию (два или три письма, присланные им из Делиграда, были скупы на подробности), с грустью признался и в своих сердечных неудачах ("Еще не все потеряно", – успокоил его Бонев), потом язык его стал заплетаться, и он вдруг заснул посреди разговора.
Утром Лечев выехал в Москву, а оттуда в Петербург.
Из дневника Д.А. Милютина:
"14 октября. Четверг. – В последние три дня полученные дипломатические сведения были довольно успокоительны. Германия наконец заявила положительно, что она будет поддерживать не только в Константинополе, но и при других кабинетах наше предложение короткого перемирия. Италия также присоединится к русскому предложению; Франция заявляет, что она вовсе не имеет в виду действовать заодно с Англией и, напротив того, желает сохранить свою независимую политику, основанную на твердом желании заниматься своими внутренними делами.
Сегодня утром приехал в Ялту из Петербурга английский посол лорд Лофтус, с чем – неизвестно еще. Завтра же ожидается и письмо султана, отправленное с пароходом "Ливадия", и ответ из Вены. Таким образом, завтрашний день будет важным моментом в настоящей нескончаемой путанице восточных дел…"
40
С помощью своих влиятельных знакомых Крайнев был надежно пристроен в отдел хроники и уголовных преступлений одной из петербургских газет. Корреспонденции Крайнева, написанные хорошим языком и с чувством юмора, снискали благосклонность редактора и широкий круг читателей, среди которых были не только падкие до сенсаций обыватели, но и весьма уважаемые люди из купеческой и чиновной среды.
Конечно, никому и в голову не приходило, что столь приятный и остроумный молодой человек, любезно принятый во многих уважаемых домах, может вести двойную и весьма опасную жизнь.
А между тем, как мы уже знаем, интересы Крайнева простирались далеко за пределы уголовной хроники, и его статьи, печатавшиеся в Лондоне, вызывали бессильную ярость Третьего отделения, вот уже несколько лет безуспешно пытавшегося напасть на след "дерзкого и весьма опасного государственного преступника и фармазона".
Поездка его в числе набранных в Петербурге волонтеров на театр военных действий создала ему ореол славянофила и русского патриота, имя его даже было упомянуто в одном из конфиденциальных выступлений Ивана Сергеевича Аксакова на приеме, устроенном в Москве в честь пожертвователей на борьбу за освобождение славян Балканского полуострова. Удивление вызвало лишь одно обстоятельство – ни во время пребывания за границей, ни по возвращении на родину Крайнев не опубликовал ни одной корреспонденции о доблестных воинах, проливающих кровь за святое дело; Крайнев отшутился тем, что корреспонденций и так предостаточно, а он работает над книгой, в основу которой положены его дневниковые записи о пребывании в Черногории и Сербии. Кстати, ему удалось даже проникнуть к туркам, но там он был разоблачен каким-то своим знакомым, англичанином, и едва унес ноги, а не то болтаться бы ему на перекладине совокупно с захваченными в плен болгарскими повстанцами. Все это он рассказал с юмором и не преувеличивая своих заслуг, так что и этот факт был зачтен ему как еще одно проявление высокого чувства долга и мужественной скромности.
Словом, никто и не подумал связать его имя со статьями, периодически появлявшимися в нелегальной печати за подписью: "Наш корреспондент". Корреспондента искали всюду, но только не там, где его следовало искать.
В одном из июльских номеров газеты "Вперед!" в обзоре "За две недели" можно было прочесть такие слова:
"Прелестное и высоконазидательное зрелище представляют нам нынешние отношения наших политических партий и правительства. Под влиянием текущих событии на Балканском полуострове все партии отложили в сторону свои принципы, надежды и верования и слились в одну массу, в один дружный хор, славящий добродетели русского правительства, мудрость и патриотизм доморощенных государственных деятелей. Если бы это очаровательное согласие проявлялось только по отношению к Восточному вопросу, на тему "нужен ли нам Константинополь?", мало было бы назидательного в том, что наши либералы с "Новым временем" стоят рядом со скалозубами "Русского мира", мечтающими о николаевщине. Но в том-то вся и прелесть, что наши либералы, как Иваны непомнящие, предали забвению лучшие традиции своей партии, те идеи либерализма, которые завещаны им передовыми деятелями европейского либерализма, и в области внутренней политики нашего правительства, по вопросам народной жизни, они начинают обнаруживать воззрения и поползновения, совершенно тождественные с заветными вожделениями реакционеров…"
Ну в самом деле, кому могло прийти в голову, что строки эти принадлежали перу обозревателя уголовной хроники одной из вполне благонадежных петербургских газет?!
Зато в тот же день почитатели бойкого пера Крайнева прочли его довольно обширный фельетон, подписанный полной фамилией автора, и даже с его инициалами, в котором рассказывалось, как некая молодая особа, получившая в наследство от матери два серебряных блюда и шкатулку с фамильными драгоценностями, была утром обнаружена в своей квартире зарезанною. Сначала подозрение пало на дворника, затем на соседку, даму не безупречного поведения, и наконец обнаружилось, что убийца – ее собственный двоюродный брат, только что возвратившийся с сербского театра войны, где проявил себя в деле молодцом и даже был награжден каким-то тамошним орденом или медалью. Как говорят господа, занимавшиеся расследованием, сестру он зарезал хладнокровно и со сноровкой, с какою резал турок, украденные вещи не стал прятать, а положил у себя на открытом месте, сдал кое-что из ценностей под залог и целую неделю пьянствовал в одном из окраинных кабаков в обществе цыганок и еще каких-то двух личностей, которые при аресте не могли вымолвить ни слова, но после стало известно, что один из задержанных был в прошлом домашним экзекутором князя Щербацкого, а второй – конвойным солдатом арестантской роты.
Как вы и сами понимаете, ничего предосудительного в вышеназванном фельетоне не было, но, чтобы продемонстрировать общее настроение тех дней, я все-таки хочу обратить внимание читателя на одну деталь: на другой день в другой, еще более благонадежной, газете появилось открытое письмо некоего Альфреда Крицмайера, не то виконта, не то барона, который упрекал Крайнева в цинизме и пренебрежительном отношении к национальным чувствам великороссов, ссылаясь при этом на то обстоятельство, что убийцей вышеозначенной дамы оказался герой Балканской войны.
"Вполне возможно допустить, что все происходившее так и случилось, как это описано у г. Крайнева (кстати, а не болгарин ли он?), – писал не то виконт, не то барон, – но все мы были бы ему в значительной степени более благодарны, если бы убийцей оказался пусть и в самом деле ее брат, но не волонтер, а пропагатор и социалист, ибо это отражало бы истинное положение дел в нашем обществе. Развязанная социалистами и практически осуществленная г. Нечаевым вакханалия убийств резко контрастирует с той общей атмосферой приподнятости и верноподданнических чувств, которыми ныне охвачена вся Россия".
– Вот так! – воскликнул Владимир Кириллович, встретив ввечеру зашедшего к нему Зарубина с той самой злополучной газетой в руках. – Наш уважаемый барон или виконт прямо-таки слезно умоляет меня спровоцировать какое-нибудь зверское убийство, в котором принял бы участие закоренелый пропагатор или злодей-социалист. Как вам это нравится?
– Действительно, довольно странное письмо, – сказал Всеволод Ильич, усаживаясь в предложенное ему Крайневым кресло. – Но и вы, Владимир Кириллович, тоже хороши: неужели и в самом деле нельзя было обойтись без этого героя?
– Представьте себе, нет, – резко возразил Крайнев. – Да что бы и вы сказали, ежели бы я, описывая вашу несостоявшуюся дуэль, ошарашил читателя, скажем, такой пикантной картинкой: некто Всеволод Ильич Зарубин, спровоцировав ссору, вызвал на поединок всеми уважаемого патриота графа Скопина с твердым намерением убить его; к счастью, судьба распорядилась иначе – графа предупредили, что поручик, бросивший ему вызов, известный социалист и действует по заданию тайной организации, членом которой он состоит, будучи завербован в нее османами во время своего пребывания в Сербии. Граф, рассудив благоразумно, как человек, хорошо знающий цену своей жизни, принадлежащей Отечеству и императорской фамилии, не явился на место поединка, а послал штабс-капитана Гарусова, который и был прикончен на месте и оставлен в лесу с приколотой на груди запиской: "Так будет со всеми, кто служит царю".
– Браво! – Зарубин язвительно улыбнулся. – Да уж не сочиняете ли вы свои фельетоны, не выходя из дома, а, Владимир Кириллович?
– Что за дикая мысль? – проворчал Крайнев. – Неужели вы и в самом деле подумали, что заметка, о которой идет речь, была придумана и записана мною в этой комнате между двумя чашечками крепкого кофе?
– Все может быть, – покачал головой Всеволод Ильич. – Не потянут же вас за нее в суд, где непременно потребуется выставить свидетелей.
Крайнев побледнел:
– Ну, знаете ли, у вас богатая фантазия.
– Да, пожалуй, – тотчас же согласился Зарубин. – Фантазировать я любил с детства и часто затруднял своих родителей: почти для любой своей шалости я находил благовидный и вполне правдоподобный предлог. Вот вы только что сказали, как вам представилась бы наша дуэль, если бы вы последовали совету барона Крицмайера. Весьма недурственно, и я отметил это – вы же на меня почему-то обиделись… А вот не угодно ли поменяться ролями?
Покачивая ногой, он посмотрел на Крайнева, хитро прищурившись.
– Что вы имеете в виду? – спросил Владимир Кириллович, предчувствуя подвох.
– Ничего особенного. Просто мне тоже захотелось чуточку пофантазировать.
– Ради Бога! – сказал Крайнев.
– Предупреждаю, героем моей фантазии будете вы, Владимир Кириллович.
– Почему же непременно я?
– Видите ли, вы же не спрашивали меня, когда фантазировали по моему адресу.
– Боже мой, да это же была невинная шутка, и к вам она не имела никакого отношения.
– Как и моя не будет иметь никакого отношения к вам. Так как же, договорились?
– Валяйте, – сказал Крайнев.
– Итак, – поудобнее устроившись в кресле, сказал Зарубин, – начнем с того утра, когда я появился на вашей квартире с Сабуровым…
– Что ж, для начала неплохо.
– "Посмотри, – сказал я Сабурову, – вот тот человек, который нам нужен". Итак, моим секундантом согласился стать некто Владимир Кириллович Крайнев, человек достаточно известный, сотрудник отдела хроники и скандальных происшествий одной из петербургских газет. Совсем недавно он возвратился из Сербии. Прекрасно!.. Поручик Зарубин, свято соблюдавший неписаный закон боевого братства, не мог не испытывать к нему самых искренних и благородных чувств.
Собираясь утром на дуэль с твердой решимостью прикончить русского патриота графа Скопина и тем самым осуществить возложенную на него османами миссию, он, однако, и не подозревал, что та легкость, с которой Крайнев откликнулся на его просьбу, была отнюдь не случайной… Человек очень опасный, социалист по убеждениям, он руководствовался своими соображениями: короче, его целью было войти в доверие к поручику, используя для этого предполагаемую дуэль, и установить через него связи с находящимися в Петропавловской крепости его товарищами. Зарубин не учел такой возможности: он с открытым сердцем пригласил Крайнева в свой дом, свел со своим другом, отец которого служил в жандармском управлении, и, таким образом, невольно оказался соучастником готовящегося преступления…
– Стоп, – сказал Владимир Кириллович, – вы нарушили законы жанра.
– Разве? – удивился Зарубин.
– Сидя у себя дома, Крайнев не мог знать, что ваш выбор падет именно на него. В подобных фантазиях мелочи играют большую роль. Ни один читатель, коль скоро вам вздумается писать на эту тему фельетон, не поверит вам ни на йоту.
– Это читатель, – сказал Зарубин с ударением. – А если предположить, что моей историей заинтересуются специалисты?
– Полноте, Всеволод Ильич, – стараясь сохранить самообладание, спокойно возразил Крайнев. – Однако же как профессионал должен отметить, что у вас действительно развито воображение. Мой вам совет: попробуйте-ка свои силы в беллетристике.
– Ну, это мне не по зубам, – отмахнулся Зарубин. – Сочинять фантазии в своем кругу – совсем иное дело, нежели излагать их на бумаге. Гофмана из меня не получится.
– Как вам угодно. Я бы на вашем месте попробовал, – сказал Крайнев.
– Нет уж, увольте. – Зарубин встал. – А теперь позвольте откланяться.
– Так скоро? – удивился Крайнев.
– Дела, знаете ли. – Он помедлил, словно обдумывая что-то очень важное и не решаясь сказать. Но вдруг решился: – Очень прошу вас не обижаться за мои… фантазии. Вы мне действительно симпатичны, и я бы не хотел… Словом, не всяк тот пьян, кто выглядит пьяным. Имейте это в виду на будущее. А заметка ваша об убийце весьма прозрачна, я неспроста говорил. Будьте осторожны, и всего вам доброго. Бог знает, свидимся ли еще когда?
– Вы снова на театр войны?
– И да и нет, – сказал Зарубин, улыбнулся и быстро вышел.
Крайнев в задумчивости остановился перед дверью.
41
«КАКАЯ ЖЕЛАТЕЛЬНА ВОЙНА?»
(из передовой статьи газеты «Неделя»)
"Мы считали недавно, что политическое бескорыстие – глупость, а бессодержательный энтузиазм не больше, как народное бессердечие.
Что-то хитро и неясно. Какая же должна быть корысть от вмешательства России в славянские дела? Земли, кажется, у нас довольно, и на Восток мы дотянулись до Китая и до Индии. Или нам нужно тянуться и на юг, пока нас не остановит океан? Но еще император Николай говорил, что ни один русский не захочет, чтобы Московский кремль был перенесен в Константинополь. Ясно, что корысть наша не в турецкой земле, и помощь южным славянам мы продаем не за деньги, как продавали ее швейцарцы. Кровь за деньги не продается. В чем же должна быть наша корысть? Корысть русской политики проста и ясна. До сих пор все славянское движение и вся сербская война были делом чисто народным. Превратится ли война в европейскую, характер ее от этого не изменится. Общее стремление нашей народной политики, ее задача, цель и корысть – в тех общенародных движениях славянского Юга, которым европейская политика дала название Восточного вопроса. Вопрос этот в том, чтобы на юге Европы была иная, свободная комбинация народов… Это первая война за национальную свободу народов, война, которая в политике должна выдвинуть новый аспект, до сих пор в ней не действовавший. Для дипломатов, которые все успехи привыкли мерить границами государств, вопрос о свободе может представиться неуловимой мечтательностью и расплывающейся утопией. Но если Россия теми жертвами, которые принесет Сербии, и той кровью, которую она прольет за славян, купит сознание своих национальных стремлений, если она сделает хотя один шаг вперед во внутренней и внешней политической зрелости и поймет, за что именно она отстаивала сербов, – разве этот урок не будет для нас лучшим политическим уроком и самым дорогим подарком?.."
Николай Григорьевич Столетов отложил в сторону дочитанную газету и посмотрел за окно.
В последние дни, особенно после внезапно наступивших холодов, все чаще оставаясь дома, он предавался размышлениям, среди которых немалое место занимали и вопросы политические.
Он понимал, что постепенно нараставшее в народе напряжение непременно должно разрядиться взрывом. Не вызывала в нем сомнения и та роль, которую он готов был сыграть в назревающих событиях. Не относя себя к довольно распространенному в ту пору типу генералов, к которому принадлежали Черняев и Скобелев-младший, то есть не чувствуя в себе готовности на оправданные обстановкой безрассудства, он тем не менее не причислял себя и к числу тех, кто честно и с чувством долга исполняет чужую волю. Привычка к дисциплине и личная организованность были уже укоренившейся чертой его характера, и тем не менее в случае необходимости он чувствовал себя способным на решительные поступки, и одним из таких поступков было его твердое намерение в день открытия военных действий требовать своего немедленного в них участия.
Вот почему его все более тревожило и то обстоятельство, что он до сих пор не был отозван из отпуска, хотя такого распоряжения следовало ожидать еще и раньше.
Вынужденное безделье, скрашенное на первых порах воспоминаниями о детстве и близостью родных, теперь начинало его тяготить. К тому же ему так и не привелось встретиться с женой и дочерью, которые, вернувшись весной из Женевы, недавно уехали погостить к полоцкой тетушке Наталье. Винить в этом было некого, так как он сам не удосужился заранее предупредить их о своем отпуске.
Забота и всеобщее внимание, которыми Николай Григорьевич был окружен в доме, вызывали в нем трогательную благодарность и нежные чувства, которые он особенно остро испытывал по отношению к матери.
Хлопотливая Александра Васильевна, быстро привыкнув к взрослому сыну, которого видела реже всех остальных своих детей, называла его не иначе как "мальчиком" и баловала ватрушками и топленым молоком прямо из печи (любимое его детское лакомство), но от одной из странностей так и не смогла избавиться: стоило только Николаю надеть парадный генеральский мундир с аксельбантами и орденами, как она сразу же впадала в совершенно необъяснимую робость и обращалась к нему неизменно на "вы", хотя тут же и добавляла по-матерински и по-домашнему ласково: "Коленька".
Большой отрадой для Николая Григорьевича был неожиданный приезд во Владимир его сестры Вареньки, милой Бабетт, как ее называли в детстве, бывшей замужем за архитектором Филаретовым. С ней да еще с заходившим иногда старинным другом семьи Столетовых, довольно известным в своем кругу инженером-путейцем Михаилом Михайловичем Рангом, он мог говорить о чем угодно все вечера напролет. Варя отлично знала современную французскую литературу, а Ранг вспоминал о своем участии в строительстве Московско-Нижегородской железной дороги; кроме того, он был еще и страстным краеведом, собрал богатейшую библиотеку и время от времени публиковал свои статьи не только во "Владимирских губернских ведомостях", но и в газете "Голос", и в журнале "Русская старина".
Однажды все втроем они навестили друга покойного отца – Митрофана Ивановича Алякринского.
Николай Григорьевич помнил его с детства; Митрофан Иванович часто бывал в их доме, еще чаще его можно было встретить на улицах города, спешащим, опираясь на палочку, по вызову больных. Имя его было хорошо известно не столько среди состоятельных горожан, сколько среди бедняков, которые не могли пользоваться услугами официально практикующих врачей. Он помогал обездоленным полезными советами и лекарствами и, в меру своих сил, также и деньгами. Последнее обстоятельство снискало ему славу, с одной стороны, бескорыстнейшего человека, бессребреника и покровителя бедных, с другой – чудака и идеалиста.
За последние годы, говорил Ранг, он сильно сдал, и, действительно, они застали его в постели: Митрофан Иванович был бледен и очень худ; щеки его были покрыты седой, неряшливой щетиной, но впавшие глаза смотрели по-прежнему молодо и пытливо.
Николая Григорьевича, конечно же, он не узнал; появление в его комнате генерала вызвало на его лице минутное смятение, но скоро все выяснилось, и старик растроганно прослезился. Как совершенно естественно было ожидать, он жил в основном своим прошлым, но и здесь частенько сбивался, путал имена и годы. Михаил Михайлович иногда поправлял его, а иногда и сам не мог уже вспомнить какого-нибудь примечательного события – тогда они оба вздыхали и виновато улыбались.
Прислуживавшая Митрофану Ивановичу бойкая старушка (одна из сирот, которую он в свое время вылечил от тифа и поставил на ноги, после чего она так и осталась в доме, а теперь была для него человеком незаменимым) поставила самовар и подала к чаю варенья и бубликов. Сам Алякринский встать не мог и пил чай лежа; его поила из ложечки все та же старушка и делала это не только умело и заботливо, но даже с любовью.
Было у Столетова и еще два визита, которые, пожалуй, больше напоминали не встречу, а прощание, – в семью бывшего директора гимназии Николая Ивановича Соханского и в дом учителя истории Алексея Николаевича Шемякина.
Ни того, ни другого уже не было в живых.
Пора было подумывать и об отъезде.
Наконец-то Николай Григорьевич получил предписание прервать свой отпуск и срочно возвращаться в Петербург. Через день он уже был в военном министерстве, где вышколенный и франтоватый офицер для особых поручений вручил ему письмо Милютина.
"В числе предположенных мер для облегчения движения наших войск на Дунай, – писал Дмитрий Алексеевич своим убористым почерком, – имеется в виду организовать несколько болгарских дружин, которые послужили бы ядром дальнейшего развития болгарского ополчения.
Для общих распоряжений по формированию этих дружин полагалось бы дело это поручить ген.-м. Столетову.
В помощь ему будут назначены несколько штаб-офицеров и в том числе бывший полк. Кишельский, который отправился уже в Бухарест.
Прошу сделать надлежащее распоряжение относительно ген.-м. Столетова по ближайшим указаниям е. и. в. великого князя Николая Николаевича.
Д. Милютин".
Удивленный столь необычным и, как ему показалось, не очень лестным поручением, Николай Григорьевич не предполагал, да и не мог предположить в те дни, что записка военного министра круто повернет всю его дальнейшую судьбу и что имена многих генералов, его однокашников по академии Генерального штаба и сослуживцев, получивших куда более почетные назначения, померкнут в виду той славы, которой он в скором времени удостоится.
А пока, ничем не выдавая своего разочарования, с присущей ему дисциплинированностью и энергией он немедленно приступил к выполнению возложенных на него министром обязанностей.
Из дневника Д.А. Милютина:
"16 октября. Суббота. – …Сегодня мы собрались по обыкновению у государя, после завтрака, чтобы выслушать полученные известия. По лицу государя уже можно было догадываться, что известия неудовлетворительные; государь имел вид расстроенный, как будто после слез, щеки впалые. И действительно, нечему было радоваться… Письмо императора австровенгерского пропитано иезуитизмом. Так же, как и в первом письме, он предоставляет России действовать одной и вступить в Болгарию, но не считает возможным обещать какое-либо содействие со стороны Австрии, кроме только сохранения нейтралитета, и в этом смысле предлагает заключить секретный договор, причем довольно ясно дает понять, что Австро-Венгрия и без всяких в отношении к нам обязательств воспользуется вступлением нашим в Болгарию, чтобы втихомолку прихватить себе Боснию.
По прочтении письма Франца-Иосифа… начались препирания между государем и канцлером. Последний не видел ничего худого в австрийском ответе и заботился только о том, каким порядком заключить предлагаемую секретную конвенцию, для которой материалы должны быть доставлены Военным министерством. Государь же находил циничным ответ своего союзника, указывал на изолированное наше положение. Мы принимаем на себя всю ответственность, начиная войну, рискуем поднять против себя целую коалицию и не домогаемся никаких выгод, никаких вознаграждений; Австрия же, ничем не рискуя, свалив на нас всю ответственность, заберет себе Боснию, округлит свои границы и предоставят Англии львиную долю в наследии покровительствуемой ею Турции. Государь говорил горячо против увлекающихся симпатиями к братьям-славянам, прямо указывая на императрицу и наследника-цесаревича. В заключение сказал, что по важности обстоятельств отлагает дальнейшие суждения и заключения до завтрашнего дня.
В 5-м часу приехали в Ливадию (сухим путем от Севастополя) цесаревич с детьми и великий князь Николай Николаевич. Последний немедленно же по приезде имел длинный разговор с государем, а после обеда пришел ко мне, и до 11-го часа мы толковали о предстоящей войне. Великий князь, чуждый всяких политических соображений, хотел бы, чтобы немедленно была решена мобилизация войск. С военной точки зрения он совершенно прав: чем позже, тем мобилизация и передвижения войск будут труднее и тем менее останется времени для зимней кампании, которая при всех своих затруднениях выгоднее для нас, чем отсрочка до весны. Притом следует иметь в виду, что с конца ноября начнется усиленная работа железных дорог для перевозки новобранцев. Все это имелось в виду, и пред отъездом Игнатьева была заявлена ему необходимость разрешения вопроса о войне или мире до конца текущего месяца с тем, чтобы в случае надобности мобилизация могла быть начата не позже 1 ноября. С этим сроком он должен сообразовать свои дипломатические переговоры. Но, к сожалению, ему не удастся в такой короткий срок добиться чего-нибудь положительного; турки вместе с Эллиотом будут тянуть сколько можно долее; если даже решится по-нашему вопрос о перемирии, то сколько еще времени пройдет, пока договор этот будет приведен в исполнение; а конференция? – еще только что начинают переписку о том, удобно ли вести переговоры в Константинополе; даже есть ли надобность в конференции. День за днем проходит, а суровая зима приближается большими шагами. На горах уже и теперь холод и непогода".








