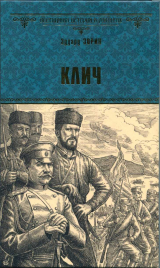
Текст книги "Клич"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
– Бросьте… – поморщился Новоселов. – В эту версию трудно поверить, тем более что задержанный нами некто Добровольский был замечен в одной с вами компании. Или вы станете отрицать свое с ним знакомство?
– Какого-то Добровольского я действительно знал, но это ничего не значит… Или он дал вам свидетельствующие против меня показания?
– Добровольский отказался свидетельствовать и… покончил с собой.
– Что?!
Новоселов внимательно взглянул в его потемневшее лицо.
– Да-да, – подтвердил он, – видимо, не выдержали нервы… Надеюсь, теперь-то вы понимаете меня?
– С трудом. – Бибиков проглотил сдавивший горло сухой комок.
– Сейчас я вам все объясню, – придвинулся к нему Новоселов. – Верю, охотно верю, что у вас не было злых намерений, попытаюсь поверить и в то, что обнаруженный у вас револьвер был всего лишь, так сказать, игрушкой. Но оружие в руках сообщников Добровольского отнюдь не игрушка!
– Пожалуй, – кивнул Бибиков. – Хотя утверждать наверное я не могу.
– Да Бог с ними, с вашими утверждениями, – продолжая рассматривать его изменившееся лицо, сказал товарищ прокурора. – Не ваш ли гражданский долг упредить дальнейшие несчастья? Во всяком случае, вы могли бы указать нам хотя бы приблизительно некоторые адреса.
– Вот уж чего не знаю, того не знаю, – широко улыбнулся Бибиков.
Новоселов разочарованно постучал костяшками пальцев по столу.
– Прискорбно, весьма прискорбно, – сказал он. – Признаюсь, ожидал совсем другого.
– Чего же?
– Вам не кажется, что наша беседа приобретает несколько отвлеченный характер?
– Пожалуй, с самого начала характер ее был самым определенным – вы хотели получить от меня адреса. Я их вам не назвал. Это вас разочаровало. Но вы были бы разочарованы еще больше, если бы мне действительно поверили: я и в самом деле вел весьма замкнутый образ жизни. Правда, в таком случае вам пришлось бы признать, что мое заключение – ошибка, не так ли?
– Не ловите меня на слове, Степан Орестович, – сказал Новоселов. – И позвольте мне все-таки не поверить в вашу невиновность.
Они прекрасно поняли друг друга. Уходя, Новоселов пообещал:
– Потерпите еще несколько дней. Скоро все разъяснится.
Действительно, через несколько дней Бибикова отвезли в Третье отделение, где жандармский подполковник выложил на стол толстую папку.
– Здесь все материалы по вашему делу, господин Бибиков.
– Никогда бы не подумал, что мое жизнеописание займет такой пухлый том.
– Полагаю, у вас нет причин для иронии, – с некоторой даже обидой сказал подполковник. – Сия папка – отнюдь не жизнеописание Христа. – Жандарм извлек из папки мелко исписанный листок. – Вот, ознакомьтесь, пожалуйста.
Это были показания Кобышева. За исключением двух-трех весьма сомнительных фактов, они не содержали в себе ничего, кроме грубых и грязных инсинуаций.
Бибиков с омерзением отшвырнул бумажку на стол.
– Я протестую, – сказал Степан Орестович, – и заявляю совершенно официально: с этого момента никаких показаний впредь давать не намерен.
– А ваших показаний нам и не требуется, – сказал жандарм и неторопливо положил папку в стол.
После этого разговора Бибикова в Бутырский замок больше не вернули, а оставили в камере при жандармском управлении. Через три дня его перевезли в Петербург, в Литовский замок, а затем в Петропавловскую крепость.
Из досье генерал-лейтенанта И.Л. Слезкина:
"Аскольд Иванович Кобышев, 1852, русский, вероисповедания православного, из разночинцев. Родился в деревне Зыбково Ярославской губернии. Отец Иван Лаврентьевич – литератор. Мать Мария Аркадьевна – мелкопоместная дворянка, урожденная Диц.
Закончив гимназию, поступил в Московский университет, но курса не дослушал в связи со смертью отца (покончил самоубийством в нумерах г-на Сясина).
Активно выступал с рассказами и фельетонами во второстепенных периодических листках, но был резко критикуем и ожидаемого успеха не добился, после чего занимался мелкой торговлею, и тоже безуспешно.
К сотрудничеству был привлечен в 1875 году после написания доноса на своего бывшего учителя, автора нашумевшего романа "Подворье" г-на Первухина, за что последний был осужден и сослан в Вятку.
Характера желчного, болезненно самолюбив, завистлив и мстителен. (Помета на полях: "Именно сие и долженствует использовать!"). Однако же труслив, вследствие чего способен на непредвидимые поступки.
В деле о противузаконной типографии изобличен как наш агент оставшимися на свободе злоумышленниками".
Размашистая запись красными чернилами:
"Сняв показания по делу противуправительственного кружка, впредь от использования воздержаться!"
31
Впервые за все время заключения Бибикову была предоставлена возможность пользоваться книгами. В крепости имелась своя библиотека.
Бибиков набросился на чтение, как голодный на пищу. Читал он подряд и с жадностью буквально все, были ли это серьезные сочинения или дешевые романы. На допросы его больше не вызывали, еда была приличной, из двух блюд, через день его выводили на получасовую прогулку во внутренний дворик. Сначала Бибикова несколько раздражал "глазок", но со временем он перестал обращать на него внимание.
Вся его жизнь до этого дня была заполнена делами. Но вот, оказывается, можно и без дел, можно часами валяться на кровати, читать или предаваться воспоминаниям.
Раньше он редко думал о прошлом. Теперь возврат к былому составлял для него своеобразное развлечение, но не только: минувшее и будущее связывались для него в неразрывную цепь.
Воспоминания сперва были как-то сумбурны и не совсем отчетливы; требовалось некоторое напряжение мысли, чтобы восстановить, скажем, образ отца (матери своей Бибиков совсем не помнил, так как она умерла при родах); что-то всплывало ярко, как при вспышке молнии, а что-то рассеивалось и то появлялось, то исчезало, как очертания окутанных туманом предметов. У отца был приятный голос, и он действительно любил петь, но, по словам бабушки, все какие-то солдатские, грубые песни; помнил Степан отцовскую колючую бороду (бабушка всегда называла ее "мужицкой") и голубые, всегда смеющиеся глаза ("Глаза у твоего отца были голубые и бесстыжие", – говорила бабушка). И еще Степан помнил громкие разговоры, которые отец вел со своей матерью, после чего надолго исчезал, и в доме воцарялась недобрая, гнетущая тишина.
Когда Степан подрос и уже ходил в гимназию, бабушка Аглая Николаевна кое-что прояснила, но прояснила по-своему, и сейчас он догадывался, что многое в ее рассказах выглядело совсем не так, как было на самом деле. Он узнал, что отец служил с генералом Перовским в Оренбурге и участвовал с ним в походе на Хиву, во время которого потерял ногу; возможно, именно это ранение и повлияло впоследствии на его характер, который сделался невыносимым для окружающих.
Теперь Степан Орестович мог догадываться, что отец его принадлежал к тому довольно распространенному типу русских правдоискателей, какие в разное время обнаруживались в самой неожиданной среде – в крестьянской избе, где и книг-то никогда не держали в руках, и в боярских хоромах, где с детства воспитывалось презрение к мужику, – прозревающих истину, но не знающих пути к ней, а потому чаще всего и кончавших жизнь свою в узилище или уж совсем нелепо – в каком-нибудь захудалом придорожном кабаке в пьяной и бессмысленной драке.
Именно так вот нелепо кончил свою жизнь отец.
В отношениях бабушки к отцу Степана многое оставалось неясным. Была здесь какая-то тайна, так и ушедшая в могилу вместе с Аглаей Николаевной.
Но, несмотря ни на что, бабушку свою Бибиков любил, и любил самозабвенно, сохранив о ней самые трогательные и теплые воспоминания.
Слава Богу, что она умерла еще до того, как Степан Орестович впервые был арестован за участие в студенческом кружке, где читали неизданного Белинского, умерла в полной уверенности, что внук надежно определен и имеет твердые понятия о нравственности…
Другим воспоминанием Бибикова была женщина, с которой связана и горечь первого чувства.
Его друзья, как правило, все встречались со своими ровесницами – эмансипированными девицами, умевшими болтать о чем угодно и позволявшими себе разные вольности. Их общество мало привлекало Бибикова, воспитанного бабушкой в принципах доброго старого времени; к тому же он не испытывал к этим вопросам сколько-нибудь повышенного интереса. Наука занимала его целиком, он мечтал посвятить себя медицине, делавшей в ту пору головокружительные успехи, буквально поражавшие воображение.
Истинной страстью его были книги. Покопаться в развалах, вытянувшихся вдоль стены Китай-города, доставляло ему такое наслаждение, сравниться с которым не могло ничто другое.
И в самом деле, попробуйте только представить себе, как из всевозможного хлама вы вдруг извлекаете истинную жемчужину, которой нет цены, хотя цена ей всего три гривенника, что вполне по студенческому карману, – какую-нибудь "Супружескую грамматику, посредством которой каждый муж может довести жену до той степени, чтобы она была тише воды, ниже травы" или "Секрет носить сапоги и всякую обувь, не изнашивая": держишь в руках подобный шедевр и удивляешься, какой простор открыло книгопечатание для всякого рода человеческой глупости, из которой, однако, же иные ловкачи извлекали чистые прибыли. И больше всего удивляло Бибикова то, что на любой товар находился свой покупатель. Он даже совершенно серьезно подумывал составить статистическое исследование книжного спроса и предложения, что, по его мнению, достаточно ярко характеризовало бы нынешнее умственное состояние общества.
Вот за этими-то занятиями на книжном развале его однажды и настигла судьба в образе русоволосой девицы со вздернутым носиком и насмешливыми зеленоватыми глазами. Руки их нечаянно столкнулись на одной и той же книге в дешевеньком переплете, которая называлась не то "Искусство быть всегда любимою своим мужем", не то "Нет более несчастья в любви, или Истинный и вернейший ключ к женскому сердцу".
"Извините", – сказала девушка и пододвинула книгу Бибикову.
"Нет уж, это вы извините, – сказал он, передавая книгу девушке. – Видите ли, это, кажется, не мое чтение".
"Неужели вы думаете, что это может меня серьезно интересовать?" – удивилась девушка.
"Меня же, напротив, это интересует, но совсем не в том смысле, как вы подумали", – сказал Бибиков.
"Вы способны угадывать мысли?" – с иронией произнесла она.
"В некотором роде", – сказал он.
Так они познакомились. Девушку звали Асей, она училась на каких-то курсах, жила в Москве на скромном пансионе и увлекалась живописью. Впрочем, стать художницей она не надеялась, так как плохо владела рисунком, но великолепно знала историю искусств и имела множество знакомых среди молодых художников.
В тот день Бибиков впервые опоздал на лекции и ничуть не сожалел об этом. До позднего вечера они гуляли в Сокольниках, и встречи их стали регулярными.
Однажды Ася пригласила его к себе на квартиру:
"Будут интересные люди, среди них два молодых графика из Парижа".
Бибиков пришел. Два молодых графика действительно оказались неординарными молодыми людьми. Разговор с искусства быстро и как-то совсем незаметно перешел на политику. Бибиков очень рассмешил их своими наивными высказываниями, Ася тоже смеялась, а вечером сунула ему "Политическую экономию" Милля с примечаниями Чернышевского. Он проглотил ее залпом, открыв для себя совершенно неведомый ему доселе мир. С того дня Ася внимательно следила за его образованием, радовалась его успехам и в спорах все чаще становилась на его сторону.
Пролетело полгода – тут неожиданно пришло известие о смерти бабушки, и потрясенный Бибиков в тот же день выехал в деревню на похороны, а когда вернулся в Москву, Аси в столице уже не было; от общих знакомых он узнал, что она отправилась за границу с одним из художников. Бибиков ожидал всего, чего угодно, но только не этого: весь мир для него перевернулся, лишь сейчас он понял, что Ася была для него не просто хорошим другом, а человеком по-настоящему близким и дорогим. Он впервые испытал ревность и даже собирался в Париж, за ней следом, хотя и не представлял себе точно, что станет там делать и как объяснит свое появление. К счастью, денег у него не оказалось, бабушкино наследство на него еще не перевели, и он вынужден был остаться. Со временем боль утраты несколько притупилась, в Париж он уже не рвался, хотя, войдя во владение довольно-таки солидным состоянием, больше не испытывал серьезных финансовых затруднений.
Дружба его с Асиными знакомыми продолжалась, круг его чтения день ото дня расширялся, он уже составил собственные взгляды по многим вопросам, которые обсуждались в кружке, и скоро выдвинулся в его руководители. Поэтому совершенно нормально был воспринят и следующий его поступок: он продал имение и все вырученные за него деньги вложил в общее дело. Занятия в университете были к тому времени уже совершенно заброшены, да он и не смог бы их продолжить, так как в один прекрасный день случилось то, чего и следовало ожидать: полиции стало известно о существовании кружка, многих из его членов арестовали, в том числе и Бибикова. Начались допросы и очные ставки, закончившиеся тем, что почти всех сослали в разные отдаленные губернии.
Жизнь Степана Орестовича с этого момента полностью перевернулась, и единственный путь, который он отныне перед собою видел, была революция, ей он и решил себя посвятить. Отбыв ссылку, Бибиков выехал за границу, причем не легально, с российским паспортом в кармане, а тайно, с помощью верных людей, – в Белград, Вену и Париж.
В Париже он снова встретил Асю, которую к тому времени совсем почти позабыл; увидев ее, он испытал глубокое разочарование, хотя и не мог не питать к ней чувства благодарности. К тому времени она уже рассталась со своим художником, жила уединенно в какой-то захламленной мансарде, говорила о своих бывших друзьях с ожесточением и высказывала какие-то сумбурные мысли, цитируя Бакунина и исповедуя свободную любовь. Встретившись, они поспорили, Бибиков наговорил ей кучу дерзостей, о которых после сожалел, но душою он не покривил – все, что он сказал, было его глубоким убеждением. Вскоре он узнал, что Ася уехала из Парижа и след ее затерялся – теперь уже навсегда. Бибиков вычеркнул ее из свой памяти – он был тогда горяч, рвал с прошлым легко и без особого сожаления.
Вскоре, однако, он понял, что и сам ошибался жестоко: собственно, весь его путь от книжного развала у стены Китай-города и до Трубецкого бастиона Петропавловской крепости лежал через поиски и ошибки.
Бибиков не боялся расплаты, свое заключение он воспринимал как нечто совершенно естественное, да к тому же и верил в счастливый исход. Еще не все было потеряно, еще находились на свободе друзья, которые (он это твердо знал) не были безразличны к его судьбе.
Одним из таких друзей был Владимир Кириллович Крайнев.
32
Мысль о том, чтобы использовать широкие связи Зарубина, пришла Владимиру Кирилловичу лишь в самый разгар холостяцкой пирушки. До того момента, как подвыпившему Всеволоду Ильичу вдруг вздумалось сказать, что у него есть хорошие знакомые на Пантелеймоновской[2], ни о чем таком Крайнев даже и не помышлял, а просто наблюдал своих новых приятелей.
Шампанского в генеральском доме было море разливанное, так что даже весьма сдержанный и чванливый штабс-капитан Гарусов вынужден был признать, что подобного гостеприимства ему не доводилось встречать даже на Кавказе.
Тут в разговор вмешался Сабуров, вспомнивший, как в бытность свою в Тифлисе был приглашен на грузинскую свадьбу.
– Описать это невозможно! – воскликнул Гарусов, тотчас же перебивая Зиновия Павловича. – Это надо видеть собственными глазами.
– Вы правы, – вежливо согласился Сабуров, пивший меньше всех и потому сохранивший рассудительность в разговоре. – Но если говорить в общих чертах…
– Не надо в общих чертах, – снова оборвал его Гарусов. – Послушай, дорогой, – обратился он почему-то к одному Зарубину, видимо, как к хозяину, – если ты хочешь видеть грузинскую свадьбу, поехали со мной, я тебе покажу такую свадьбу, что ты только ахнешь…
– Да куда же мы поедем-то? – пытался охладить его Сабуров. – Нынче все мы расписаны по своим делам.
– К черту дела! – закричал Гарусов и вскочил со стула. – Дела подождут, а грузинскую свадьбу нужно видеть немедленно.
Обычно легко загорающийся Всеволод Ильич на сей раз принял сторону Сабурова – совершать новые глупости он был, очевидно, не расположен.
Развалившись в кресле и держа в руке бокал с шампанским, Зарубин сказал примирительно, но твердо.:
– Свадьбы нынче не будет, достаточно и дуэли. А что, – повернулся он к Гарусову, – граф Скопин и в самом деле имеет серьезные намерения в отношении княжны Бек-Назаровой?
– Трудно сказать, – тут же ответил штабс-капитан. – Во всяком случае, поговаривают, что он собирается сделать ей предложение.
– И что же княжна?
– Вроде бы приняла. Вам, очевидно, известно: ее отец разорился…
– Как? Это для меня новость, – встрепенулся Зарубин и даже отвел поднесенный к губам бокал.
– Что-то связанное со строительством железной дороги, какие-то злоупотребления или что-то в этом роде, – не совсем вразумительно пояснил Гарусов.
– Господи, нынче все помешались на железных дорогах! – воскликнул Всеволод Ильич. И вот тут-то с его языка и сорвалось упоминание о Пантелеймоновской, сразу же насторожившее Владимира Кирилловича.
– А что, разве жандармское управление имеет касательство к постройке железных дорог? – спросил он.
– К постройке железных дорог имеют касательство решительно все, – со знанием дела сказал Зарубин. – Предприятие это обещает баснословные прибыли. Мой батюшка тоже не избежал всеобщего поветрия, а вот Федор Данилович Крутиков, его однокашник по академии, а нынче большой чин на Пантелеймоновской, до сих пор не решится рискнуть.
– Да, может, ему и рискнуть-то нечем? – не удержался от усмешки Сабуров. – Может, у него и полушки нет за душой, а всего и гордости-то, что только голубой мундир?
– А вы, любезный Зиновий Павлович, не фрондируйте, – сказал Всеволод Ильич, – не все в жандармском управлении непременно негодяи и вешатели.
– Да кто же сказал, что вешатели? – удивился Сабуров. – Такого у меня и в мыслях не было. Напротив того, я отношусь весьма почтительно к нелегкой службе наших блюстителей порядка.
– Вот видите, вы снова фрондируете, – взъерошился Зарубин. – Что ни слово о жандармах, то с подковыркой. А вспомните-ка, сколько молодых людей было спасено от каторги, и все благодаря тому, что им вовремя указали на пагубность их поведения.
– Сдаюсь, сдаюсь, – шутливо поднял руки Зиновий Павлович. – А вы так горячо говорите, имея в виду, конечно же, Федора Даниловича, что мне даже захотелось взглянуть на него хотя бы издалека.
– Почему же издалека? – вскочил с кресла Зарубин и сделал несколько шагов по комнате, что выдавало охватившее его возбуждение. – Можно и вблизи. Замечу кстати, что если среди вас есть знатоки старинного оружия, то у Крутикова великолепная коллекция. Однако же будьте осторожны – Федор Данилович хорошо знает историю каждой попавшей к нему вещи и спорить по поводу ее происхождения совершенно бесполезно.
– Вы говорите так, будто уже все за нас решили, будто мы и впрямь немедленно собираемся и едем в гости к вашему генералу, – улыбаясь, сказал Зиновий Павлович.
– Ну и что, ведь не на Кавказ, – возразил Зарубин, покосившись на притихшего штабс-капитана. – Мы только что и на Кавказ чуть было не махнули, а до Аничкова моста рукой подать.
Сабуров посмотрел на него без одобрения, но Крайнев, до сих пор молча слушавший их, уже развивал про себя внезапно родившуюся идею и потому высказался по поводу предложения Зарубина в самом положительном духе.
Штабс-капитан Гарусов, обидевшийся за Кавказ, пробурчал что-то невнятное, но решительно протестовать все-таки не стал, потому что после выпитого у него всегда возникала необоримая потребность в передвижении.
– Итак, едем, – сказал Зарубин.
– Да удобно ли это, право? – еще раз попытался слабо возразить ему Сабуров.
– Без всяких церемоний, господа. – Зарубин, покачнувшись, встал.
Отговаривать его было бесполезно. Напротив того, любое возражение только подогрело бы его упрямство. Крайнев быстро сообразил это и вдруг заявил, что считает столь неожиданный визит, да еще к лицу, занимающему высокое общественное положение, действительно неприличным.
– Чепуха! – оборвал его многословное замечание Всеволод Ильич. – Да мы, если хотите знать, и не к Федору Даниловичу поедем, а к моему другу Пашке Крутикову. Мы с ним еще позавчера договаривались о встрече.
– Вот это уже совсем другое дело, – подхватил Сабуров. – Только объясните нам, пожалуйста, кто таков Пашка и не выставит ли он нас за дверь?
– Пашка не выставит, – сказал Зарубин с уверенностью. – Мы с ним с детских лет дружны. И вообще, стыдно, милостивые государи, не знать Пашку Крутикова. Простите, – обратился он к Крайневу, – неужели и вы, коренной петербуржец, ни разу о нем не слышали?
– Представьте себе, нет, – признался Владимир Кириллович, ибо посчитал, что так будет удобнее; на самом деле он слышал, и не раз, о скандальных похождениях в высшем обществе некоего Павла Крутикова, но никак не связывал это с именем жандармского генерала. Вот уж поистине удача сама шла ему в руки – конечно, порядочность не позволила бы ему использовать доставшийся в столь доверительной обстановке материал для хлесткого фельетона, но побеспокоить генеральского сынка для того, чтобы уточнить местопребывание Бибикова, он не счел предосудительным.
Решив, что вопрос исчерпан и не подлежит дальнейшему обсуждению, Всеволод Ильич позвонил в колокольчик и приказал появившемуся в дверях лакею немедленно запрягать карету…
На этом мы пока что оставим нашу шумную компанию, несколько опередим события и скажем только, что в доме генерала у Аничкова моста наши друзья действительно были приняты с инстинно русским хлебосольством, им не задавали лишних вопросов, не интересовались происхождением и образом мышления – более того, свободно говорили разные рискованные вещи, и все это под треньканье гитары и звон хрустальных бокалов. Павел Крутиков оказался человеком остроумным и тароватым, без кичливости и предрассудков. Он не только позволил нм напиться, но, сам напившись, пообещал узнать о судьбе Бибикова, и, точно, узнал – только что, мол, доставлен в Петропавловку, но вскоре будет переведен в ДПЗ[3]. Как он это сделал, одному Богу известно, потому что из комнаты, где они находились, выходил, пошатываясь, всего два раза, и то ненадолго.
Крайнев очень волновался, что его вопрос о Бибикове возбудит всеобщее любопытство, хотя и сделал он это вроде бы мимолетно и сославшись на какую-то даму, питавшую к узнику самые нежные чувства, но никто даже и глазом не моргнул, словно подобного рода вопросы входили в неизбежный церемониал этого дома.
Лишь на обратном пути от Крутиковых, уже далеко за полночь, Всеволод Ильич вдруг растолкал мирно дремавшего рядом с ним Крайнева и совершенно трезвым голосом спросил, остался ли он доволен поездкой.
– Вполне, – сказал Владимир Кириллович, насторожившись. Но вдаваться в дальнейшие подробности не стал, так что любопытство его можно было принять за безобидное, если бы не интонация, которая так поразила Крайнева.
В своих воспоминаниях, опубликованных в эмиграционной печати в 1903 году, П.Е. Щеглов расскажет об этом эпизоде так:
""Вы были неосторожны, – заметил я Крайневу, внимательно выслушав его, – могли погубить все дело". Крайнев стал оправдываться и приводить доводы, которые до некоторой степени убедили меня, но не успокоили. Мы не имели права так безрассудно рисковать…"
33
Ни дочь, ни Дымов не знали и не могли знать, что Петр Евгеньевич, часто отлучаясь из Покровки, иногда на день, а иногда и на несколько дней кряду, устанавливал контакты с людьми, разделявшими его взгляды, проводившими на родине большую и важную работу, которая должна была в ближайшем будущем привлечь на их сторону всех честных людей России.
Связь с Владимиром Кирилловичем Крайневым Щеглов установил еще в августе, находясь в Москве. Встретиться с Бибиковым ему помешал арест последнего.
Каково же было удивление Петра Евгеньевича, человека, в общем-то, привыкшего к неожиданным и не всегда приятным сюрпризам, когда Крайнев рассказал ему о нелепом случае, трагически решившем участь Степана Орестовича. Еще большим было его удивление, что участь эта совершенно непонятным и роковым образом связана с Иваном Дымовым, который скрывался от ареста в его доме в Покровках.
И Крайнев, и Щеглов, и Бибиков не были членами какого-то тайного сообщества. Такого сообщества, в которое они могли бы войти, тогда еще просто не существовало. По своим взглядам они были далеки и от тех, кто шел в народ, и от тех, кто исповедовал более решительные взгляды. Жизнь их складывалась по-разному, но вера была одна: они восхищались Парижской коммуной и видели в ней прообраз будущего.
Конечно, и им не были чужды порывы, но, наблюдая общество, они все более утверждались в понимании того, что история человечества – не слепое нагромождение случайных событий, а закономерный и сложный процесс. И именно в этой закономерности искали ответ на мучивший всех вопрос, каким же должно быть и их Отечество. Многие авторитеты, поначалу утверждаемые ими как безусловные, были отвергнуты, и, хотя Крайнев и сотрудничал с Лавровым, всех взглядов его он не разделял. Однако, узнав о том, что Щеглов едет в Россию, Лавров настоятельно рекомендовал ему разыскать Владимира Кирилловича. Что же касается Бибикова, то на мысль встретиться с ним навел Щеглова Крайнев, знавший о Степане Орестовиче через лавровских курьеров.
В то утро, когда у него были Зарубин с Сабуровым, а чуть позже появился Щеглов, Крайнев уже знал об аресте Бибикова и о том, что тот недавно отконвоирован в Петербург И именно это было предметом его беседы с Петром Евгеньевичем, затянувшейся далеко за полночь.
Теперь трудно сказать точно, кому именно принадлежала идея организации побега. Но так или иначе она увлекла обоих. Высказывались разные мнения, в том числе и о возможности провала, хотя об этом и говорить и думать старались меньше всего.
Узнав о дуэли, Щеглов между прочим на правах старшего пожурил Владимира Кирилловича за легкомыслие. Но Крайнев без особого труда убедил его в обратном: разыгрываемая им роль скандального хроникера обязывала подчас вступать и в более рискованные предприятия.
На том они и расстались: чуть свет Щеглов уехал на вокзал, а Крайнев час спустя отправился в Летний сад.
Следующая встреча была условлена между ними через неделю.
34
Бездеятельность, к которой Дымов был приговорен в Покровке, оказалась бы совсем невыносимой, если бы не близость Вареньки.
Отношения их продолжали оставаться неопределенными: случались дни, когда Варенька проявляла к нему повышенный интерес, донимала расспросами, сама много рассказывала и смеялась, а то вдруг замыкалась в себе и выходила из своей комнаты только к вечернему чаю с печальными припухшими глазами.
Так проходили дни в неясном и запутанном состоянии. Дымов подолгу бродил в окрестностях Покровок, беседовал с мужиками или сиживал с удочкой на берегу реки.
До сих пор представления его о деревне были по большей части вычитанными из книг, и, хотя книг этих, и художественных и экономических, прочитано было много, а в кружке много говорено о мужицкой силе, призванной преобразить Россию, увиденное и услышанное им в деревне поначалу смутило, а потом и вовсе его разочаровало.
Все чаще со стыдом вспоминал он о той самоуверенности, с которой обвинял Бибикова в преклонении перед Западом и небрежении к отечественной истории. Дымов горячился, Бибиков слушал его с вниманием, прихлебывал кофе, а когда он, выдохнувшись, замолкал, еще какое-то время выдерживал паузу и раздел за разделом, методично и зло, особенно зло, потому что спокойно, не оставлял камня на камне от его, казалось бы, неопровержимых доводов.
Зря, конечно, Дымов обвинял его в незнании отечественной истории. И деревню Бибиков знал. И знал еще кое-что другое.
"Ваши рабочие, – раздраженно говорил Дымов, – те же крестьяне". – "Не совсем, – с улыбкой парировал Бибиков. – Вот извольте-ка". И он приводил убедительные выписки из статистических сборников, подкреплявшие его мысль. "Цифирь мертва! – кричал Дымов. – Неужели вы и в самом деле верите, что русского человека можно разложить на какие-то там ваши координаты?!" – "Общество развивается по объективным законам, – холодно возражал Бибиков. – Да вот, не угодно ли почитать?" Он порылся в сундучке и протянул ему книгу в потрепанном бумажном переплете: "Капитал. Критика политической экономии. Сочинение Карла Маркса". – "Что это?" – удивился Дымов. "Почитайте, почитайте", – сказал Бибиков с нажимом. "Ну, если вы настаиваете…" Дымов книгу взял, полистал дома, отложил – скучно. Когда при следующей встрече Бибиков поинтересовался о впечатлениях от прочитанного, он солгал, что еще не кончил. Потом Дымову стало стыдно, он снова открыл книгу и снова отложил. Наконец оттягивать далее было просто неудобно: он выбрал свободный вечер, увлекся и просидел над книгой три дня кряду – ничего подобного до сих пор читать не доводилось. Правда, многого он не понял, кое-что казалось ему спорным, впечатлений было предостаточно, но еще больше возникло вопросов. Он кинулся к Бибикову, но не застал его; не застал он Степана Орестовича и на следующий день. С тех пор они больше не виделись. После провала с типографией Дымов бежал. Книга, конечно, пропала: она осталась у него на квартире. А жаль: сейчас бы самое время еще раз просмотреть отдельные главы, посидеть с карандашом, спокойно поразмышлять.
В обширной библиотеке Щегловых (стеллажи от пола до потолка) книги не оказалось (впрочем, с чего бы ей здесь появиться?), зато было множество других книг, большей частью по военной истории.
Как-то Евгений Владимирович застал его за "Наставлениями военачальникам" Онасандра.
– Интересуетесь? – спросил он, склонившись над его плечом.
Они разговорились. У Евгения Владимировича была великолепная память. Дымова поразило, с какой легкостью он цитировал не только современных, но и древних авторов.
Постепенно беседы их, тянувшиеся иногда до глубокого вечера, становились все более откровенными и доверительными. Кстати, выяснилось, что Щеглов-старший мечтал когда-то о военной карьере сына. К сожалению, Петр Евгеньевич избрал совсем другой путь. Об этом Евгений Владимирович говорил неохотно и с затаенной болью в глазах.
– Только не подумайте, – сказал он однажды, – будто я его осуждаю. Но нам, старикам, очень трудно понять современную молодежь. Конечно, в молодости и мы увлекались, но чтобы призывать к насилию и покушаться на государя-императора…








