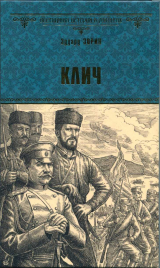
Текст книги "Клич"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Annotation
Россия, 1876 год. К императору Александру II доходят вести о турецких зверствах на Балканах. При дворе и в армии господствуют славянофильские настроения. И даже революционеры, за которыми неустанно охотятся жандармы, во многом согласны с властями предержащими – братьям-славянам надо помочь. Все уверены, что Россия должна начать войну с Турцией. Лишь престарелый князь Горчаков, отвечающий за внешнюю политику, настаивает на осторожности, ведь эта война может поссорить Россию с западными державами. Однако столкновение с Турцией неизбежно, в конечном итоге «славянский вопрос» будет решаться не в кабинетах, а на полях сражений, и решать его будут такие люди, как военный министр Милютин и генерал Столетов…
«Клич» – последний завершенный роман известного писателя-историка Эдуарда Зорина (1931–1989). Переиздается в честь 90-летия со дня рождения автора.
ОБ АВТОРЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
notes
1
2
3

Эдуард Павлович Зорин
УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(Рос)
3 86
Знак информационной продукции 12+
© Зорин Э.П., наследники, 2021
©ООО «Издательство „Вече“,2021
ОБ АВТОРЕ
Эдуард Павлович Зорин родился 28 сентября 1931 года в таджикском городе Кулябе в семье инженера-строителя. Раннее детство провел на Урале.
В 1953 году окончил факультет иностранных языков Ташкентского педагогического института, преподавал в средней школе, но также мечтал посвятить себя литературе, сочинял стихи, поэтому получил второе высшее образование – заочно окончил Литературный институт им. А.М. Горького, где посещал семинар известного советского поэта Ильи Сельвинского.
Первый сборник "В двадцать лет" издан в 1960 году в Ташкенте. Здесь же вышла книга "Красные карагачи", повести "Дарю вам сад" и "Следы ведут в Караташ", которые позволили автору в 1965 году вступить в члены Союза писателей СССР.
В 1967 году Эдуард Зорин переехал в город Владимир, работал учителем в Юрьевецкой школе, директором Бюро пропаганды художественной литературы. Уже во Владимире вышла поэтическая книга "Костры" (1969) и повесть "Соловьиный дозор" (1973), обе были опубликованы в Верхне-Волжском книжном издательстве.
С 1972 по 1985 год Зорин возглавлял Владимирскую писательскую организацию, периодически избирался ее ответственным секретарем. Коллеги по цеху отзывались о нём как о прирождённом лидере, который с большой неохотой придерживался установок "сверху", если эти установки противоречили его собственным убеждениям. Писателей Владимирской организации он всегда старался поддержать, помочь. Например, Владимир Краковский вспоминает, как его в семидесятые за повесть "День творенья" объявили диссидентом, а Зорин всячески помогал молодому писателю избежать гнева обкома партии.
К Эдуарду Зорину многие обращались за помощью, а вот как большого автора поначалу не воспринимали. О стихах отзывались достаточно холодно и оказались приятно удивлены, когда Эдуард Зорин в своём творчестве вдруг обратился к средневековой истории Владимирского края. Ранее никто из владимирских авторов эту тему так глубоко и детально не разрабатывал.
В 1976 году в Верхне-Волжском книжном издательстве вышел роман "Богатырское поле" – первый роман исторической тетралогии. В 1979 году – "Огненное порубежье", в 1982 году – "Большое гнездо" и наконец в 1983 году – "Обагрённая Русь". Эти романы принесли автору заслуженную славу не только во Владимире, но и по всей России. Переиздавались неоднократно.
Николай Лалакин, председатель Владимирского отделения Союза писателей России, говорит об этой тетралогии так: "Это как "Илиада" Гомера, потому что описываются такие события, когда происходило становление Русского государства. Здесь, именно на берегах Клязьмы, появилась Россия, и наша русская национальность сформировалась и закрепилась в борьбе. Кровь лилась. Зорин, можно сказать, это открыл".
В 1985 году Зорин был вынужден уйти с должности ответственного секретаря писательской организации, однако продолжал литературную деятельность. До самых последних своих дней работал над дилогией об уроженце Владимира – генерале Николае Григорьевиче Столетове (1834–1912). В 1989 году опубликовал первую книгу дилогии – "Клич", вторая осталась в черновиках, незаконченной.
Автор умер в результате продолжительной тяжёлой болезни 27 октября 1989 года. Похоронен на Улыбышевском кладбище города Владимира.
Избранная библиография:
Богатырское поле, 1976
Огненное порубежье, 1979
Большое гнездо, 1982
Обагренная Русь, 1983
Клич, 1989
1
– Да понимаете ли вы, милейший Дмитрий Алексеевич, в какую сложную диспозицию может нас ввергнуть в настоящий момент непримиримость в отношении Порты? – сказал князь Горчаков, откинувшись на мягком диване и рассматривая сквозь очки слегка прищуренными глазами проносившийся за окном вагона равнинный пейзаж.
Государственный канцеляр казался рассеянным, весь облик его выражал крайнюю степень усталости, но военный министр Милютин знал, что все это – тщательно продуманный маскарад, что Александр Михайлович Горчаков еще бодр не по годам и что многие из царедворцев, молодых выскочек, увивающихся вокруг императора Александра, опасно заблуждаются, распространяя злые анекдоты об умственной деградации и старческом маразме князя. Блестящий пример тому – недавняя дипломатическая победа над Бисмарком, позволившая Горчакову добиться у Германии отказа от попытки вторичного разгрома Франции.
Милютин слабо улыбнулся:
– Однако же, как мне думается, столкновение все-таки неизбежно.
Горчаков перевел взгляд на собеседника.
– Неизбежно? – Он помедлил. – А вы категоричны, Дмитрий Алексеевич…
Милютину послышалась в его голосе едва уловимая снисходительная усмешка. Князь самоуверен, и для этого у него есть все основания. Но разве Государственному канцлеру не известно, что за каждой его дипломатической победой стоят не только слова, но и пушки?
Казалось, Горчаков прочел его мысли.
– Пушки лишь закрепляют то, что уже предрешено за столом переговоров, – сказал он. – Мы не вправе оставить надежду на мирное решение вопроса…
– Порта не изолирована и не настолько слаба, чтобы ей диктовать наши условия. Полно вам, Александр Михайлович, опуститесь на землю. Настоящее положение дел вовсе не внушает доверия к успешному результату нашей дипломатии.
– Ого! – воскликнул Горчаков. – Это уже камешек в мой огород. Благодарю вас, милейший Дмитрий Алексеевич, покорнейше благодарю…
– Никто не умаляет ваших заслуг, любезный князь. – Милютин сдержанно покачал головой. – Но вспомните-ка наше пребывание в Варшаве. Присылка фельдмаршала Мантейфеля не имела другого значения, как только личное от императора Вильгельма удостоверение в сохранении чувств благодарности к нашему государю. А как намерена Германия держаться при дальнейшем ведении дела – так еще и не ясно.
В глазах Государственного канцлера проблеснули задорные огоньки.
– Метко. Очень метко, – отрывисто проговорил он. – У вас верный и точный взгляд на вещи. А сдержанность Англии?.. Наш циркуляр семидесятого года явно пришелся ей не по душе…
Милютин промолчал, однако же подумал: "Любит любезнейший прихвастнуть. Ох как любит".
Но на сей раз он ошибался. Циркуляр Горчакова, разосланный западным державам в момент разгрома Франции Пруссией, помешал Англии сколотить новую коалицию против России. Лондонская конвенция 1871 года подтвердила восстановление наших суверенных прав на Черном море. Это была большая дипломатическая победа.
Горчаков по-своему расценил затянувшееся молчание военного министра. Терпеливо, как школьнику, все более и более вдохновляясь, он принялся объяснять подоплеку сложившихся отношений западных держав к турецкому вопросу.
Милютин слушал его вполуха. Все, что говорил, и все, что скажет князь через минуту, было ему хорошо известно, да он и не собирался оспаривать или подвергать сомнению авторитет Горчакова. Безусловно, Александр Михайлович был человеком высокоодаренным и отлично разбирающимся во всех тонкостях дипломатии. Одно только настораживало Милютина: обладая огромным весом при дворе, не создавал ли канцлер в определенных влиятельных кругах видимость благополучия и не оставляла ли эта видимость в тени вопросы военного характера, на которые делали упор Милютин и его сторонники, остро чувствовавшие необходимость коренной реорганизации армии и оснащения ее первоклассным вооружением?.. Военный министр уже не раз сталкивался с непониманием сугубой важности этого предприятия не только со стороны старых специалистов и теоретиков (тем, как говорится, сам Бог велел), но и со стороны императора.
Поезд, покачиваясь на стыках рельсов, пересекал украинские степи – за окном вагона проносились раскиданные тут и там небольшие села с чистенькими, как на лубке, белеными хатами, утопавшими в пене тронутых желтизной садов; по неглубоким овражкам извивались пыльные шляхи с уныло бредущими волами, на бричках восседали до черноты загорелые дядьки, а в небе над ними кружили, распластав крылья, зоркие ястребы. Но взгляд Милютина, устремленный за стекло, схватывал одну лишь только видимость, не трогавшую его чувств и мыслей, потому что и чувства и мысли его были заняты совсем иным, упорно возвращали в прошлое и возрождали в нем совсем другие образы и картины.
Ни много ни мало – а позади уже целая жизнь. И прожита вроде бы не зря, но ощущение незавершенности начатого в последние годы все чаще и чаще беспокоило Дмитрия Алексеевича, он неожиданно просыпался по ночам, лежал с открытыми глазами или выходил в просторный зал своей петербургской квартиры, сидел, закутавшись в плед, у потухшего камина, и память со злорадной услужливостью возвращала его к недавним неудачам, связанным с военной реформой.
И ранее, и сейчас больше всего огорчала его позиция, занятая в этом вопросе князем Александром Ивановичем Барятинским. К тому же Барятинский был не одинок, горячо поддерживал его и тогдашний любимец царя – шеф жандармов и начальник Третьего отделения Петр Андреевич Шувалов, прозванный за свою почти диктаторскую власть Петром Четвертым. Но Шувалов Шуваловым, а с Барятинским Милютина связывало давнее знакомство: князь был кавказским наместником, когда Дмитрия Алексеевича прислали к нему начальником штаба. Это были добрые времена. Они оба принимали участие во взятии Гуниба и пленении Шамиля. Впоследствии Барятинский приложил немало стараний к тому, чтобы Дмитрий Алексеевич занял пост военного министра. Он же ввел Милютина с его братом Николаем в кружок великой княгини Елены Павловны, где в ту пору велись жаркие дебаты в связи с предполагавшейся отменой крепостного права. Казалось, всегда сходились во взглядах и вдруг – схлестнулись на самом главном. Александр Иванович неожиданно проявил себя жарким сторонником германской организации армии, выступил против Милютина в Государственном совете да еще возглавил против него целую кампанию в газетах "Русский мир" и "Весть", хотя публиковавшиеся в них статьи официально подписывали Черняев, Фадеев и Комаров.
Больно, очень больно разочаровываться в старых сподвижниках. Ну да Бог с ним: поссорились – помирились. В конечном счете Милютин одержал верх: с января 1874 года проект нового устава обрел силу закона. Тут бы ему и восторжествовать, но он первым подошел к Барятинскому с дружелюбно протянутой рукой, однако же князь сделал вид, будто не заметил его благородного жеста.
Дмитрий Алексеевич был человеком напористым, но в то же время простым и честным. В конце концов, рассуждал он, почему все должны соглашаться во мнениях? Но коль скоро вопрос исчерпан – и не путем каких-то там сговоров и интрижек – так не пора ли сесть и обсудить все за бутылкой доброго старого вина, ибо нет ничего крепче и надежнее давнишней боевой дружбы.
Надменность князя поразила и больно ранила Милютина: должность должностью, дело делом, но есть и еще нечто, чего ему никогда не преступить. Был он из небогатой дворянской семьи, всего, что есть, добился трудом и ревностной службой Отечеству, перед начальством спину не гнул, титулам не поклонялся. Манеры у него тоже не отличались безупречностью, мундир сидел мешковато, а прямота его шокировала придворных шаркунов.
Но Александр Иванович Барятинский, боевой командир, не раз стоявший с ним бок о бок под горскими пулями, неужто и он из той же надменной породы и нынче раскаивается, что взял его в высшие дворцовые круги?..
Нет, не по гладкой стезе, подготовленной знатными предками, катилась жизнь военного министра Милютина – по рытвинам и опасным косогорам. И неспроста намекнул ему однажды всесильный Петр Четвертый на судьбу его младшего брата Владимира, в прошлом участника кружка петрашевцев: у нас-де ничто не забывается. Владимир был профессором Петербургского университета, видным деятелем Русского географического общества. Его работы "Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции", а также "Мальтус и его противники" не только привлекли к себе внимание специалистов, но и явились причиной многих последующих неприятностей. Внесли они раскол и в семью Милютиных. Большой знаток военной истории, хорошо понимавший необходимость перестройки армии, во всем, что касалось политики, Дмитрий Алексеевич оставался умеренным либералом. Категоричность суждений Владимира раздражала и будоражила его – споры их порою кончались едва ли не ссорами, и тогда на помощь им приходил средний из братьев, Николай, с удивительной ловкостью умевший примирить, казалось бы, непримиримое. Правда, в ту пору работы и самого Николая Алексеевича создали ему в Петербурге репутацию "красного" либерала; на обедах, которые он устраивал, собирались люди, смело критиковавшие служебный быт и высших правительственных лиц. Однако же это не помешало ему провести в жизнь новое городовое положение для Петербурга.
Недавно, уже после смерти обоих братьев, Милютин узнал, что Николай был связан с Герценом, и именно поэтому государь так долго противился назначению его на должность товарища министра внутренних дел.
…Вот какие невеселые мысли проносились в голове генерала, в то время как Государственный канцлер, по-французски грассируя, развивал свои взгляды на нынешнюю политику России и ее возможные последствия.
– Да вы не слушаете меня, Дмитрий Алексеевич! – вдруг воскликнул Горчаков обиженно.
– Бог с вами, Александр Михайлович, – тотчас же отозвался Милютин, отворачиваясь от окна, – я слушаю вас. И даже очень внимательно.
– Впрочем, это неважно, – сказал канцлер, – мы еще с вами наговоримся вдоволь. В Ливадии нас ждет не только отдых, обеды, ужины и парады, но и совещания, совещания, совещания… Бог мой, как я устал от этих совещаний. Вроде бы все люди умные, а столько глупостей наговорят… Однако же не будем опережать события.
Милютин, казалось, не обратил внимания на его реплику и на первой же остановке поспешил откланяться.
2
Оставшись один, Горчаков с облегчением вытянул затекшие ноги, расслабился и прикрыл глаза.
Военный министр ошибался: Александр Михайлович не только не притворялся усталым и немощным, а даже, напротив того, в присутствии посторонних всячески старался выглядеть молодцом, что ему, увы, уже не всегда удавалось. Беседы с Милютиным были особенно утомительны: приходилось все время держаться настороже. Горчаков относился к Дмитрию Алексеевичу с двояким чувством: он видел в нем незаурядную, деятельную, а главное – честную натуру, каких так недоставало при царском дворе; в то же время он никак не мог подавить в себе неприязни, охватывавшей его при всякой встрече с генералом, – Милютин был человеком иного склада, к тому же язвительным; поговаривали, что многие обидные остроты в адрес князя вышли из его кабинета…
Старость научила Горчакова осторожности, дипломатическая служба приучила к самодисциплине. Дряхлый политик не внушает доверия – слова эти были когда-то произнесены самим Александром Михаиловичем и предназначались тогдашнему министру иностранных дел Нессельроде (мог ли он предположить, что спустя годы то же самое скажут о нем самом?!).
В свои семьдесят восемь лет князь обладал ясным умом и хорошей памятью, хранившей множество сведений по древней и новой истории, не лез за словом в карман, сыпал анекдотами и каламбурами к случаю; особенно оживляло его присутствие дам.
Как у всякого талантливого человека, у канцлера было много недоброжелателей, были и просто враги, которые распускали о нем нелепые слухи. Поговаривали даже, будто он находится на содержании у французских банкиров и давно уже не то что говорить, но разучился и думать по-русски. Какая чепуха!..
"Люблю французский язык потому, – писал он однажды, – что теперь он в обществе необходим, что он, конечно, по злоупотреблению сделался волшебною палочкою, по мановению которой каждый толстый швейцар с почтением отворяет двери и милости просит, что без него нигде показаться нельзя и что, словом, он сделался вернейшим признаком хорошего воспитания. Но я к нему не пристрастен до той степени, чтобы пренебречь отечественною словесностью. Нет, я не столь ослеплен, чтобы не чувствовать всех достоинств языка обильнейшего, благозвучного, богатейшего, люблю подчас заняться нашими писателями, восхищаться их мыслями, научаться их наставлением, и нередко французская книга принуждена уступить в руках моих русской…"
Юность, юность – неповторимая пора!.. В садах лицея прошла она – и канула в вечность.
Да полно – канула ли? Неужто в пепле прожитых лет не осталось и искорки, и ежели потух былой пожар, то ведь хранит же его хотя бы душевная память!
Не для чужих ушей, ловящих каждое его слово, сказанное порою мимоходом и без всякого умысла, не для суетного света, в котором он принужден был вращаться, берег старый князь дорогие сердцу воспоминания. В минуты невзгод и полуночных трудов он опирался на них, как опирается на посох утомленный долгими странствиями многоопытный путник.
Иной прожил жизнь и доволен собою: не обидел и малой птахи, всем угодил – и другу и недругу, супротивнику уступал, близкому слова поперек не вымолвил, сильного послушался, слабого утешил, а зароют в землю, сгрудятся у свежего холмика провожающие – и сказать нечего; постоят, помолчат и разойдутся восвояси, каждый к своим делам и заботам, и с годами сотрутся в памяти черты знакомого лица – вроде бы и был человек, и не был…
Настоящий государственный муж – не угодник и не паркетный шаркун, но и не сорвиголова, тут всему своя мера, однако в вопросах чести и личного достоинства оставался князь и по сей день непреклонен и даже чуточку старомоден. Крепка была в нем лицейская закваска: обид и унижений он не спускал, умел, если нужно было, постоять и за себя и за своих друзей…
В высших дворцовых кругах, а в особенности среди тех, кто постарше, хорошо помнили, как однажды Горчаков поставил на место прибывшего с государем в Вену всесильного Бенкендорфа.
Впоследствии сам Александр Михайлович описал этот случай в своих воспоминаниях так:
"За отсутствием посланника, я, исполнявший его должность в качестве старшего советника посольства, поспешил явиться, между прочим, и к графу Бенкендорфу.
После нескольких холодных фраз он, не приглашая меня сесть, сказал:
– Потрудитесь заказать хозяину отеля на сегодняшний день мне обед.
Я совершенно спокойно подошел к колокольчику и вызвал метрдотеля гостиницы.
– Что это значит? – сердито спросил граф Бенкендорф.
– Ничего боле, граф, как то, что с заказом об обеде вы можете сами обратиться к метрдотелю гостиницы.
Этот ответ составил для меня в глазах всесильного тогда графа Бенкендорфа репутацию либерала".
После этой стычки Горчаков вынужден был подать в отставку, которая была незамедлительно принята.
Но только ли столкновение с Бенкендорфом решило тогда его судьбу?
Спустя годы Горчаков узнал, что в действительности за ним давно уже приглядывали. Кое-кому была не по душе его трогательная дружба с опальным Пушкиным. Не прошли бесследно и его встречи с Пущиным. У Третьего отделения повсюду были свои глаза и уши: вдруг стало известно, что Горчаков знал о готовящемся на Сенатской площади злодеянии. Поскольку же прямых свидетельств, указывающих на это, не было, и притянуть его к следствию не представлялось возможным, решено было проверить его на благонадежность косвенно: отправить в Эдинбург к декабристу Николаю Тургеневу с требованием о его возвращении в Россию с повинной. Горчаков выполнил возложенную на него унизительную миссию, однако не счел нужным скрыть при этом своего неудовольствия.
Так постепенно, из года в год, распухало дело, заведенное на него в Третьем отделении. Стычка с Бенкендорфом в Вене лишь переполнила и без того уже полную чашу, и надо полагать, что именно после этого в досье появилась запись: "Князь Горчаков не без способностей, но не любит России".
Без сомнения, приложил к этому руку и подозрительный Нессельроде (впоследствии выяснилось, что он продавал Россию австрийцам оптом и в розницу, но Горчаков не дожил до этого дня!), постарались и другие, пониже рангом, но с непомерно развитым самолюбием (уж им-то спуску Александр Михайлович и вовсе не давал). Теперь многие из них ушли на покой, но слухи ползли и ползли, переживая своих сочинителей; иногда князь ворчал, но в правоте своей был уверен и место свое крепко знал; попробуйте-ка нынче написать историю России и не упомянуть Горчакова – дудки-с!..
…Лязгая буферами, поезд сбавлял скорость. За окном быстро темнело, проплыли какие-то постройки, показался плохо освещенный перрон какой-то захудалой станции.
Годы, годы… Годы давали о себе знать. К ночи нещадно ломило поясницу.
Канцлер покряхтел и потянулся к звонку.
– Принеси-ка, братец, горячего чаю, – попросил он появившегося в двери камердинера. Простое мужичье лицо, широкие скулы, окладистая борода.
– Сию минуту…
– Постой-ка, – задержал его князь.
– Чего изволите?
– Ладно, ступай, – раздумал Горчаков. Предстоящая бессонная ночь пугала его своей безответностью, хотелось с кем-нибудь поговорить, излить душу. Все меньше становилось вокруг него преданных, интересных людей: молодые шли дальше, вернее, приходили как бы совсем из другого мира; со стариками было скучно.
Милютин хоть и недолюбливал его (князь это остро чувствовал), а все-таки вызывал в нем живейшее участие. Жаль, рано ушел Дмитрий Алексеевич, – поди, и он бесцельно коротает вечерние тягостные часы: вместе бы им было веселее.
Горчаков поморщился: сам, сам во всем виноват – не слушал собеседника, один говорил без умолку, поучал, что уж всего хуже. Петушился, а перед кем?
Вошел камердинер со стаканом дымящегося чая.
– Благодарствуй, братец, – кивнул Горчаков.
Камердинер поставил чай на столик и вышел. Рассеянно помешивая ложечкой в стакане, Горчаков снова предался воспоминаниям…
3
Удалившись от Горчакова с твердым намерением отдохнуть, потому что последние дни, проведенные в Варшаве, были наполнены до предела всевозможными приемами, банкетами, официальными и неофициальными встречами, корпением до глубокой ночи над бумагами и депешами, Дмитрий Алексеевич Милютин с приятным чувством уже предвкушал предстоящий отдых, как был неожиданно встречен у своего отделения адъютантом, который сообщил, что он зван, и немедленно, к государю императору для личной беседы.
В глубине души Милютин подосадовал на такой поворот дел, даже, по-видимому, что-то досадливое невольно изобразил на своем лице, потому что замешкавшийся адъютант, лощеный и благоухающий французскими духами, прежде чем покинуть вагон, удивленно вскинул бровь, как-то неловко повернулся, задев Дмитрия Алексеевича локтем (вагон шатнуло), извинился и торопливо вышел.
Милютин наскоро привел себя перед зеркалом в порядок, сунул под мышку уже изрядно потертую папку в красном сафьяне с вензелями и отправился в царский вагон, даже отдаленно не предполагая, какого рода ему предстоит беседа, потому что с докладом он был с утра и никаких новостей с тех пор больше не поступало.
На перроне он столкнулся с помощником канцлера бароном Жомини, который сообщил, что только что на станции к ним присоединился ездивший в Болгарию дипломатический чиновник князь Церетелев.
– Он такое рассказывал, такое, – скороговоркой добавил Жомини. – Турки озверели. В конце концов пора их остановить: ведь мы, слава Богу, живем в цивилизованном мире…
– А что Горчаков? – оборвал его Милютин. – Он уже у государя?
– За князем только что послано.
Царь приветствовал военного министра без особой живости, и даже, как показалось Милютину, со скукой в лице. К тому же у него был несколько помятый и какой-то усталый вид. В салоне уже находились почти все, кто обычно присутствовал при докладе, среди них дипломаты Андрей Федорович Гамбургер, Фредрихс и свитские генералы.
Кивнув присутствующим, Милютин прошел к столу и занял свое обычное место рядом с государем. Вскоре появился князь Церетелев, а вслед за ним и Государственный канцлер. Непредвиденное совещание явно не вписывалось в размеренный распорядок дня старого Горчакова. Встретив у царского вагона князя Церетелева, он уже достаточно ясно представлял себе, о чем нынче пойдет разговор, потому что Церетелев ездил в Болгарию по его же настоятельному требованию с целью проверить на месте сведения о зверствах османов, красочно расписанных заграничными газетами.
– Мы рады, дорогой князь, – сказал царь, жестом приглашая Церетелева подойти поближе, – что вы с пользой выполнили возложенную на вас миссию и введёте нас в курс происходящих в Болгарии событий.
Князь Церетелев был высоким поджарым мужчиной, унаследовавшим от своих предков не только гордую осанку, но и характерный смугловатый оттенок кожи. У него были широкие плечи, осиная талия, мужественные, покрытые богатой растительностью руки, но высокий бабий голос Церетелева, едва только он открывал рот и произносил два-три слова, тут же рассеивал всякое очарование, а Милютина прямо-таки ввергал в молчаливую ярость (женоподобные мужчины были ему отвратительны).
Но Церетелев ничуть не подозревал о производимом им неблагоприятном впечатлении и даже намеренно старался говорить на еще более высоких регистрах, что, по его мнению, должно было усиливать драматическое впечатление от произносимой им речи.
Все, что он рассказывал, не было новостью, об этом уже не раз докладывали государю. Присутствующие слушали его с отрешенным видом: Гамбургер время от времени обмахивал подбородок и отвороты сюртука батистовым платочком, Фредрихс тайно позевывал в сухонький кулачок, а Александр Михайлович, вскинув гордую седую голову, холодно поблескивал стеклами очков; Милютин сидел с каменным лицом и рассеянно рисовал на лежащем перед ним листке бумаги веселых чертиков (давнишняя привычка, помогавшая ему бороться с сонливостью); мимолетным движением пальцев поглаживая бакенбарды, царь выпученными, как у отца, глазами разглядывал висящую над плечом Церетелева большую карту Балканского полуострова (за ужином он выпил две рюмки коньяку и чувствовал, как блаженно смыкаются веки); свитские генералы подобострастно пожирали глазами императора, но скука время от времени проступала и на их лицах…
Церетелев тем временем закончил свой рассказ о турецких зверствах, прокашлялся и вопросительно взглянул на государя (среди присутствующих возникло облегченное оживление).
Царь милостиво поблагодарил его.
– Господа, можете быть свободны, – сказал он, стряхивая дрему. – А вас, Дмитрий Алексеевич, – поворотился он к Милютину, – попрошу задержаться.
Проходя мимо военного министра, Горчаков не преминул заметить:
– Рассказ Церетелева, конечно, весьма впечатляющий, но не думаю, чтобы он хоть сколько-нибудь повлиял на нашу политику.
– Я тоже, – тотчас же согласился с князем Милютин.
Горчаков хмыкнул и недоверчиво покачал головой.
Сказав: "Я тоже", Милютин подразумевал, однако, и совсем другое, – говоря откровенно, он не надеялся на искреннее намерение царя заняться серьезным обсуждением вопроса. Нерешительность, с которой вел себя Александр, едва только дело касалось обостряющихся отношений с Портой, давно уже стала явлением обычным и даже обыденным. Казалось, необходимость каких бы то ни было усилий, связанных с принятием окончательных решений, ввергала государя в смертную тоску. Плыть по течению было куда способнее и покойнее.
Милютин понимал состояние Александра, даже в чем-то сочувствовал ему, хотя сам был человеком прямым и напористым (в напористости его убедились многие, когда он проводил в жизнь свою реформу).
– Вот видите, Дмитрий Алексеевич, – сказал ему между тем царь, кивком головы предлагая садиться поближе, – и так почти каждый день. Часа не проходит без того, чтобы кто-либо не напомнил о несчастной Болгарии. А уж от господ славянофилов и вовсе отбою не стало. – Царь развел руками. – Они даже проникли в мою собственную семью.
(Императрица Александра Федоровна, немка по происхождению, и наследник престола были ярыми славянофилами.)
Милютин сделал слабую попытку улыбнуться, чтобы хоть как-то выразить свое отношение к сказанному, но царь опередил его:
– Впрочем, вам это и так хорошо известно. При дворе нет альковных тайн, и, знаете, Дмитрий Алексеевич, даже самодержавный венец не ограждает от сплетен и пересудов…
Очевидно, он имел в виду не столько политику, сколько свою связь с Екатериной Николаевной Долгоруковой.
Милютин осторожно промолчал.
– Да-да, – рассеянно подтвердил Александр и, задумавшись, снова принялся внимательно изучать карту Балканского полуострова.
Воспользовавшись паузой, Дмитрий Алексеевич прикинул наскоро тот круг вопросов, который, очевидно, станет предметом сегодняшнего обсуждения. Он уже приблизительно знал, о чем любит расспрашивать царь, но на сей раз решил отойти от традиции и не столько отвечать, сколько попытаться, если это представится возможным, связно изложить свою точку зрения и обрести в лице государя своего надежного союзника. Может быть, на это его решение как-то повлиял только что выслушанный рассказ Церетелева, а может быть, и обращенное вскользь замечание князя Горчакова о неизменности политики, которой в любых обстоятельствах придерживается Александр. Трудно сказать, что именно. Но скорее всего то, о чем он намеревался говорить, было все-таки его твердым и сложившимся убеждением. Именно так и понял его Александр, едва только Милютин произнес: "Неизбежность военных действий настолько очевидна, что…"
– Полноте, Дмитрий Алексеевич, – оборвал государь, – к чему эта поспешность? Слава Богу, мы люди государственные и можем мыслить спокойно. Вы настаиваете на необходимости войны с Турцией? Что ж. Однако же я придерживаюсь несколько отличной точки зрения. Кто нас рассудит? Кстати, князь Горчаков не далее как сегодня утром выразил полное со мною согласие.








