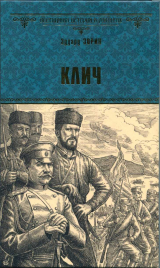
Текст книги "Клич"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
Дымов напомнил ему о декабристах.
– Увы, это было весьма прискорбное событие, – с неохотой пробормотал Евгений Владимирович и тут же переменил разговор.
С тех пор они больше не затрагивали события двадцать пятого года. По молчаливому соглашению не возвращались они и к спорам о современной молодежи. Это была взаимная уступка, которой оба остались довольны. Евгений Владимирович вспоминал эпизоды из Отечественной войны двенадцатого года, Дымов слушал его с интересом; иногда заговаривали о балканских событиях, и тогда Щеглов волновался, покряхтывая, ходил, шаркая домашними туфлями, по библиотеке, сочувственно отзывался о болгарах и сербах, обвинял царя в медлительности.
"Каково, – с восхищением думал о нем Дымов, – сколько еще энергии в этом дряхлом теле!" Идея освобождения балканских народов, которую с таким жаром развивал и отстаивал Щеглов, была близка и ему и не расходилась с его убеждениями. Многие из тех, кого он знал, уже сражались в Сербии и Черногории; о них доходили разные слухи, иногда преувеличенные, но ясно было одно: какие бы цели ни ставило перед собой правительство, люди эти были увлечены опасным и благородным делом; оружие было обращено против угнетателей. Очевидцы рассказывали, с какой подозрительностью осматривали на границе возвращавшихся из-под огня добровольцев: в их скудном багаже находили запрещенные книги и прокламации…
Дымов не сомневался в самых искренних намерениях Петра Евгеньевича, но время шло, наступил ноябрь, а об отъезде пока не возникало и речи. Однажды он высказался в том смысле, что жить на чужих хлебах, со всеми удобствами и без забот, представляется ему унизительным. Петр Евгеньевич выслушал его и промолчал. Тогда Дымов изложил свой план: если у Петра Евгеньевича и в самом деле надежные связи в Одессе, не пора ли воспользоваться ими, чтобы переправиться на Балканы?
– Это ваше твердое намерение? – спросил Петр Евгеньевич.
– Да, – сказал Дымов, – и чем скорее, тем лучше.
Петр Евгеньевич обещал подумать. Горячность молодого человека была ему понятна, но риск еще был слишком велик, и для серьезного предприятия необходимо было обзавестись надежными документами, а тут возникли непредвиденные осложнения: все мысли его сейчас были заняты Бибиковым и подготовкой его побега. Об этом он не мог и не хотел говорить Дымову.
Вскоре Щеглов снова исчез на несколько дней.
Как-то вечером Варя вошла в библиотеку, где по обыкновению занимался Дымов.
– Это серьезно? – спросила она его. Щеки ее пылали.
– О чем вы? – удивился Дымов.
Девушка была взволнована.
– Вы уезжаете! – с жаром воскликнула она и выбежала из комнаты.
За вечерним чаем Варенька была рассеянна и на обращенные к ней вопросы отвечала невпопад. Старый Щеглов рассказывал Дымову о каком-то эпизоде из свой бивачной жизни, когда Варенька неожиданно отодвинула чашку и сказала:
– Я иногда жалею, что не родилась мужчиной.
Это так поразило Дымова, что он весь вечер был сам не свой.
Утром Варенька вышла к завтраку как ни в чем не бывало, а после обеда долго музицировала в своей комнате на фортепьяно.
Скоро эпизод этот был предан забвению, и жизнь в Покровках потекла своей обычной чередой.
Правда, случилось еще одно событие, по-новому высветившее фигуру Щеглова-старшего.
Однажды Петр Евгеньевич небрежно спросил, отложив газету и повернувшись к отцу:
– Скажи-ка, а где твоя шпага с бриллиантами?
Евгений Владимирович сделал вид, будто не расслышал сына; на повторный вопрос буркнул, что, верно, завалялась где-то в чулане.
– Странно, – сказал Щеглов-младший, – ты так гордился ею, и она висела у нас вот здесь, на почетном месте. – Он указал на стену.
Отец внезапно вспылил:
– Не твое дело!
И, шаркая шлепанцами, поднялся в свою комнату. Щеглов озадаченно пожал плечами, но больше к этой теме не возвращался. Не вспоминал об этом и Евгений Владимирович.
Из дневника Вари Щегловой:
"…Он не понял меня!.. Он ничего не понял. А я сейчас знаю наверное: люблю, люблю Дымова. Господи, почему сейчас? Почему не вчера, не позавчера? Скоро мы должны расстаться. Уже все решено: он уезжает. Я случайно подслушала его разговор с отцом. Они оба сумасшедшие. Все вокруг меня сумасшедшие. Весь мир сошел с ума. А как же я? Отец сказал: едем в Лондон. Вот закончу свои дела – и едем. Какие дела? Почему в Лондон? А если я не хочу? Если я чувствую, а я действительно это чувствую, что мое место рядом с Дымовым?.."
35
Сам того не подозревая, Лихохвостов своим синим мундиром и рассказами о Сербии разбередил Ермаку Ивановичу душу, а восторженный прием, оказанный Пушке на владимирском вокзале, окончательно сразил героя Хивинского похода.
С грехом пополам прорвавшись сквозь толпу к отходящему поезду, потный от возбуждения Ермак плюхнулся на лавку и почти всю дорогу до Коврова сидел неподвижно, уставившись незрячими глазами на дородного соседа, очевидно, лабазника.
Ни пробегающий за окном вагона восхитительный осенний пейзаж, ни духота в отделении, ни попытки лабазника завести с ним обычную дорожную беседу не возымели никакого действия.
Примерно в том же отстраненном от мира состоянии он сошел и на ковровском вокзале, молча отыскал на площади под горой знакомого мужика с подводой, возившего на станцию пристава, и прибыл с ним в свою деревню, не проронив ни слова, хотя мужик и пытался выведать у него свежие губернские новости.
– Батюшки-святы! – воскликнула Глафира, увидев странным образом изменившегося мужа. – Аль с Агапием поссорился, аль не приветил тебя свояк?!
На вопрос ее Пушка не ответил, хмуро похлебал щей и весь вечер неподвижно просидел под образами в красном углу.
Утром Глафира проснулась от страшного шума, сотрясавшего избу: Ермак Иванович с ожесточением разбивал печь. Стоя над устилавшими пол осколками кирпича, Глафира всплеснула руками:
– Да что же это ты задумал-то, идол? Лонись только сложил новую печь, всем была на диво – да чем же она нынче-то тебе не угодила?
– Эк разбирает тебя, женушка, – задорно поблескивая глазами, с улыбкой ответил Пушка. – А и крышу пришла пора перекрывать – вовсе прохудилась, тебе же и невдомек.
– Да где же крыша-то прохудилась, коли прошлой осенью перекрывал?
– Мне виднее, – сказал Ермак Иванович и повернулся к жене спиной.
На этом утренняя беседа их закончилась. К вечеру изба была похожа на разоренное гнездо.
Глафира обежала соседей, степенные мужики приходили увещевать Пушку.
– Какая оса тебя ужалила, Ермак Иванович?
– Ступайте, мужики, с миром, – вежливо отвечал им хозяин. – Моя изба: что хочу, то и делаю.
Был резон в его ответе, и мужики ушли ни с чем. К вечеру и Глафира угомонилась.
Через три дня в избе стояла новая печь, и веселый огонь гудел в ее гостеприимном зеве. А Пушка вскарабкался на крышу и яростно принялся отдирать еще новые доски. Через неделю изба его белела свежевыструганными скатами, а Ермак Иванович ходил по деревне и приставал к соседям:
– Пользуйтесь, мужики, покуда добрый: кому новую печь сложить, кому крышу перекрыть?
Иные изумленно отстранялись от него, а иные отвечали:
– Перекладывай, коли охота. Перекрывай, нам не жаль…
Трудился Пушка не покладая рук, для всего товарищества. А потом вдруг остановился в задумчивости у недоложенной старостовой печи, покрутил в руках мастерок, стряхнул с рук глину и, не сказавшись хозяину, отправился домой.
– Все, – заявил он Глафире, – потрудился я для мира, а ты не в обиде – новая печь небось краше старой. А мне пора на войну.
Тут уж жену его чуть удар не хватил. Выронила она подойник с молоком да как завопит. На вопли ее сбежалась едва ли не вся деревня. И староста пришел, у которого Ермак не доделал печь.
– Нехорошо, Ермак Иванович, – сказал он, – жену обижаешь, а у меня печь без дымохода и трубы. Не прикажешь ли топить по-черному?
– А хоть и по-черному, – ответил Пушка, не стыдясь.
– Он у меня на войну собрался, – сквозь крики и вопли пояснила Глафира.
Усовестился староста и про печь свою не промолвил больше ни слова, только с изумлением глядел на Ермака. И вся деревня удивлялась и передавала из уст в уста: "Вот ведь какой герой наш Пушка!" Больше всех бабы старались, да вдруг примолкли: стали кой у кого и из них мужики собираться в дорогу. Тогда приступили бабы к Глафире:
– Отговори благоверного!
Но Пушку уже отговорить не мог никто: попала ему вожжа под хвост, ходил он по деревне петухом и собирал вокруг себя парней – иные были еще безусы, а иные, как и Ермак Иванович, тянули когда-то солдатскую лямку.
– Пойдем турка бить, – говорили все и велели бабам своим сушить сухари.
Истинное безумство охватило деревню, но когда дело дошло до проводов, то из всех мужиков остались только трое: Пушка, пастух Никодим да огородник Гешка. Остальных бабы позапирали в чуланах, а иных испортили уговорами. Да и куда им было идти, коли дома – семеро по лавкам!
Зато тем, кто уезжал во Владимир, устроили знатные проводы. Как на свадьбе, три дня и три ночи гудела деревня. Когда же пришла пора отправляться в Ковров на вокзал, недосчитались огородника Гешки: погулял, стервец, на собственных проводах да и в кусты. Ермака же и пастуха Никодима посадили в поезд со всеми почестями. И еще много почестей оказывали им в вагоне, потому что все, кто ехал в нем, читали газеты и знали о подвигах русских волонтеров.
Все бы хорошо, но во Владимире Пушку с Никодимом ждало плохое известие: бойкий чиновник сообщил им, что набор добровольцев временно прекращен и об этом вышло строгое предписание…
– Брехня это, – сказал Пушка, – не может такого быть.
– Да вот же она, бумага, – возразил чиновник и протянул Ермаку Ивановичу листок, но Пушка читать не умел и отодвинул бумагу вместе с чиновником, да так неловко, что тот упал.
Тогда позвали городового и Пушку, а заодно с ним и Никодима отвели в холодную.
Никодим принялся ныть и упрекать Ермака Ивановича, а в это время находившийся вместе с ними в холодной цыган стащил у него из мешка теплые рукавицы. Обнаружив пропажу, Никодим набросился с попреками теперь уже на цыгана, а Пушка послушал-послушал и дал цыгану в зубы, после чего рукавицы сразу же нашлись.
Самоуправство вылилось для Ермака Ивановича в печальные последствия. На крики и стенания цыгана вошел смотритель и пригрозил Пушке, что сгноит его в узилище, потому что в городе не так, как в деревне: здесь существует закон и порядок, на что Ермак Иванович молча извлек из-за пазухи Георгиевские кресты, протер их и повесил себе на грудь. Угрозы смотрителя сразу поутихли, и он бочком выскользнул за дверь.
Через некоторое время в холодной появился офицер и спросил у Пушки, из какой он деревни. Пушка назвал. Тогда офицер спросил, за что он получил Георгиев. Пушка сказал, что за Хивинский поход. Офицер покрутил в задумчивости пальцем перед носом и снова спросил, нет ли у Пушки кого-нибудь в городе, кто бы мог за него поручиться. И Пушка указал на Агапия Федоровича Космакова.
Офицер кивнул и вышел, а утром Ермака Ивановича и Никодима выпустили из холодной. В дежурке их ждал расстроенный и робеющий Агапий Федорович. А перед крылечком прохаживался в синем сербском мундире сияющий Лихохвостов.
Его только Пушке и не хватало! Стыдно стало за себя Ермаку Ивановичу, стыдно и горько, и он дал себе слово, что в деревню все равно не вернется, да и как вернется, ежели засмеют соседи? Пусть Агапий Федорович похлопочет – не голь же он перекатная, а сапожник; можно сказать, у всех на виду.
– Ладно, ладно, – закивал Космаков, лишь бы только уйти подальше от холодной.
– Ну и неугомонный же ты, Ермак Иванович! – повысил он голос, едва только они оказались дома. – Чуяло мое сердце, что все это кончится бедой, ох как чуяло!.. И ты тоже хорош, – набросился он на Лихохвостова, – почто сбиваешь мужика с правильной жизни?
– Вот тут ты и промахнулся, Агапий Федорович, – степенно возразил ему Лихохвостов и закинул ногу на ногу. – Пальцем попал в небо.
– Это как же так пальцем-то?
– А очень просто. Сразу видно, что отсталый ты человек, – продолжал Лихохвостов с раздражавшей Космакова усмешкой. – Не читаешь газет и вообще не видишь ничего вокруг дальше своих подметок… Нынче вся Расея поднялась, и свояк твой – не первый. Али нет в тебе мужицкого ражу, али вовсе оскудел ты на городских харчах и к тому же подбиваешь Пушку?
В прошлый-то раз Лихохвостов не был так красноречив. А тут как пошел разносить Агапия Федоровича – только пух и перья!
– Не слушай ты его, – обратился он к Ермаку Ивановичу, – у тебя своя голова на плечах.
Согласиться с Лихохвостовым Пушке вроде бы неловко было, так как только что выручил его Космаков из беды, но и не согласиться он не мог – собственные его мысли выговаривал Агапию Федоровичу бывалый волонтер.
А Лихохвостов в заключение так сказал:
– Ничего, не унывай, Ермак Иванович. Вот тебе моя рука…
"Живет в русском человеке извечная жажда справедливости и добра, – напишет впоследствии Николай Григорьевич Столетов. – Почти всю жизнь свою я жил бок о бок с простыми людьми и имел счастье наблюдать их не только в бою: готовность к самопожертвованию неосознанно сосуществует в них с природной скромностью и чувством юмора, умением совершать героическое без пафоса, с мужицкой обстоятельностью, даже с некоторой долей иронии по отношению к самому себе… Это очень сильные духом люди".
36
Из дневника Д.А. Милютина:
"1 октября. Пятница. – Каждый день государь сзывает к себе Государственного канцлера, гр. Адлерберга, Игнатьева и меня; прочитываются полученные телеграммы и депеши, обсуждаются ответы, и почти всякий раз расходимся в полном недоумении – как выйти из ловушки, в которую мы попали. Вчера и сегодня подтвердилось решение Порты предложить 6-месячное перемирие; выдумке этой радуются в Лондоне и Вене, несмотря на наши возражения.
Сегодня приехали в Ливадию министр финансов и ген.-л. Обручев. С первым я успел только обменяться несколькими словами пред обедом; с Обручевым же просидел несколько часов. Он привез массу всяких сведений и соображений касательно театра предстоящей войны. Первоначально я прочил его в начальники штаба предполагаемой действующей армии, но если главнокомандующим будет Тотлебен, то Обручев не пойдет к нему в начальники штаба, и, в свою очередь, Тотлебен не пожелает Обручева: они давно уже в отношениях неприязненных, с тех пор как Обручев, руководя ежегодными стратегическими поездками офицеров Генерального штаба в районе Варшавского округа, откровенно высказал свои суждения о недостатках наших крепостей. Тотлебен не может допустить, чтобы кто-либо, а тем более офицер Генерального штаба, смел вмешиваться в его владения – т. е. в сферу инженерного ведомства. Тотлебен до крайности самолюбив и обидчив".
Из перлюстрированного письма капитана Николаевского порта Н. Н. Андреева:
"Меня все более и более пугает ожидание войны, которая отразится на мне множеством хлопот и терзанием сердца, не могущего равнодушно переносить настоящие и грядущие бедствия нашей несчастной России. Готовятся здесь к войне очень усиленно, но ни строимые на песке крепости, ни привозимые из Петербурга и Кронштадта большие орудия, ни мины, которые намерены набросать при входе в Буг и Днепр, перед Севастопольскою бухтою, в Керченском проливе, перед Одессою, не спасут от разорения тех городов, над которыми захотят позабавиться турецкие броненосцы, и в предстоящей войне постыдимся мы еще более, чем постыдились в Крымской! Придется изъять из употребления медаль, выбитую в воспоминание войны Крымской, ибо она будет напоминать, что желание того, кто придумал вычеканить на ней слова: "да не постыдимся вовеки", не исполнилось. Но если дело обойдется без войны, то будет честь и слава императору. Он (да, кажется, еще Горчаков) только и сдерживает славянофило-башибузукский пыл Игнатьева и подобных ему злых честолюбцев".
Письмо В.В. Стасова члену Петербургского славянского комитета В.И. Даманскому:
"Многоуважаемый Владимир Иванович, покорно прошу вас довести до сведения Славянского комитета, что скульптор Антокольский поручил мне передать в распоряжение комитета колоссальный мраморный бюст Петра I, его работы, ценою 1800 рублей для употребления выручки на нужды славян, борющихся за свою независимость на Балканском полуострове. О чем мною было уже и напечатано в "Новом времени". Бюст находится в магазине Беггрова, на Невском проспекте, близ Адмиралтейства.
Ваш В. Стасов".
В начале нашего романа мы оставили Государственного канцлера Горчакова в царском поезде по дороге в Ливадию.
Потом мы сталкивались с ним лишь на страницах милютинского дневника, где он представал перед нами, увы, чаще всего, в несколько неблагоприятном свете. И поскольку у читателя может создаться превратное представление о нем самом и о той ответственности, которую ему приходилось нести на своих плечах, отправимся в Ореанду, тем более что путешествие это обещает быть приятным: в те дни погода в Крыму стояла солнечная и мягкая, море было спокойно, и по вечерам на набережной собиралось множество людей, желавших подышать живительным воздухом, а попутно и обменяться друг с другом новостями.
Не был чужд этих обыкновенных радостей и престарелый Александр Михайлович. Опираясь на трость и время от времени останавливаясь, чтобы поднести к носу понюшку табаку, он прогуливался с Александром Генриховичем Жомини, своим постоянным спутником и, как поговаривали, блестящим стилистом, перу которого якобы принадлежали почти все официальные бумаги, подписанные Горчаковым.
В последние дни Государственный канцлер выглядел несколько более озабоченным, нежели обычно.
И для этого были основательные причины. Только что состоявшееся совещание в Ливадии у государя, на котором кроме него присутствовали также министр военных дел (так его называл Горчаков) Дмитрий Алексеевич Милютин, министр императорского двора и уделов граф Александр Владимирович Адлерберг и генерал-адъютант Николай Павлович Игнатьев, давало ему богатую пищу для серьезных размышлений.
Нам же, для того, чтобы уяснить себе поведение Горчакова в эти дни, вызывавшее со стороны многих, даже близких к нему людей, многочисленные нарекания и даже неудовольствие, необходимо хотя бы в общих чертах обрисовать ту атмосферу, в которой ему приходилось работать.
Приучив себя мыслить широкими категориями, Александр Михайлович прекрасно представлял себе нынешнюю раскладку сил и те мотивы, которые диктовали поведение европейских стран в их отношении к будущему устройству Турции и славянских народов Балканского полуострова.
Люди, упрекавшие его в безразличии к судьбам болгар, сербов и черногорцев, были глубоко неправы, и это их непонимание особенно больно ранило Горчакова. Однако же, стоя у руля российской внешней политики, он не мог и не имел права поддаваться одним только эмоциям, пренебрегая хорошо известными фактами, которые ему как опытному политику нельзя было не учитывать, чтобы не оказаться перед лицом грядущей войны в полной политической изоляции.
Когда бы речь шла об одной только Турции, вопросов не возникало бы – у России к тому времени было вполне достаточно сил, чтобы продиктовать ей свои условия мира. Но кроме Турции была еще Англия, и была Австрия, номинальная союзница России по Тройственному союзу, а на деле главный ее конкурент на Балканах.
В случае безусловного освобождения славян Балканского полуострова и предоставления им полной самостоятельности Габсбургская монархия должна была смириться с неизбежным: потерей и своих населенных славянами территорий, а также значительных рынков сбыта.
С другой стороны, усиление России на Балканском полуострове представляло серьезную опасность и для Англии, которая видела в этом, и не без основания, вполне реальную угрозу коммуникациям, связывавшим ее с Индией. Государственному канцлеру было хорошо известно, что как раз в эти дни шли оживленные переговоры между английским кабинетом и турецким правительством о гарантиях, обеспечивающих господство Великобритании на Босфоре и Дарданеллах. Поднимался даже вопрос о возможности ввода в проливы английской эскадры.
Не оставалась безучастной к балканским делам и Германия. Всячески поощряя Россию на войну с Турцией, Бисмарк рассчитывал вернуться к вопросу отторжения от Франции Эльзаса и Лотарингии.
Но эта общая раскладка сил имела и свои оттенки и нюансы. Так, например, возникает вопрос, что же толкнуло Австрию на союз с Россией, когда возникла необходимость оказания помощи славянам Балканского полуострова? Действительно, на первый взгляд союз этот плохо вязался с общим направлением австрийской политики, но только на первый взгляд: ставя перед собой задачу присоединения к монархии Боснии и Герцеговины, Австрия вынуждена была поддерживать в этих областях антитурецкие настроения.
Горчаков учел эту особенность австрийской внешней политики и, не желая портить отношения с Веной, а также не желая допустить усиления ее авторитета как единственного покровителя славян, решил проводить вмешательство в балканские дела совместно с Австрией, что к тому же не противоречило принципам соглашения грех императоров.
Договоренность, казалось, была достигнута, но тут возникли новые трудности: если Горчаков настаивал на предоставлении народам Балканского полуострова самой широкой автономии, то министр иностранных дел Австрии Андраши намерен был ограничиться лишь минимальными мероприятиями. В противном случае он решительно отказывался от совместных действий. Скрепя сердце Александр Михайлович пошел на уступки. В результате был подписан так называемый Берлинский меморандум, который предполагалось немедленно вручить турецкому правительству. Германия присоединилась к России и Австрии.
Англия, которая в это время готовилась к захвату Афганистана, категорически отказалась поддержать даже эти минимальные требования европейских держав; более того, Дизраэли сделал все возможное, чтобы настроить Порту на отказ от переговоров: английский кабинет усматривал в них ослабление своего влияния в Турции.
Ввиду этого демарша Бисмарк и Андраши неожиданно пошли на попятную, но Горчаков продолжал настаивать на вручении меморандума, даже если Англия и не примет в этом участия.
Снова начались затяжные переговоры, а между тем положение Сербии становилось все более катастрофическим: турки развернули стремительное наступление на Белград. Снятый на время вопрос о возможности войны приобрел еще большую актуальность. Военный министр Милютин уже давал распоряжения о частичной мобилизации войск, проводил инспекционные поездки по черноморским укрепленным районам, генерал Обручев явился в Ливадию со своим планом возможных боевых действий на Балканском полуострове. Александру Михайловичу предстояло выработать дипломатическое обеспечение намечавшейся кампании.
В первую очередь, конечно, необходимо было заручиться нейтралитетом Австрии – в случае начала войны ее войска постоянно угрожали бы нашему флангу. Но для этого требовалось более основательно прощупать позицию, которую займет Германия, – без ее помощи Австрия на конфликт с Россией не решится, это было ясно: русские объединенные силы разбили бы ее в несколько дней.
Страстно желая русско-турецкой войны и еще больше русско-английской, Бисмарк не хотел войны русско-австрийской, так как это вынудило бы его делать выбор между Россией и Австрией. Если он не выступит на стороне Австрии, Австрия будет разбита, что усилит Россию, а это крайне опасно. Если же он выступит на стороне Австрии, то на стороне России выступит Франция, и самой Германии придется воевать на два фронта, что тоже весьма нежелательно. Правда, Бисмарк попытался через своего посланника Швейница пообещать активную поддержку России при условии, если она согласится на оккупацию Эльзаса и Лотарингии, но Горчаков решительно отверг это предложение. В то же время он со всей очевидностью понял, что в предстоящей кампании Австрии трудно будет рассчитывать на поддержку своего соседа, следовательно, договориться с ней о нейтралитете не составит большого труда. Таким образом, хотя бы в этот вопрос была внесена некоторая ясность.
До сих пор неясным оставалось только отношение Турции к Берлинскому меморандуму, в одном из главных пунктов которого содержалось требование немедленного заключения непродолжительного перемирия с Сербией. После этого предполагалось созвать конференцию западных держав с участием турецких представителей, на которой окончательно должен был решиться вопрос об урегулировании дел на Балканском полуострове.
Турция, подстрекаемая англичанами, хранила подозрительное молчание. Тогда по инициативе Горчакова ей был предъявлен ультиматум, в котором указывалось, что в случае ее отказа от перемирия в Сербии с ней будут разорваны какие бы то ни было дипломатические отношения.
И вот – ответ, который Дмитрий Алексеевич Милютин назвал "ловушкой": турки вроде бы сделали миролюбивый жест и предложили перемирие сроком на шесть месяцев.
На совещании в Ливадии Александр Михайлович решительно высказался против.
"За шесть месяцев Порта перевооружит свою армию и снова начнет войну", – сказал он.
"Так что же вы предлагаете?" – растерянно спросил царь.
Горчаков помедлил; он понимал, что теперь от его позиции зависело многое: предстояло либо принять предложение Турции, которое вполне устраивало Англию и Австрию, либо решаться на сепаратное выступление. Присутствующим на совещании не следовало объяснять, что, приняв условия турок, они давали молчаливое согласие на оккупацию уже захваченных ими сербских территорий, а созыв мирной конференции автоматически откладывался на полгода, в течение которого могла измениться и сама расстановка сил: серьезно настораживала та легкость, с которой приняла Австрия турецкие предложения, об Англии не стоило и говорить.
Вот тут-то и было произнесено слово "ловушка".
"Ловушка?" – рассеянно переспросил Александр Михайлович.
И сразу же в разговор вступил Милютин.
"Я вижу, что у нашего любезного князя, – сказал он с желчью, – нет по этому поводу сколько-нибудь существенного предложения".
"Уступить Турции?" – спросил Адлерберг.
Это взорвало Горчакова.
"Ни одно из моих предложений, да будет вам известно, любезный граф, – сказал он, жестко блеснув стеклами очков, – не принималось мною единолично. Не далее как вчера вечером, да-да, именно вчера вечером, вы сами высказывали мне всяческие симпатии и в совершенно определенных выражениях поддерживали сделанные мною заявления".
Адлерберг, не ожидавший столь быстрой и столь решительной реакции Государственного канцлера, выглядел заметно смущенным. Царь с сочувствием посмотрел на своего любимца.
"Не горячитесь, Александр Михайлович, – сказал он, – ведь вас же никто не обвиняет. Однако мне бы хотелось все-таки услышать ваши соображения".
"На предложенное нам перемирие нельзя идти ни при каких условиях", – ответил Горчаков и, чтобы скрыть волнение, вытащил табакерку.
"Как прикажете понимать?" – удивился Милютин.
"Вернее, условие одно, – пояснил Горчаков (кажется, он снова обрел свое обычное спокойствие). – Условие одно, и более никаких условий: либо перемирие на один, от силы два месяца и созыв конференции, либо…"
"Либо?" – подался к нему, приподнявшись с кресла, Милютин.
"Либо дальнейшие события, – улыбнулся Александр Михайлович, – будут развиваться уже по вашему ведомству".
"Значит, война?" – упавшим голосом переспросил царь.
"Может быть, кому-то известен другой выход?" – Горчаков обвел взглядом присутствующих и задержался на лице Милютина. Военный министр молчал.
"Так что же нам ответить сербам?" – спросил граф Адлер-берг.
"Думаю, им следует передать ультиматум Александра Михайловича", – съязвил Милютин.
Горчаков не принял его вызова. Конечно, и он мог ответить Дмитрию Алексеевичу не менее хлесткой остротой, но обычная перепалка была сейчас неуместна.
Все смотрели на него с ожиданием. В напряженной тишине слышалось лишь равномерное постукивание часов.
"Полагаю, – сказал наконец Горчаков, – что нам следует быть готовыми к любым неожиданностям. Я не могу решительно гарантировать успешного завершения переговоров, но наше требование неизменно".
"Что я слышу! – воскликнул Милютин. – Доблестные дипломаты, кажется, намерены ретироваться?"
"В определенных условиях, уважаемый Дмитрий Алексеевич, – спокойно возразил Горчаков, – война является всего лишь продолжением дипломатии в иных обстоятельствах и иными средствами".
На этом короткое совещание закончилось. Решено было собраться через три дня, и в более широком составе: кроме Горчакова, Милютина, Игнатьева и Адлерберга предполагалось пригласить также цесаревича Александра и министра финансов Михаила Христофоровича Рейтерна.
"Посмотрим, что предложит нам наш главный казначей", – сказал царь с невеселой улыбкой, которая выдавала его глубокую озабоченность…
"Скорее всего, ничего утешительного Рейтерн предложить не сможет", – размышлял Александр Михайлович, прогуливаясь с Жомини по набережной и любезно раскланиваясь с встречавшимися на их пути знакомыми.
Князю иногда казалось, что все смотрят на него с каким-то особенным любопытством, что могло быть и игрой его воображения, и тем весьма прискорбным обстоятельством, что с некоторых пор содержание многих секретных совещаний сделалось предметом самого широкого обсуждения. Даже дамы, собираясь на вечерний чай, смело вступали в разговор и высказывали мнения, которые никак не могли быть следствием их собственных размышлений. Сплетни плодились с быстротою инфекции, досужие вымыслы выдавались за правду, и без того сумбурная жизнь двора становилась вследствие этого еще более сумбурной.
Вспомнить хотя бы порочащее Горчакова письмо, о котором было столько разговоров. Пусть нашелся какой-то негодяй, решивший инкогнито поднасолить Государственному канцлеру (за долгую и беспокойную жизнь Горчаков получал немало таких писем), но что за охота была Дмитрию Алексеевичу передавать его содержание государю? Александр II обеспокоился, поделился своим возмущением с Адлербергом, тот еще с кем-то, и вот уж почти совсем незнакомые люди встречают Горчакова на улице и выражают свое соболезнование. Кому это было нужно?
Правда, Жомини высказал предположение, что все это, скорее всего, происки самого Милютина, но Александр Михайлович тут же и весьма категорично оборвал его, заметив, что впредь просил бы имя министра военных дел не поминать всуе – по его мнению, Дмитрий Алексеевич весьма воспитанный человек, к тому же открытая душа и умница; свое неудовольствие он высказывает прямо, тем более что для этого у него всегда есть подходящая возможность.
Больше к подобным разговорам Жомини не возвращался.
На каменистом молу у самого прибоя Горчаков сел на специально сделанную для него скамеечку, прислонил рядом с собою массивную трость и погрузился в продолжительное молчание.








