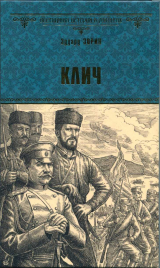
Текст книги "Клич"
Автор книги: Эдуард Зорин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Милютин лукаво прищурился:
"Ой ли, Александр Михайлович! Это с вашим-то опытом? Знаете, я не верю в дворцовые сплетни, а вот то, что вы человек упрямый, могу утверждать наверняка. Давайте выскажемся начистоту. Как ни страшна война, но теперь есть еще шансы привести ее довольно скоро к желаемому результату. Союз трех императоров, по крайней мере на первое время, может обеспечить наш тыл; Франция и Италия склонны воздержаться от прямого участия; даже сама Англия торжественно заявила, что не намерена действовать ни против, ни за Турцию. В этом положении Европы много фальши, я согласен; но отчасти от нас самих зависит не дать этой фальши всецело развиться против нас. Быстрый, решительный успех нашей армии может сильно повлиять на мнение Европы и вызвать ее на такие уступки, о которых теперь нельзя и думать. Допустив же мысль мира во что бы то ни стало и дав противникам хотя малейший повод подозревать нас в слабости, мы можем через несколько же месяцев быть втянуты в решительную войну, но уже при совершенно других, неизмеримо худших обстоятельствах…"
Хотя военный министр и раньше не отличался особой деликатностью, но на этот раз он превзошел самого себя: в словах его прозвучали нотки превосходства, которые неприятно поразили Горчакова; Дмитрий Алексеевич словно бы наслаждался, высказывая мнение, которое теперь уже опровергнуть было невозможно. А ведь осенью прошлого года, да и зимой еще, говорить с такой определенностью – значило бы проявить дипломатическую близорукость.
Конечно же, и Александр Михайлович понимал: безрассудно цепляться за мир во что бы то ни стало, и зря Милютин обвинял его, но все-таки в чем-то он был прав, когда с такой откровенностью, на которую способны были далеко не все, давал убийственную оценку поведения западных союзников. К сожалению, сам Горчаков понял это слишком поздно.
А ведь еще до того, как был подписан Лондонский протокол, Нелидов сообщал из Константинополя, что турецкий посол в Лондоне Мусурус-паша распространял упорные слухи о том, что переговоры прерваны и что даже английские министры рассматривают войну как неизбежность. В Лондоне якобы был подготовлен план захвата Дарданелл, а английская печать усиленно распространяла слухи о неизбежности англо-русской войны.
"Вследствие этих сообщений, – писал Нелидов, – в воскресенье во дворце был собран Совет, и на нем было решено:
1) немедленно провести выпуск новых ассигнаций на сумму около 10 млн. ливров;
2) призвать мустахфис (3-й разряд запаса редифов) в количестве 120 тыс. человек и
3) отозвать с Мраморного моря эскадру броненосцев, крейсировавшую там, и поставить ее на якорь у входа в Босфор. Морской парад, назначенный на следующий понедельник, отложен.
Одновременно Мухтар-паша получил приказ отправиться на свой пост в Эрзерум, и была развернута усиленная деятельность по погрузке и отправке военных материалов, постоянно прибывающих из-за границы…"
Над этим еще тогда следовало призадуматься и не возлагать особых надежд на искренность западных держав. Как это сказал Милютин? "Европа из зависти к нам готова поступиться даже собственным достоинством?" Крепко сказано!..
Будучи человеком справедливым и откровенным (по крайней мере, наедине с самим собой), Александр Михайлович не мог не отметить твердую убежденность, с которой говорил Милютин. Он хорошо и очень точно высказывался о мире и о войне, умно объединял факты и строго выстраивал выводы. Подобной ясности можно было позавидовать.
Горчаков пошевелил щипцами переставшие источать жар угли в камине, поежился и, прикрыв глаза, казалось, задремал.
Но он не спал. Он чутко прислушивался к бушевавшей за окном последней мартовской метели, время от времени вздрагивал, поправлял сползавший на колени клетчатый шотландский плед и мучительно думал.
Война, которая была не за горами, как бы автоматически освобождала его от дальнейшей ответственности, что должна была лечь отныне на плечи военного ведомства. Но он не мыслил себя в стороне от дел и не собирался на роль спокойного наблюдателя, а поэтому твердо намеревался просить у царя разрешения при открытии военных действий постоянно находиться при действующей армии…
57
"Императорский кабинет исчерпал все средства примирения для установления прочного мира на Востоке путем соглашения между великими державами и Портой.
Способ, которым оттоманское правительство отклонило все сделанные ему последовательно предложения, и отказ, который оно противопоставило протоколу, подписанному в Лондоне 19 марта, а также декларации, сопровождавшей этот акт, не оставляют больше места ни для переговоров, ни для надежды на соглашение, основанное на желании Порты предоставить гарантии, требуемые Европой во имя всеобщего мира.
Император, мой августейший государь, предписал мне в связи с этим разорвать дипломатические отношения и покинуть Константинополь с персоналом посольства и русскими консулами. В то же время я имею приказ его императорского величества обратить внимание Порты на серьезную ответственность, которая лежит на ней, если где-либо на территории Оттоманской империи будет поставлена под угрозу безопасность не только наших подданных, но и всех христиан, подданных султана, или иностранцев".
Царь внимательно прочитал текст ноты, повертел в руках красный карандаш, которым он по обыкновению делал на полях документов свои замечания, но ничего менять не стал, прошелся по кабинету и остановился прямо против Александра Михайловича. Лицо его было бледно и рассеянно, синие мешки под глазами свидетельствовали о беспокойно проведенной ночи.
Вчера вечером Горчаков ознакомил его с последними сообщениями Нелидова из Константинополя, и тогда же было решено предписать ему немедленно выехать со всем составом посольства из Перы в Буюкдере и составить ноту, которая лежала сейчас на столе Александра вместе с письмом, адресованным временному поверенному.
Письмо царь несколько смягчил, зачеркнув две фразы: "Мы должны добиться принуждением того, чего Европа не смогла достичь убеждением" и "Заявив, что русские армии получат приказ о выступлении".
– То-то же порадуется Александр Иванович, – невесело пошутил царь, возвращая бумаги Горчакову.
Государственный канцлер резко вскинул голову, и стекла его очков сверкнули.
– Да-да, – сказал царь, – теперь все позади. Вам не следует упрекать себя, Александр Михайлович, с вашей стороны было сделано все возможное. Как это мы выразились в нашей ноте? Ах да – "все средства примирения исчерпаны". Очень точно, не так ли?..
Царь говорил мягко и словно бы даже с некоторым облегчением; Горчакову даже показалось, что он в чем-то чувствует свою вину перед ним и ласковостью старается сгладить то впечатление, которое у него могло остаться после бывших между ними довольно резких стычек.
Последнее время обстановка во дворце и в Царском Селе была напряжена до крайности. Все нервничали и говорили друг другу колкости. Кажется, один только Горчаков сохранял относительное спокойствие, но никому и в голову не приходило, каких это стоило ему усилий.
Казалось, Александр угадал его состояние. Скорее всего, конечно, это были обыкновенные дежурные фразы, так как царь не отличался особой чувствительностью, но все-таки они подействовали на канцлера ободряюще.
– Дай-то Бог, чтобы все было позади, ваше величество, – сказал он растроганно. – Однако же опасаюсь, что нам еще предстоят серьезные испытания.
– Да, конечно, – быстро согласился царь, – но только совсем иного рода. Согласитесь же наконец, что неизвестность действовала на всех угнетающе. – Он повернулся к Милютину: – А что вы скажете, любезный Дмитрий Алексеевич, чем нас порадуете?
– Мобилизация проходит нормально, хотя отовсюду получаются известия о прекращении сообщений то от разливов рек, то от повреждений дорог, то от ледохода, – сказал военный министр. – Однако все это не столь важно. А вот сообщения из Кишинева не совсем благоприятные.
– В чем дело? – насторожился царь.
– Оказывается, большая часть войск будет направлена пешим порядком, ввиду слабой провозоспособности румынских железных дорог. Но при этом выступление войск эшелонами растянуто на такое продолжительное время, что не могу не подивиться чрезмерной медлительности, зная энергичный характер нашего главнокомандующего.
Царю не понравилось замечание в адрес Николая Николаевича, но он уже попривык к резкому тону Милютина и сделал вид, будто ничего не случилось.
– Вы телеграфировали в этом смысле? – спросил он.
– Да, но получил ответ, что сделанного расчета изменить уже невозможно. Крайне будет прискорбно, если с самого начала действий мы не покажем энергии и решительности.
– Понимаю, – кивнул Александр, – но отсюда трудно направлять распоряжения. Отложим разъяснение этого вопроса до нашего прибытия в Кишинев.
Не очень-то убежденный последним аргументом, Милютин тем не менее возражать не стал.
– А что, – засмеялся царь, чтобы несколько разрядить обстановку, – замолкли ли наконец ваши доброжелатели из "Русского мира" и петербургского яхт-клуба? Убедили ли мы их в полезности наших реформ?..
– Сдается мне, – усмехнулся Дмитрий Алексеевич, – что их истерика была даже нам на пользу.
– Каким же образом? – удивился царь.
– А очень просто, – сказал Милютин, усаживаясь посвободнее, так как официальный разговор был закончен. – Все эти слухи и толки о неподготовленности нашей армии дошли до англичанина Велеслея, и тот, желая угодить своим хозяевам, распространил их в печати, так что и турки в это поверили. Успешная же мобилизация и превосходное состояние наших войск были для них полной неожиданностью. Остряки теперь говорят, что Военное министерство выдержало строгий экзамен.
Затем разговор как-то незаметно перекинулся на финансовые вопросы: война требовала больших дополнительных затрат, и с этим невозможно было не считаться.
Александр со смехом вспомнил длительную тяжбу с министром финансов Рейтерном из-за трех миллионов рублей золотом, которые запросил великий князь Николай Николаевич для заграничных расходов. К нему ездил Милютин с распоряжением даря выдать требуемую сумму, но Михаил Христофорович заупрямился, так что пришлось довольствоваться двумя миллионами. Впрочем, Рейтерна можно было бы и уломать, если бы не вмешался государственный контролер генерал-адъютант Грейг, с которым Милютин даже поскандалил.
Все это немножко развеселило присутствующих; с совещания расходились в приподнятом настроении. Когда все поднялись, чтобы попрощаться, царь торжественно объявил, что намерен выехать из Петербурга в действующую армию в половине будущей недели, так, чтобы прибыть в Кишинев за день до перехода войск через границу. Там же будет подписан и манифест о войне.
Милютин, граф Адлерберг и Игнатьев, присутствовавшие при разговоре, задержались во дворце; Александр Михайлович Горчаков сразу же, сославшись на нездоровье, уехал к себе домой.
58
3 апреля, вечером, царь принял в Зимнем дворце начальника Главного штаба Федора Логгиновича Гейдена и имел с ним продолжительную беседу о формировании болгарского ополчения.
В свое время, еще в ноябре 1876 года, Военное министерство по просьбе Николая Григорьевича Столетова обратилось к Славянскому комитету за помощью в изготовлении обмундирования для ополченцев: до официального объявления войны заниматься этими вопросами открыто не представлялось возможным; в это же время на счет Славянского комитета было переведено 112 129 рублей 60 копеек. Что же касается общего материального содержания болгарского ополчения, то оно производилось правительством за счет чрезвычайного военного кредита.
С присущей ему обстоятельностью и педантичностью Федор Логгинович, отправляясь во дворец, подготовил докладную записку, которую сейчас и зачитывал царю:
– Сумма денег, потребная на формирование и на содержание ополчения, согласно прилагаемым штатам и правилам, будет простираться до 117 тысяч 573 рублей, не включая в это число денег на провиантское и приварочное довольствие нижних чинов и фуражное офицерских строевых и подъемных лошадей.
– Откуда вы взяли именно эту цифру? – скучающим голосом прервал его Александр. – Из какого вы исходили расчета?
– Вышеозначенный расчет составлен согласно с представлением его императорского высочества главнокомандующего действующею армиею, – смутившись, ответил Гейден, – исключая того, что число повозок увеличено с 90 до 101, а лошадей с 180 до 202, ввиду того обстоятельства, что по числу офицеров, назначаемых в ополчение и применительно к существующим в наших войсках положениям, полагалось бы необходимым в каждой дружине иметь вместо одной по две офицерские повозки.
Покопавшись в бумагах, Федор Логгинович попытался было продолжить свои объяснения, но царь остановил его нетерпеливым жестом руки.
– Я надеюсь, вы ознакомили с запиской генерал-адъютанта Милютина?
– Да, Дмитрий Алексеевич в курсе дела.
– В таком случае опустим это. Скажите-ка лучше, как продвигается само формирование?
– Вполне удовлетворительно. Некоторые из числа офицеров, назначенных в ополчение, уже отправлены в распоряжение штаба действующей армии, равным образом выбраны и нижние чины для кадров дружин…
– Очень рад за Столетова, – сказал царь. – Насколько я помню, сначала он не очень горячо воспринял свое назначение?
– Это естественно, – заметил Гейден. – Видимо, он рассчитывал на более почетную должность при нашей действующей армии. Ведь все зарекомендовавшие себя генералы…
Александр оборвал его:
– Не все зарекомендовавшие себя генералы, далеко не все. А что касается Столетова, то его кандидатуру предложил военный министр. Кажется, они вместе служили на Кавказе?
Гейден тотчас же отметил про себя, что у даря прекрасная память. Милютин как-то говорил: "Голова его – живая хроника".
Царю понравилось произведенное им впечатление, и он продолжал:
– Назначение Столетова я считаю очень правильным. Знание турецкого языка, несомненно, сослужит ему немалую пользу. Но в чем-то вы и правы, не думаю, чтобы ополченцы приняли участие в жарком деле, а всякому генералу лестно отличиться в бою.
– Между тем по донесениям, которые мы получаем, они рвутся в бой.
– Все рвутся в бой, и впереди всех даже такой сугубо штатский человек, как Иван Сергеевич Аксаков, – холодно заметил царь, – но нынешняя кампания – не партизанская война. Вы это понимаете?..
Телеграмма командира 3-й дружины болгарского ополчения майора А.Б. Чиляева К. Цанкову
"Северин
Сегодня отправил 6 человек болгар. Прошу вас дать им средства отвезти знамя до Кишинева.
Ниляев".
59
Из дневника Вари Щегловой:
"…В субботу была во Владимире. Весна в полном разгаре. На полях еще лежит местами снег, но в городе все растаяло. Солнышко под стать всеобщему приподнятому настроению. Все убеждены, что война начнется со дня на день. Зашла в присутствие, говорила о своем желании ехать сестрой милосердия. Какая-то сердобольная дама долго меня отговаривала, но потом, убедившись в моей решимости, прослезилась и отвела в комнату, где другая дама, строгая, с сухощавым, постным лицом, внесла мою фамилию в лежавший перед нею на столе список. "Что делать дальше?" – спросила я. "Ждите", – сказала дама. Ну вот и все… Дымов по-прежнему молчит. Я, конечно, понимаю, как мала вероятность нашей встречи, но втайне надеюсь и даже в мечтах рисую ее себе со всеми подробностями… Аким с Прасковьей ошеломлены моим поступком. Аким только вздыхает, а Прасковья, по обыкновению, плачет. Скорее бы…"
«ОПАСНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ»
(из передовой статьи газеты "Голос" № 91, 3 апреля 1877 г.)
"Готовы ли мы к войне? О внешней готовности нашей излишне и говорить. Не только мы и друзья наши, но и враги России перестали сомневаться в нашей готовности к войне после того, как часть русской армии стоит уже во всеоружии, готовая по слову государя перейти Прут и Араке. По этому великому слову Европе суждено, быть может, увидеть обновленную, свободную Россию, впервые выступающую на международной арене с полным сознанием принимаемого на себя долга, с точно определенною, высокою защитою чисто гуманных, общечеловеческих интересов. Никакие своекорыстные стремления или эгоистические расчеты не затемняют высокой цели, достижение которой будет возложено на обновленного русского солдата. Европа увидит русскую армию, которая не добивается ни военной контрибуции, ни денежного вознаграждения, ни территориального приобретения, а, исполняя "святое призвание" того народа, из которого эта армия вышла, требует улучшения участи турецких христиан и больше ничего.
Высокая задача, идеальная цель! Готовы ли мы к ней внутренно? Если бы были готовы, давно уже достигли бы цели, исполнили задачу, свершили святое призвание без тех кровавых жертв, которые, может быть, скоро потребуются. Ставить в вину нам эту внутреннюю неготовность, по меньшей мере, ошибочно. Мы еще молоды; годы своего нравственного возрождения мы едва лишь начали считать десятками; в нашем народном самосознании первым светлым явлением рисуется событие, случившееся не ранее, как только 19 февраля 1861 г., когда мы впервые начали совлекать с себя ветхого человека…
Нет, именно во имя западной цивилизации, во имя европейской свободы надеемся мы перейти турецкую границу. Не старинные русские порядки собираемся мы вводить в чужом государстве – мы хотим только улучшить быт христиан на Балканском п-ве, изнемогающих под игом антиевропейского, азиатского строя. Наша сила именно в тех общечеловеческих началах, которые мы принесем на штыках после того, как нас не допустили внести их мирным путем преобразований и реформ. Ни Европа, ни даже Турция не могут указать в нашем подвиге, бескорыстном, честном, гуманном, ничего такого, что было бы недостойно "святого призвания", нами на себя возложенного. Мы идем исполнить то призвание, которое признано, формально одобрено всею Европою, и несем с собою требование тех реформ, которые не желает или не может исполнить Турция. Часто повторяемое туркофилами указание на важнейшую реформу, уже исполненную, – на турецкую конституцию, не выдерживает критики: при всей важности этой реформы для общего строя жизни Оттоманской империи, в этой реформе нет элементов, способных улучшить быт христианских оттоманов.
К такой великой и трудной задаче, которую мы принимаем на себя, должно приготовляться внутренним самоочищением, вызывая к деятельности все нравственные силы, приобретенные нами в течение двадцатилетнего мира, а не отречением от лучших плодов его и возвращением к дореформенному порядку вещей. Будем же строги к себе и взыскательны; напряжем все наши средства и внесем в турецкие пределы живые плоды европейской науки и цивилизации. Вот в чем заключаются шансы успеха, а не в глумлении над образованностью, не в порицании Западной Европы и ее цивилизации".
60
В Москве лютовали холода, а в Одессе, куда они направились, была уже совсем весенняя погода. Щедрое солнце согнало с крыш снега, высушило мостовые, и, несмотря на то что по вечерам с моря тянул прохладный ветер, по набережной фланировали нарядные толпы одесситов и приезжих, которых в этом году было значительно больше, чем обычно; среди мужчин преобладали военные, среди дам – женщины сомнительного поведения, что, однако же, никого не шокировало. Шуршали платья, позвякивали шпоры, слышался возбужденный смех. Гвардейцы демонстрировали свою безупречную выправку, а дамы – роскошные бюсты.
Не то приближение весны, не то предчувствие надвигающейся опасности (слово "война" было у всех на устах) обостряло чувства, и музыка, звучавшая в ресторанах и на открытых верандах, наполняла сердца тревогой и необъяснимым трепетом.
Проводы поездов, отправлявшихся в Кишинев, превращались в народные празднества. С божьей помощью турок собирались побить в короткий срок и малой кровью; знающие люди предсказывали, что самое позднее к лету должен пасть Константинополь; поговаривали даже, будто бы султан, опомнившись, запросил у государя пардону, но в это мало кто верил.
В один из таких пригожих вечеров Владимир Кириллович Крайнев сидел на квартире у своего давнишнего знакомого – адвоката Артура Всеволодовича Левашова, дальнего родственника одесского градоначальника Владимира Васильевича Левашова, и, попивая ликерчик, вел с ним беседу. Ему было приятно, что судьба снова привела его в этот уютный и тихий кабинет, в котором совсем недавно, всего год с небольшим назад, вернувшись из Румынии, он так же сидел в глубоком кресле, курил дорогую сигару и слушал небрежно развалившегося перед ним на оттоманке хлебосольного хозяина.
Несмотря на свою рыхловатую внешность и сквозившие в каждом жесте мягкое добродушие, милейший Артур Всеволодович был человеком далеко не робкого десятка, да к тому же еще и изобретательным конспиратором. Об этом знали очень немногие, и в числе их Владимир Кириллович, уже получивший однажды из его рук новенький паспорт подданного Российской империи. И тем не менее фигура эта и для Крайнева до сих пор оставалась во многих отношениях загадочной. Он часто, и не без оснований, задавал себе вопрос: что же все-таки привело этого избалованного, любящего красиво пожить и вкусно поесть жизнерадостного господина на путь, который в один не очень прекрасный день мог решительно изменить всю его судьбу и перечеркнуть столь блестяще начатую адвокатскую карьеру…
С рассеянной улыбкой согревая в ладонях пузатую коньячную рюмку, Левашов сочувственно выслушал рассказ Владимира Кирилловича о его похождениях в Петербурге.
– Я рад, – сказал он, – что могу оказать тебе еще одну маленькую услугу. Товарищами твоими займутся другие люди, а что предстоит сделать мне?
– На сей раз немного, – проговорил Крайнев, дымя сигарой, – просьба моя такова: как журналисту мне бы хотелось попасть на театр военных действий…
– Только и всего! – воскликнул Левашов. – Да разве тебе не известно, что все корреспонденты уже высочайше утверждены?!
– Как? Значит, никакой надежды?
– Совершенно. От "Одесского вестника" едет Сокальский, ты его знаешь. Недавно у меня был проездом Максимов – он утвержден от "Биржевых ведомостей". Едут еще Каразин от "Нивы" и "Пчелы", Мозалевский от "Санкт-Петербургских ведомостей", ну и еще три-четыре человека, среди них Немирович-Данченко.
– Как же быть?
– Нет чтобы связаться со мной пораньше.
– Словно тебе неведомо, при каких обстоятельствах я оказался в Одессе… Но все-таки, ты можешь мне что-нибудь предложить?
Левашов сделал неопределенный жест рукой, словно нарисовал что-то в воздухе.
– Надеюсь, на сей раз документы твои в порядке? – вдруг спросил он.
– Об этом можешь не беспокоиться.
Левашов задумчиво потеребил бородку.
– Я бы, конечно, мог попытаться, и попытаюсь непременно, но обещать наверняка не могу, – сказал он, удобнее устраиваясь на подушках.
Владимир Кириллович улыбнулся, не без интереса разглядывая его томно покоящееся, изнеженное и рыхлое тело.
– Чему ты улыбаешься? – приподняв на уровень глаз наполненную коньяком рюмку и посматривая сквозь нее на Крайнева, спросил Артур Всеволодович.
– Да вот, знаешь ли, еще в прошлый раз хотел тебя спросить, но так и не отважился…
– Так спрашивай.
– Видишь ли… – Крайнев обвел выразительным взглядом роскошный кабинет и задержался на безмятежном лице хозяина. – Что привело тебя к мысли… Словом, мне не совсем ясна та роль, которую ты играешь в нашем деле? Впрочем, если не хочется, можешь не отвечать.
– Вопрос твой действительно не совсем тактичен, но изволь: сперва увлечение историей и экономикой, а затем уроки, преподанные мне российской действительностью. В силу своей профессии я принужден заниматься страданиями людей, меня окружающих… Впрочем, это не совсем точно: окружают меня как раз люди скорее корыстные и бессердечные, но в них-то я и увидел источник многих зол. "Неужто причина в извечном несовершенстве человеческой природы?" – спросил я себя однажды. Одни люди злы и корыстны, другие же возвышенны и благородны. Но отчего тогда извечный закон действует с постоянной неотвратимостью, обрекая на несчастья лишь тех, кто принужден пахать и сеять, и осыпая всеми благами тех, кто проводит дни свои в удовольствиях и праздности?..
Левашов замолчал и вопросительно взглянул на Крайнева.
– Я слушаю, слушаю, – сказал Владимир Кириллович.
– Да вот, собственно, и все, – неожиданно подытожил Артур Всеволодович и выпил свою рюмку.
– Все?
– Остальное, полагаю, тебе известно. Я не анахорет, да и та роль, которую я играл в обществе, отнюдь не противоречит моим убеждениям. Миллионщики, чьи процессы я веду, не скупятся на гонорары, и немалую часть средств я регулярно перевожу за границу на нужды хорошо известных тебе лиц… Ты разочарован?
– Нет, что ты, как раз наоборот. Всякие слухи, знаешь ли, о твоих сибаритских замашках…
– Так что же ты хочешь? – весело прервал его Левашов. – Бросить все и пуститься босиком по родной земле? Кому от этого польза? Разве что только мне самому, да и то сомнительно…
На этом они расстались, договорившись встретиться через неделю.
61
– Так, значит, все решено – и вы отправляетесь в действующую армию? – спросил Громов, с любопытством разглядывая Крайнева.
– У меня нет другого выбора, – сказал Владимир Кириллович. – Вы же знаете, я связан обязательством перед своей газетой.
Громов кивнул.
– А вы? – обратился он к Бибикову.
– Я мог бы присоединиться к вам и ехать в Швейцарию, – неторопливо начал Степан Орестович, – но думаю, что мое присутствие на театре военных действий будет вполне оправданно, если учесть к тому же, что я по образованию медик…
– Речь идет о ваших политических взглядах, – нетерпеливо прервал его Громов и зажег папиросу.
– Тем более, – спокойно продолжал Бибиков, – мои политические убеждения ничуть не мешают, а скорее обязывают меня принять участие в событиях, которые, как я полагаю, окажут серьезное воздействие на последующее развитие событий в самой России.
– Да? – дернув уголками губ, насмешливо сказал Громов. – А вам не кажется это ваше убеждение по меньшей мере наивным? Политическая агитация, которой мы смогли бы спокойно заняться в Швейцарии, принесла бы нашему движению неизмеримо большую пользу.
– Не думаю. Скорее убежден в обратном.
– Послушайте, – заметно нервничая, Громов сделал глубокую затяжку, – а не внушил ли вам господин Самохвалов верноподданнические иллюзии?
– Кстати, о Самохвалове и иллюзиях, – прервал его Степан Орестович. – Я обращался с просьбой разрешить мне выехать добровольцем, еще находясь под арестом.
– В самом деле? – оживился Громов.
– Конечно.
– И вам было отказано?
– Разумеется.
– Думаю, господа из Третьего отделения просто боялись выпустить вас из каталажки?
– Не только. Мои взгляды на этот вопрос решительно разошлись со взглядами господина Самохвалова.
– Да-да, – поморщившись, сказал Громов и медленно перевел взгляд на Дымова.
– А вы, молодой человек, конечно, затем только и приехали в Одессу, чтобы встать под священные, так сказать, знамена? Или я ошибаюсь?
Дымов вспыхнул.
– Вы зря иронизируете, – живо вступился за него Бибиков. – Я уже беседовал с Иваном Прохоровичем и уверен, что он сделал честный и единственно возможный в его теперешнем положении выбор. Он едет со мной.
– Что ж, похвально. Но вы, надеюсь, объяснили ему хотя бы, что такое война? – неторопливо потушив в блюдце папироску, заметил Громов.
Все напряженно замолчали.
– Не будем спорить, господа, – прервал молчание Крайнев. – В конце концов, убеждения наши остались прежними. Я верю Дымову, хотя и знаю его недавно, но уже имел о нем некоторое представление по рассказам Щеглова. Вы, кажется, тоже медик? – повернулся он к Дымову.
– Курса я не прослушал до конца, но знаний моих вполне достаточно, чтобы показать себя в деле, – проговорил Дымов, все еще смущаясь под пытливым взглядом Громова. – Петр Евгеньевич Щеглов, – продолжал он с усилием, – вполне разделял мои намерения…
– Петр Евгеньевич Щеглов всегда был и остался идеалистом, – выслушав его сбивчивую реплику, заметил Громов. – Его увлечения экономическими теориями всем нам хорошо известны.
– Что тем не менее не помешало ему вступить в армию Гарибальди, – подхватил Крайнев, – и принять живое участие в организации вашего побега…
– Впрочем, как вам будет угодно, – сказал Громов, немного смутившись, и зажег новую папиросу. – Время покажет, кто из нас прав…
– И надеюсь, что это случится в самом ближайшем будущем, – сказал Крайнев.
– Что ж, видимо, придется подождать.
Он встал и обнял Владимира Кирилловича.
– Вы честный и мужественный человек, сказал он неожиданно мягко и трогательно, – я обязан вам своей свободой и, поверьте, не забуду этого никогда.
Потом он тепло распрощался с Бибиковым, а руку Дымова задержал в своей чуть дольше обычного.
– Вы самый молодой среди нас, будьте мужественны. А за сегодняшнее не обижайтесь.
Вскоре Громов уехал в Петербург, чтобы оттуда перебраться за границу, а Бибиков с Дымовым направились в одну из городских больниц. Принявший их пожилой врач, известный в Одессе хирург, уже облачившийся в военную форму, не был придирчив, не разглядывал на свет документы и не выяснял их прошлого, а тут же с собственноручной запиской отправил по инстанции. В инстанции еще меньше интересовались личностью каждого – санитаров было мало, все рвались в бой, а особенно трудно обстояли дела в болгарском ополчении.
"Выезжайте немедленно в Кишинев, – сказали им, – и обратитесь там к Константину Борисовичу Боневу".
Хотя ополчение и формировалось в основном из граждан болгарской национальности, среди офицеров, унтер-офицеров и нестроевых старших званий было много и русских; русским, в частности, был и врач шестой дружины.
Итак, дело было сделано. Что же касается Крайнева, то Левашов пока ничем не мог его порадовать. Все корреспонденты, отправлявшиеся в действующую армию, как он уже сказал, находились на особом учете; никакой дополнительной вакансии не предвиделось.
Огорченный неудачей Владимир Кириллович уже подумывал о том, чтобы отказаться от своего намерения и искать другие пути, как вдруг Левашов разыскал его сам.
– Одевайся, – сказал он, – и едем со мной.
Пролетка подвезла их к большому зданию, у крыльца которого прохаживался казак в сдвинутой набекрень папахе и с шашкой на боку. Они сдали на вешалке пальто, поднялись на второй этаж и вошли в комнату, где находилось несколько человек, а за небольшим столиком перед внутренней дверью сидел молоденький офицер с аккуратным пробором на голове и тонкими щегольскими усиками. Увидев Левашова, он встал и галантным жестом указал на дверь:
– Прошу вас, Артур Всеволодович. Генерал Крживоболоцкий ждет вас.
Они вошли. Из-за стола навстречу им поднялся тучный мужчина с пышными бакенбардами.








