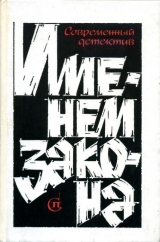
Текст книги "Именем закона. Сборник № 3"
Автор книги: Эдуард Хруцкий
Соавторы: Гелий Рябов,Игорь Гамаюнов,Александр Тарасов-Родионов,Борис Мегрели
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц)
Я не стал спрашивать, откуда он знает о предсмертной записке. Рахманин звонил Грач, а та – Голованову и другим.
– Почему? – спросил я.
– Записку мог написать на машинке любой. С другой стороны, насколько я знаю, из квартиры ничего не исчезло. Безмотивных убийств не бывает. Так ведь? Что Герд вам говорил? Убеждал вас, что Надя иссякла как актриса?
– Примерно.
Голованов укоризненно покачал головой:
– Кое-что покажу вам. Секунду. – Он достал из шкафа папку с газетными вырезками и одну из них протянул мне. Это была статья Герда под названием «Актеры и роли». Несколько абзацев в ней кто-то подчеркнул красным карандашом. – Читайте подчеркнутое. Статья написана за год до прихода Герда в театр.
«Мастерство Н. Комиссаровой всегда обладает духовностью. Пластично и музыкально не только ее тело, но и душа. Предельна самоотдача ее физических и душевных сил на спектакле. Она играет на пределе распахнутости души, обнаженности эмоций. Балансируя на острие, с которого так легко сверзнуться в наигрыш или бездумный технический формализм. С Н. Комиссаровой этого не случается, потому что от роли к роли богатеет еще одно актерское качество Н. Комиссаровой – ее умение в спектакле любого жанра выявлять философию роли.
Сегодня мы можем с радостью сказать, что талантливая Н. Комиссарова стала мастером и не научилась при этом экономить себя».
Трудно было поверить, что все это было написано Гердом, но под статьей стояла его фамилия.
– Все началось с «Любови Яровой», – сказал Голованов. – У Нади было иное понимание образа Яровой, нежели у Герда. Она пыталась его переубедить. Куда уж там! Спектакль не получился. Каждый из них считал, что по вине другого. Герд не мог простить Надю. Как же?! Первая постановка в театре практически провалилась. За его плечами была четырнадцатилетняя работа в других московских театрах. Он мнил себя корифеем. Вдруг какая-то Комиссарова подпортила ему режиссерскую репутацию. Они ненавидели друг друга, как два заклятых врага.
– Ненавидели и ходили друг к другу в гости?
– Улыбались, целовались при встрече, в душе призывая несчастья на голову другого. Это – театр. Все игра. Спектакль закончился, но спектакль продолжается.
– Как вы считаете, почему Герд поручил роль Офелии Надежде Андреевне?
– Значит, были какие-то соображения. Просто так, через столько лет, он не стал бы давать ей ни одной роли.
– Какие могли быть соображения?
– Не могу сказать. Не знаю.
– Может, Надежда Андреевна просто вымолила роль?
– У Герда не вымолишь снега зимой. А вы – «вымолила роль». Он даже принесенную с собой трехрублевую бутылку вина вчера забрал назад.
– Не могли на него оказать нажим со стороны?
– Он, знаете ли, кичится своей принципиальностью – интересы искусства выше всего – и нажиму не поддался бы. Об этом тут же узнал бы и заговорил весь театр, а потом и вся театральная Москва. Помнится, ему звонил при мне и просил за одного драматурга заместитель министра культуры. Герд корректно, но твердо отклонил просьбу.
– А главный режиссер не мог сыграть тут свою роль?
Голованов странно усмехнулся, точнее, скривил губы, подумал и сказал:
– Андронов номинально главный режиссер. В театре все решает Герд. Андронов даже спектаклей почти не ставит в своем театре, а только в Малом. Спит и видит, когда его назначат главным Малого. Нет, не стал бы он ссориться с Гердом. Ни к чему ему ссоры. Тут причина в чем-то другом. А в чем, не могу понять до сих пор. Надя была безмерно талантлива. В статье, которую вы прочли, все правда – от начала до конца. Но не играя, она растеряла обретенное, ее мастерство притупилось. Может быть, тут другое: Герд решил добить ее окончательно на репетициях, а потом и удалить из театра.
– Вы давно знали Надежду Андреевну?
Голованов опустил голову и закрыл глаза.
– Давно… – Он открыл глаза и посмотрел на меня. – Мне неловко говорить об этом, но обстоятельства вынуждают… Мы с Надей были в близких отношениях. Три с лишним года. Говорю об этом, чтобы упредить кривотолки и сплетни. О наших отношениях знают все, но делают вид, что никто ничего не знает. До определенного момента. Я любил Надю, и она меня любила. Из-за нее я бросил семью. Не из-за нее, конечно, из-за себя. Мы собирались пожениться. Но произошел разрыв. По моей вине.
Голованов замолк. Он ждал вопросов. А я молчал, удивленный новостью и испытывая неловкость оттого, что придется расспрашивать человека об отношениях с женщиной, которую он любил. Он как будто понял, почему я молчу, и сказал:
– Да, по моей вине. Это произошло после того, как поставили мою пьесу. Во мне тогда появилось что-то новое. Возомнил себя великим драматургом, а великим все дозволено. Головокружение от успеха. Спектакль действительно пользовался успехом. У Нади характер был не из легких. Нередко без видимой причины впадала в хандру, мелочь вызывала ярость. Я старался приноровиться, понимая, что она иной эмоциональной конституции, нежели большинство смертных, она – актриса. После премьеры я как-то забыл об этом. Все чаще передо мною вставал вопрос, извечный вопрос: «Почему я?» То есть почему я должен терпеть ее характер, дескать, пусть терпит другой. По́шло, но так. Мы снимали квартиру. После развода я все оставил жене. У Нади тогда тоже не было квартиры. Так что жили мы с ней неустроенные. Два или три раза я не ночевал дома, оставался у приятелей. Вседозволенность набирала силу. В спектакле по моей пьесе играла небольшую роль молоденькая смазливая актриса. При случае она проявляла расположенность ко мне. Лечь в постель с режиссером и получить главную роль возможно. Но драматург ничего не решает в спектакле по собственной пьесе. Она еще не знала этого. Была неопытной. Короче, я изменил Наде. А Надя еще до моего возвращения домой знала обо всем. Мои вещи были собраны и решение принято. Расстались без скандала и объяснений.
– Как вы познакомились с Надеждой Андреевной?
– Я приехал в отпуск из Японии, где по ночам писал свою первую пьесу. Кто-то из друзей посоветовал обратиться к Андронову. Андронов, на удивление, быстро – через неделю – позвонил мне, сказал, что пьеса ему понравилась, и пригласил на «Бесприданницу». Надя играла Ларису. У Андронова были серьезные замечания по моей пьесе. Я решил перенести разговор в ресторан. Вышли из театра. Я открывал дверь машины, когда появилась Надя. Андронов познакомил нас. Я предложил подвезти ее. Жила она тогда, как потом выяснилось, у матери на улице Красина, рядом с Тишинским рынком. По дороге я передумал везти ее сразу домой. Мне захотелось сначала накормить ее. Я тогда готов был накормить весь мир. Вам знакомо состояние эйфории? Наверно, нет. Вы же не писали пьесы.
Я пьесы писал и радостное настроение и чувство довольства, не соответствующее объективным обстоятельствам, испытал. Но это было в той жизни, в Тбилиси, когда я еще не служил в милиции, а в этой никто ничего не знал. Мне не хотелось говорить о той жизни даже близким, а тем более свидетелю по делу.
– Как сложились ваши отношения после разрыва?
– Никак. То есть до прошлого года мы не разговаривали. Абсурд. Надя не могла меня простить. Такой уж у нее был характер. Но я к ней сохранил самые теплые чувства, благодарность за наши совместные годы. Я знал о ней почти все. Жалел ее, сочувствовал. В театре плохо, в кино вообще о ней забыли. Личная жизнь тоже без радости. Помочь Наде я, конечно, не мог, но дружески поддержать мог. Не решался. Боялся, что отвергнет мои попытки. Боялся, что неправильно истолкует мои намерения. Не скрою, жила во мне обида. Как же так можно вычеркнуть из памяти то светлое, радостное, что было между нами? Почти четыре года! Вовсе и не любила она меня, думал я. В прошлом году, когда Виктор, я имею в виду Рахманина, переселился к Наде и все заговорили о том, что она выходит замуж, мне на глаза в театре попалась пьеса Виктора. Есть вещи, которые выше наших личных счетов, раздоров, чувств. Это – талант. У Виктора большой талант. Я пришел к Наде с цветами, поздравлениями и пожеланиями счастья. Я всегда желал ей счастья, даже когда она меня игнорировала. Посидели, поплакали, вспоминая прошлое. Виктор ничего не понимал. Но он знал, что Надя играла в спектакле по моей пьесе. На меня он смотрел снисходительно. Старый сентиментальный человек. Идите, смена уже пришла.
– В альбоме «Н. Комиссарова в театре» на первом листе фотография некой Скарской. Вы не знаете, кто такая Скарская?
– Надежда Федоровна Скарская – сестра Веры Федоровны Комиссаржевской. Знаменитая актриса. Скарская – псевдоним. Вместе с мужем Павлом Павловичем Гайдебуровым Надежда Федоровна организовала Первый передвижной драматический театр. Существовал, между прочим, до двадцать восьмого года.
– Какая связь между «Н. Комиссарова в театре» и Скарской?
– Непростой вопрос, чтобы ответить на него однозначно. Тут, во всяком случае для меня, много загадок. Попробую объяснить. Сначала о Скарской. Надежда Федоровна была красавицей, и видимо, это сыграло решающую роль в ее судьбе. И не только в ее судьбе, но и в судьбе сестры – Веры Федоровны Комиссаржевской. Вера Федоровна однажды застала мужа, графа Муравьева, с сестрой. Они целовались. Вера Федоровна покинула имение мужа и уехала в Петербург, где, как вам известно, она стала актрисой. Надежда Федоровна же вышла замуж за графа Муравьева, но вскоре от него ушла. Муравьев был не только бабником, но и деспотом, самодуром. Надежда Федоровна, как и Вера Федоровна, а сестры находились в ссоре, обосновалась в Петербурге, вышла замуж за Павла Павловича Гайдебурова, играла с мужем в любительских спектаклях и мечтала организовать театр, который ездил бы по стране и приобщал бы народ к искусству. Супругам удалось создать такой театр. В девятьсот пятом году Первый передвижной драматический театр был открыт постановкой пьесы норвежского драматурга Бьернсона «Свыше нашей силы». Спектакль продержался двадцать лет. Скарская играла в ней главную женскую роль. Как принято говорить, она состоялась как актриса. Тогда уже знаменитая Вера Федоровна Комиссаржевская, посмотрев спектакль, пришла за кулисы и обняла Надежду Федоровну. Так сестры помирились. Скарская играла много, но в истории театра ее имя сохранилось значительно меньше, чем Веры Федоровны Комиссаржевской. В отличие от Веры Федоровны, умершей в девятьсот десятом году в сорокашестилетнем возрасте, Надежда Федоровна дожила до глубокой старости – до девяноста двух лет – и умерла в пятьдесят девятом году. Ее похоронили в Александро-Невской лавре, в Некрополе, рядом с знаменитой сестрой. А Гайдебуров умер год спустя.
– Скарская была кумиром Надежды Андреевны?
– Все гораздо сложнее. Не знаю, насколько это правда, но Надя говорила мне, что Скарская ее родственница со стороны матери, отец которой, то есть Надин дед, в семнадцатом году, дескать, отдавая дань времени, усек свою фамилию Комиссаржевский до Комиссарова, сделав ее более революционно звучащей.
– Надежда Андреевна носила материнскую фамилию?
– Да. Отец Нади погиб при загадочных обстоятельствах, он работал в органах безопасности. Надя избегала разговоров об отце. Как я понял, она вынужденно взяла фамилию матери. Родители назвали ее Надеждой в честь именитой родственницы – Надежды Федоровны Скарской.
– Надежда Андреевна поддерживала связь со Скарской?
– Да, с тех пор как Скарская посетила школу, в которой училась Надя. Надежда Федоровна давала Наде уроки. Но в конце жизни Скарской связь нарушилась. Когда Надя узнала, что Скарская в Доме ветеранов сцены, помчалась к ней с гостинцами, но та то ли не узнала Надю, то ли еще что, чем очень огорчила Надю. Несмотря на холодный прием, Надя еще раз навестила Скарскую. Надежде Федоровне шел уже девяносто второй год. Надя навезла кучу ненужных вещей, потратив массу денег. Это очень похоже на Надю. Позже, узнав о смерти Надежды Федоровны, ни с кем не разговаривала ни о чем, кроме как о смерти Скарской. Она всем говорила: «Скарская скончалась». Люди пожимали плечами: «А кто такая Скарская?» Рассказывая это спустя много лет, Надя плакала. «Представляешь, ее забыли. Они не знали, кто такая Скарская, потому что она не умерла в зените своей славы». Действительно, кто помнил Надежду Федоровну Скарскую? Два-три человека только и знали, кто такая Скарская, да и то потому, что в свое время Надя прожужжала им уши этим именем.
– Виталий Аверьянович, вы знакомы с матерью Надежды Андреевны?
– Нет. В тот период между Надей и ее матерью были натянутые отношения. О причине Надя не хотела говорить, но мне кажется, что причиной был я. Потом, я знаю, они помирились.
– Когда вы вчера ушли от Надежды Андреевны?
– Следом за Гердом и Татьяной Грач. С Надей оставалась Валя Голубовская.
Внезапно Голованова стала бить дрожь. Он старался ее унять.
– Вы знаете, где сейчас Голубовская?
– Она же не виновата, что отлет был назначен на сегодняшнее утро. Извините меня.
Он встал, усилием воли стараясь справиться с дрожью, и вышел.
Я ждал.
По квартире распространился запах валерьянки.
Голованов вернулся бледный и уселся в кресле, поеживаясь.
– Извините, – сказал он, – трудно держаться. Продолжим.
Глава 4
Наспех перекусив в буфете, я поднялся к себе на пятый этаж. К телефонному аппарату была прислонена записка Александра Хмелева:
«Уехал в д. Конкино Кал. обл. за бутылкой».
Юморист, подумал я. Я прямо видел ухмылку Александра, когда он писал эту двусмысленную фразу.
По плану мне предстояло вечером встретиться с Мироновой и психиатром. Я сел за телефон и полчаса крутил диск, пока не дозвонился до профессора Бурташова. Я объяснил, что мне нужна консультация по вопросу поведения самоубийц, и он охотно согласился помочь мне, но только завтра, сославшись на чрезвычайную занятость. Условившись с ним о встрече, я позвонил Мироновой. Был восьмой час. Однако она все еще работала.
Даже в протоколе допроса чувствовалась боль Анны Петровны Комиссаровой, бывшей гардеробщицы Большого театра. После гибели мужа Анна Петровна осталась с двумя детьми на руках – близнецами Надей и Алешей. Это меня заинтересовало. Никто из тех, с кем я беседовал, не говорил, что у Надежды Комиссаровой был брат. В рассказе Анны Петровны больше того, что он существовал, ничего не говорилось. Но в вопросах и ответах дотошная Миронова уделила ему полстраницы. В отличие от сестры Алексей рос непутевым. Учился он с грехом пополам. Жили они тогда у парка имени Горького, и Алексей все время проводил в Нескучном саду. В шестнадцать лет он связался с бандитами и грабил прохожих. Однажды, убегая от милиционеров, он спрыгнул с Крымского моста в Москву-реку и утонул. Тело так и не нашли.
Я дочитал протокол с ощущением, будто коснулся чужой раны. Конечно, вся надежда Анны Петровны была на дочь. Она, как бы предвосхищая свои жизненные неурядицы и несчастья, даже назвала ее Надеждой. Но судьба распорядилась безжалостно… Анна Петровна считала, что дочь не могла покончить с собой. Это подсказывало ей материнское сердце. Странно, что Миронова записала такой ответ в протокол, подумал я. Впрочем, иначе она нарушила бы целостность картины допроса. У нее всегда протоколы допроса носили характер завершенности, как новеллы.
Анна Петровна хорошо знала жизнь дочери – и театральную, и личную. Дочь ничего от нее не скрывала. Но в протоколе ничего не было о Скарской.
Зеркало в комнате, где мы сидели за столом с Анной Петровной Комиссаровой, было завешено, будто в квартире лежал покойник.
Старое полотенце на зеркале, заштопанная скатерть, треснутая чашка с блюдцем от другой чашки, вылинявшее платье на Анне Петровне – все говорило о бедности. Анна Петровна уже не могла плакать, а только всхлипывала, горестно качая головой и приговаривая: «За что такое? За что?»
– Надя, наверно, к вам часто заходила?
– Часто, миленький, часто. К кому ей еще было ходить, как не к родной матери?
– Она помогала вам?
– Помогала. Только раньше больше. Наденька сама нуждалась.
– Давно?
– Давно не давно, а с тех пор, как кончились ее гонорары. Прибежит и скажет: «Мама, извини, но у меня сейчас стесненное материальное положение». Потом засмеется так весело и разведет руками: «Мама, денег нет». А все равно оставит то пятерку, а то и десятку. Не сложилась у Наденьки жизнь. Не надо было ей в театр.
– Вы не одобряли, что Надя стала актрисой?
– Почему, миленький, не одобряла? Когда Наденьку пригласили в кино, я первая сказала: «Иди, доченька». Благословила ее. Думала, пусть она хоть поживет по-другому. Может, в этом ее счастье. Она и была счастлива, пока не потянуло ее в театр.
– Вы тогда тоже в Большом театре работали?
– Там же, миленький, там же.
– Зарплата у вас, наверно, была небольшая. Как же вы жили с двумя детьми?
– Плохо, миленький, плохо. Тяжело было. Но свет не без добрых людей, и государство помогало чем могло.
– Вы не получали пенсию за мужа?
– Муж умер, миленький, от пьянства. Напился и попал под машину, когда Наденьке с Алешей было два года. Пил он без оглядки. Видно, в жилах у него текла кровь с вином. И отец его пил, и дед. Фамилия у них такая. Пьяных.
Теперь мне стало ясно, почему шестнадцатилетняя Надя Комиссарова, получая паспорт, взяла фамилию матери, а позже придумала легенду о загадочных обстоятельствах гибели отца.
На столе лежали фотографии Нади и Алеши – тусклые, с трещинами, плохим фокусом. Я взял одну из них. Испуганное лицо мальчика и доверчивое лицо девочки. Страх в глазах мальчика и вера в глазах девочки. Может быть, Надя верила, что из фотоаппарата вылетит птичка.
– Нелегко вам пришлось, – сказал я.
– Плохо мы жили, миленький. Одна надежда была на Наденьку.
– А Алеша?
– Алеша рос злым. Он пошел в Пьяных. Он людей не любил. Он с детства себя любил. Меня, мать, он ни во что не ставил. А, что вспоминать, миленький?! Грех так говорить, но избавил меня господь от новых страданий, призвав его к себе. Последнее дело людей грабить…
– Анна Петровна, Надя была хозяйственной?
– Она пироги любила печь. Аккуратная была.
– Могла она оставить на ночь немытую посуду?
– Нет, миленький. Наденька больно аккуратной была. Каждая вещь у нее свое место имела. А уж грязь она не терпела.
– Надя была левшой?
Анна Петровна отрицательно покачала головой и всхлипнула, вспомнив что-то свое.
Был еще один вопрос, который меня интересовал, но я засомневался, стоит ли его задавать. Вряд ли эта простая женщина слышала о Надежде Федоровне Скарской, а тем более находилась с ней в родстве. Каково же было мое удивление, когда, все же задав вопрос, я услыхал:
– Знала, миленький. Моя мать в молодости ходила у Надежды Федоровны в прислугах. У меня и фотография Надежды Федоровны оставалась от матери. Наденька себе взяла. Наденька очень уважала Надежду Федоровну. Называла ее великой.
– В честь Надежды Федоровны назвали дочь Надеждой?
– Какая уж тут честь?! Она же не родственницей была у матери, а хозяйкой.
– Надя встречалась с Надеждой Федоровной?
– Та в школу приходила, потом Надя ездила к ней в приют. Наденька всех жалела.
Анна Петровна снова всхлипнула. Мне было настолько ее жаль, что я не выдержал, подошел к ней и погладил по плечу.
– У вас сохранились вещи Нади?
Анна Петровна достала из тумбы потрепанную тряпичную куклу. Игрушки – свидетельство детства. Вот таким же потрепанным было детство Нади Комиссаровой.
– А письма, открытки?
– Наденька не любила писать письма.
– Может быть, она дневник вела?
– Что-то Наденька писала, когда мы жили вдвоем, но что – не знаю.
– На отдельных листах или в тетради?
– В тетрадке, но вырывала листы. Помнится, спросила ее однажды: «Письмо, доченька, написала?» А Наденька ответила: «Ты ведь знаешь, мамочка, что я не люблю письма писать». «Что же ты тогда пишешь, доченька?» – спрашиваю ее. «А, ерунду всякую», – отвечает Наденька.
Никаких записей Надежды Комиссаровой, тем более дневника, мы не обнаружили в квартире на Молодежной.
– У вас не сохранились эти записи или тетрадь, из которой Надя вырывала листы? – с надеждой спросил я.
– Ничего у меня не осталось, кроме куклы. Наденька все взяла с собой, когда получила квартиру на Молодежной. После развода она жила здесь, мучилась со мной…
– Простите, Анна Петровна, вы ссорились?
– Был у нее женатый мужчина. Я и сказала ей, что она распутница. Нельзя грех на душу брать, разрушать чужую семью. Все равно счастья не будет.
– Кто был ее первым мужем?
– Ее главный режиссер и был.
– Андронов?!
Да, театр не переставал меня удивлять.
– Он, миленький, Владимир Алексеевич. Жила бы Наденька с ним, была бы за каменной стеной… Все норовила по-своему жить. С той ссоры не вмешивалась я в жизнь Наденьки. Да, видно, неправильно делала. Не уберегла я Наденьку от погибели. За что такое? За что Наденьку убили?
– Почему «убили», Анна Петровна?
– Убили, убили… Не могла Наденька руки на себя наложить, не могла, миленький. Наденька крови боялась. Палец порежет, в обморок падала. Не могла Наденька убить себя, поверьте уж матери…
Я ехал в полупустом вагоне метро, уставший, голодный и озадаченный. «Убили, убили, убили…» – звучал в ушах голос Анны Петровны. Ее голос преследовал меня. «Не могла Наденька убить себя…» Ни о чем другом я думать не мог. «Палец порежет, в обморок падала… Убили, убили, убили…»
Войдя в квартиру, я с облегчением снял форму. Квартира за день прокалилась. Я распахнул окна и дверь на балкон. «И эта дверь на балкон. Почему она была заперта?»
Я собирался жарить яичницу, когда позвонил Хмелев.
– Можно к тебе заехать? – спросил он. – Я в двух минутах от тебя.
– Валяй, – сказал я и, повесив трубку, разбил еще два яйца.
Хмелев вошел в квартиру, пряча за спиной что-то.
– Я с бутылкой, – ухмыльнулся он и вытянул руку, в которой держал полиэтиленовый пакет с бутылкой из-под «Кубанской» водки. Я готов был расцеловать его.
– Не слишком большие надежды возлагаешь на эту бутылку?
– Я сам не пойму, с чего я так ухватился за нее. Наверно, оттого, что она исчезла. Давай есть.
Мы принялись за еду.
– Не хочу портить тебе аппетита, но… – Хмелев сделал паузу. – Рахманин соврал. Ты доверился ему, а он соврал. Не гулял он ночью. Он показал, что проходил мимо универмага «Москва», магазина «Фарфор», кинотеатра «Ударник», что в «Москве» выставлены универсальные товары, в «Фарфоре» – фарфор. Витрина «Фарфора» изнутри затянута парусиной с надписью «Оформление витрины». С пятнадцати ноль-ноль двадцать седьмого августа. Вот справка.
Хмелев выложил на стол справку с печатью и подписью директора магазина.
– И еще. Не мог Рахманин сидеть в половине второго ночи на скамейке напротив метро «Площадь Революции». В это время прошли поливальные машины.
– У тебя и справка есть?
– Пока нет. Допустим, он пришел на площадь после того, как прошли машины. Ты знаешь, как они поливают. Он что, сидел сорок минут на мокрой скамейке?
– Мог стряхнуть воду, подложить под себя газету, журнал.
– Сидеть, наконец, в луже. Он и сел в лужу своими показаниями. Я тебе завтра же принесу справку, где черным по белому будет написано, что с часу до двух ночи площадь Революции поливали машины.
Я лихорадочно вспоминал показания Рахманина. Да, он утверждал, что сорок минут сидел на скамейке напротив входа в метро. Но почему он так неохотно рассказывал о прогулке? И еще эта неуместная ироничность: «Нужны подробности?» – «Желательны». – «Не сомневался». Неужели Гриндин прав и он действительно слышал в час ночи, за тридцать минут до смерти Комиссаровой, шаги Рахманина? Если это так, то Рахманин инсценировал самоубийство Комиссаровой. Я не верил, точнее, не хотел верить, что он был способен на такое. Внезапно ко мне пришло понимание чего-то очень важного, может быть, самого главного в этой истории.
– Саша, убийца, если таковой был, допускал, что Комиссарова могла покончить с собой. Значит, он прекрасно знал Комиссарову. Это близкий ей человек. Только такой мог представить убийство как самоубийство.
– Конечно, – сказал Александр.
Глава 5
– Почему мы так вцепились в эту пустую бутылку? – сказал Хмелев. – Абсолютно безнадежное дело. Сколько рук ее касалось! Что, будем дактилоскопировать всех пятерых – Рахманина, Голованова, Герда, Голубовскую и Грач? Зря переполошим людей. Четверо наверняка невиновны. Пойдут жалобы. За это по головке не погладят. А времени сколько потратим?! Скорее всего впустую.
Я разделял чувства Хмелева. Меня тоже стали одолевать сомнения, вытеснив радость находки. Тем не менее я не мог взять и забыть или сделать вид, что не существует этой злосчастной бутылки. Во всех случаях мы обязаны все проверять и перепроверять. Но с самого начала я придал этой бутылке какое-то особое значение. Почему? Я сам не мог ни объяснить, ни понять.
– Ладно, Саша, пойдем по простому пути – отпечатки на бутылке проверим через картотеку, – сказал я.
– Не все, что просто, гениально, – сказал он. – Я поехал проверять алиби Рахманина.
– Не могу желать тебе удачи.
– Почему?
– Потому что это было бы неискренне.
– А я не могу понять, почему ты так безоговорочно веришь Рахманину.
– Я уже пытался тебе объяснить. Еще раз нарисовать его портрет? Наконец он пробился в московский театр. Знаешь, что это значит для начинающего драматурга? Признание. Сколько сил и нервов на это положено! Вот-вот будет поставлена его пьеса. Он одержим работой. Его ничего не интересует, кроме работы. По существу, он только начинает жизнь драматурга. Человек талантливый…
– Ну да, гений и злодейство – две вещи несовместимые. По неясным мне причинам. Рахманин тебе понятен. Более того, мне кажется, что он близок тебе по духу. Это я могу понять. Но, как ты сам все время подчеркиваешь, мы в работе опираемся не на симпатии и антипатии. Предположим, сосед Комиссаровой Гриндин ошибается, показывая, что слышал шаги Рахманина. Добросовестное заблуждение свидетеля. Однако факт остается фактом – Рахманин соврал. Пока у нас один документ, опровергающий его показания. Будут и другие. Гарантирую.
Оставшись один, я какое-то время сидел за столом, беспомощно уставившись в одну точку. Беспомощность не была результатом разговора с Хмелевым. Разговор лишь усугубил ее. Еще утром я проснулся с чувством страха и неверия в то, что мне удастся докопаться до истинной причины смерти Комиссаровой. Я загнал страх в какие-то закоулки, но сомнение, что я справлюсь с порученным мне делом, осталось. Слишком рано оно возникло в этот раз. Обычно оно появлялось у меня, когда расследование достигало пика. Это были кризисные пики, как у больных. Я знал, что в такие минуты, лишенный вдохновения, не ведаешь, с какой стороны подступиться к делу, все валится из рук. Я знал и другое: в такие минуты надо заставить себя работать. Пусть на это уйдет в десять раз больше времени, но работать и работать. Вдохновение вернется. Оно всегда приходит, когда много работаешь. Вдохновение – это ведь увлеченность работой.
Прежде чем встретиться с профессором Бурташовым, а он жил в Сокольниках, я отправился на Малую Полянку в психоневрологический диспансер. Это в противоположной стороне от Сокольников, но меня утешало, что и диспансер и дом профессора находились недалеко от метро. Метро я предпочитаю всем видам общественного транспорта. Оно создает у меня, несмотря на длинные переходы, иллюзию быстрого передвижения по городу.
Диспансер обслуживал три района, в том числе Октябрьский, в который входила Молодежная улица.
– Чем могу помочь? – спросила главный врач, пожилая женщина с высохшими руками, когда я представился.
– Не состояла ли у вас на учете Надежда Андреевна Комиссарова, проживающая по Молодежной улице в доме шесть?
Через пять минут я получил справку на бланке с печатью и подписью, подтверждающую, что Комиссарова на учете в психоневрологическом диспансере не состояла. Я не ожидал иного. У меня ни на секунду не возникало сомнения в психической полноценности Комиссаровой. Но свою уверенность, равно как и сомнения, я обязан проверять, перепроверять и подкреплять документами.
Забравшись в метро, я мысленно повторил вопросы, которые собирался задать профессору Бурташову. Они были записаны в блокноте, но заглядывать в него во время беседы мне не хотелось. У каждого свои капризы. Со студенческих лет я не терпел шпаргалок.
Время бесцеремонно ломает наши представления. Все мои университетские профессора были пожилыми, немолодыми и имели «профессорскую» внешность – кто с бородкой, кто в пенсне, кто ходил с тростью, кто одевался небрежно, кто отличался рассеянностью. Во всяком случае, профессора мы узнавали издалека.
Ничего, что напомнило бы моих профессоров, в Бурташове я не увидел. Это был молодой человек, лет сорока, в джинсах. Он даже очками не пользовался. Заметь я его в очереди в молочной, мне в голову не пришло бы, что это психиатр с мировым именем, доктор наук, профессор, лауреат Государственной премии.
– Кофе или чай? – спросил он, предложив мне вертящееся кресло за письменным столом в маленьком кабинете, сплошь уставленном книжными полками. Для себя он приготовил единственный в комнате стул.
– Кофе, если вас не затруднит, – ответил я.
Профессор выглянул в дверь.
– Мария Александровна, два кофе, пожалуйста.
Усевшись на стул и закинув ногу на ногу, профессор Бурташов беззлобно посетовал на тесноту. Я подумал, что человек никогда не бывает доволен, все ему мало. Домработница, квартира с кабинетом, пусть маленьким, но кабинетом, не говоря уже о регалиях, – что еще надо?
– Сейчас нам подадут кофе, и начнем, – сказал профессор. – А вот и Мария Александровна.
В кабинет вошла девочка с подносом в руках. На подносе стояли две чашки и турка.
– Здрасте, – сказала девочка и поставила поднос на стол. – Больше ничего не надо, папа?
– Надо, Мария Александровна. На телефонные звонки отвечать: «Александр Кириллович занят». – Бурташов выдернул вилку телефона из розетки.
Кофе был крепкий и в меру сладкий.
– Молодец Мария Александровна, – сказал я.
– Хозяюшка! – сказал профессор Бурташов. – Итак, вас интересует поведение самоубийц? Введите меня в курс дела.
Пока я вводил профессора в курс дела, в коридоре без конца звонил телефон. Закончив, я сказал:
– К сожалению, мы не располагаем ни письмами, ни дневником, на основе которых вы могли бы судить о характере Комиссаровой.
– Дневник был?
– Муж Комиссаровой утверждает, что нет. Но ее мать говорила о записях, которые Комиссарова вела в тетради и вырывала листы. Возможно, Комиссарова писала письма. Знаете, некоторые пишут письма в тетради и вырывают написанное.
– Но ведь писем тоже нет?
– Нет, к сожалению.
Я подумал, что письмами мы еще не занимались серьезно. Я доверчиво отнесся к утверждению Анны Петровны Комиссаровой, что ее дочь не любила писать письма. Что же она тогда писала?








