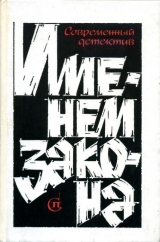
Текст книги "Именем закона. Сборник № 3"
Автор книги: Эдуард Хруцкий
Соавторы: Гелий Рябов,Игорь Гамаюнов,Александр Тарасов-Родионов,Борис Мегрели
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 28 страниц)
– Слово тебе, Щеглов.
– Я скаж-жу… – голосок дребезжит. Нервно встает. Рука дрожит по хохолочку волос, а другая беспомощными рывками мнет и теребит черный шнур пояска. – Я скаж-жу. Да, я скажу, что гнуснее вот всей этой сплетни!.. – но под широким, как нож, взглядом Степана тухнет у Васи его резкий выкрик. – …Этакого, подобного отношения к старым нашим товарищам я в жизнь не видал. Зудин взяточник? Чем это доказано? А я головой вам своей отвечаю, что нет! Алешку знаю я сызмала, и таким же он парнем остался, как и был!.. А потом: «не бывал, вишь, в ячейке, в Совете»!.. Эка, подумаешь, невидаль!.. Да разве дело ЧК не важнее?! А затем как предгубчека он кажный раз бывал на губкоме. Почему вот об этом товарищ Шустрый, «беспристрастный» докладчик, – ни слова? И с каких это пор работа в ЧК перестала быть партработой и вдобавок самой ответственной? Подумаешь теперь: «ячейки»! Что ж он, в бабки играл там, в ЧК, что ли?
– С бабами возился, – тихо, но внятно вбивает Ткачеев.
– …С бабами?.. с бабами… Ах, товарищи, темное дело эти бабы… гиблое дело. И черт его дернул пожалеть эту сучку! Ну чем она его разжалобила – просто в толк не возьму. Если по нашему брату судить: никуда нам такие барыньки! Так, кружевная слюня какая-то, а не человек. И черт их теперь там разберет: сошелся он с ней или так обошлось. И ни к чему, я так думаю, нам этого дела касаться. Их это дело. Сука, известно, останется сукой. Зря он, конечно, ее пожалел. Подвела парня баба. Но ни в чем не виноват перед нами Алешка. Ну, маленько ошибся, это правда, промахнулся. С кем греха не бывает? Но остался он до конца нашим верным бойцом, нашим верным разведчиком. Ну а разведчик – всегда впереди, всегда отрывается; иной раз может из-за того и ошибиться. Но разве он через то виноват? Разве можно за это расстреливать? Да ведь в нем революционной крепкости – сплошная гора! А Шустрый кричит, что такого расстреливать. Нет, товарищи, я знаю: мы этак не сделаем. Мы, большевики, так не сделаем. Ну давайте ежели что перебросим его в другой город, на другую работу, ближе к рабочим. Это я согласен… А вот Шустрого… – и Щеглов, тряхнув хохолком, жестко вонзился ногтями в подвернувшуюся скатерть, – …Шустрого я предлагаю за неверную его подтасовку немедленно предать партийному суду!
– Прошу слова! – подскакивает Шустрый.
– Личным вопросам места не дам! – решительно режет Степан. – Сам виноват…
Подпрыгнули у Шустрого запятые бровей и застыли в стойке удивленья.
– …Что ж, конечно, обязанность твоя не легка: раскапывать всякие подлости. Вот и привык видеть всюду либо завзятых мерзавцев, либо небесных героев. Отсюда и развел там всякую «злую волю», «справедливость» и прочую обывательскую галиматью. О массовом терроре даже заковырялся. Полезнее будет, если Цека перебросит тебя на другую работу. Не беспокойся: в твоих же интересах…
Степан вдумчиво обвел взглядом остальных.
– Итак?..
И вот тут-то медленно и устало поднял свои веки Ткачеев. И набежал тогда на Щеглова жуткий холодок, как от надвигающейся и клубящейся серым дымом грозовой тучи. Потому что ползут свинцы этой тучи неотвратимо, обволакивают все небо зловеще, и не знаешь наперед – напоят ли они притихшие нивы шумным ливнем, или выстегают притаившуюся жадность полей треском прыгающего града. И кажется Щеглову, что сидит он, застигнутый бурей, как заяц, согнувшись, и некуда ему спрятаться, и хлещет по его голове уверенный и жесткий градопляс Ткачеевых слов.
– …Да, оба неправы: и Щеглов и Шустрый оба не вникли в суть дела. Ведь сам вот Щеглов здесь признался, что Зудин попал из-за бабы, из-за кружев слюнявой кокотки, ядовитой и яркой, как мухомор. А ведь Зудин ее пожалел. Пожалел оранжерейную лилейность паразита, выкормленного с нашего пота и крови. Он ее пожалел, что погибнет, вишь, эта нежная прелесть от наших мужичьих коневых сапог. Он ее пожалел против нас и… погиб. Вот в чем суть.
От листочка лежавшей бумаги рвет Ткачеев конец, свернул трубкой, насыпал из кисета махоркой и, дав прогореть синей вони тлеющей спички, закурил.
– Ездили мы все эти дни со Степаном по заводам, – продолжал он, окутываясь, как пароход, плотными клубами дыма. – …Говорить не дают. Гонят, гулом гудят: «Господа комиссары! Как генерал к городу, так вы теперь к нам на заводы, а раньше где были? Шоколады жрали?! Где ваш Зудин? Давай его сюда, мы расправимся! Нам не каждый день выдают по восьмушке, а он шоколад?! У нас с голодухи мрут в холоде дети, а он с балериной в шелках?! Чего вы его защищаете?! Али рука руку моет? Покеда при нас вы эту мразь не изничтожите в корень – мы вам больше не верим. Не верим, не верим! И никуда не пойдем. Жрите свои шоколады!..» И ведь это кричат все рабочие. Демагогия, скажешь? Отсталые массы? А по-моему, так они правы. Ведь шоколад-то он взял? Взял. Доказывай теперь, что это не взятка. От белогвардейки? Нет, от «нашей», от «большевички». Как же, надуешь! По роже видать мамзель-стрекозель, чем она дышит. И ведь об этом весь город, все красноармейцы, все заводы, – все решительно знают! Вот поди-ка ты теперь, Щеглов, и втолкуй им всем сразу, что все это махонькая ошибочка, так – пустячки. Поди поговори-ка с рабочими. Убеди, что мы вышли на фронт, иначе город падет. Да что там – с рабочими! Ты разубеди-ка вот нашу широкую партийную публику ну хотя бы в том, что Зудин не брал золота! А где ж оно?! Вот почему эсеры и меньшевистики задрали носы. Их тянет на падаль. Ведь только подумать: в Совете, в нашем Совете поднять вдруг вопрос о роспуске ЧК! И в какой момент, ты подумай-ка! А знаешь ли, Щеглов, что за это голоснула добрая часть наших коммунистов, не говоря уже о всех беспартийных?! Что на это ты скажешь? Или, дескать, на то мы и большевики, чтобы все разъяснить и всех переубедить. Где? Когда?! А потом, что ты будешь им там разъяснять? Не виноват-де, Зудин, что так, мол, и так, мол, одиночный боец, разведчик. Заладил свое «не виноват». А кто тогда, спрашивается, вообще виноват? Никто и ни в чем. Ни ты, ни я, ни Колчак, ни Деникин. Ну и что ж из-за этого? Будем в «невинности» нашей пакости делать, а заводы и Красная Армия будут молчать: не виновны, вишь! Ну, уж нет, милый, дудки. На эсеров и меньшевистиков и на всю свору обливателей – нам наплевать. Но чтоб наплевать на мнение наших рабочих, наших солдат, – это уж, брат, извините. Отрываться от них мы не можем. Говорите тут сколько угодно: что и некультурные они, и с мелкобуржуазным наследством, и в политике-де не разбираются. Все можно клепать, а отрываться на столечко вот не моги, если мы эвон за какие мировые гужи ухватились и потащили весь класс за собою. И не зря они все так полезли на Зудина. При живой-то сварке с рабочею массой, – шалишь, брат, – на шелковые чулки не потянет. При живой-то сварке ты у рабочих всегда на виду, всегда на ладони, как под стеклом со всею твоею работой. Вот когда по тебе равняться-то будут, лучше всяких твоих пропаганд.
– Что же ты предлагаешь? – пропилил шепотком Вася Щеглов.
– Что я предлагаю? А первым делом не уминать зря невозвратное время, которого нет. Сейчас никого ни в чем не разубедишь и разубеждать уже некогда. Все товарищи – на боевых участках. Враги наседают. Надо сейчас же поднять всех рабочих и кинуть их в бой, иначе город погиб. И тут рассусоливать нечего. Тут нельзя рассуждать, что вот был, дескать, когда-то хорошим товарищем. Если он спотыкнулся сейчас в основном и тем внес разложенье в наши ряды, в нашу спайку с рабочею массой, – выход один. Кровь рабочего класса для всех нас дороже, чем кровь одного.
Шустрый стойко кивнул головой. А Вася Щеглов дрожко подернулся, как намокшая осенью птица, и его остренький носик еще больше отточился. Выпятив губы, Степан торопливо что-то писал на листочке бумаги, свернул, как записочку, и, поманив Шустрого, отдал ему, пошептав что-то на ухо. Тот деловито убег, а в приоткрытую дверь подуло сырым сквозняком. Стало зябко, и Вася поежился.
– Да, в здоровую яму попал он! – продребезжал он, вздыхая. – Но ведь можно же все-таки не убивать его, а как-нибудь этак…
– То есть как же? – не понял Степан.
– Ну хоть так. Взять там, что ли, к примеру, и объявить, что его расстреляли, а на деле сплавить его тишком куда-нибудь за границу, на подпольную работу, подальше – ну там в Америку какую-нибудь, что ли.
– Хочешь партию поднадуть? – зло усмехнулся Степан. – Нет, товарищ Василий, мы политиканством не занимаемся. Не скрывать это надо, а на деле на этом партию надо открыто учить.
– Выходит, стало быть, так – что скажет княгиня Марья Алексевна? – выглотнул Вася Щеглов.
Степан замер, густо налился кровью и хрястнул о стол кулаком что есть силы, да так, что карандаш опрометью вылетел на пол.
– Ну уж нет, брат! Не Марья Лексевна, а партия! Да-с! Наша партия! Тут мы шутить не позволим. И партии надо сейчас показать – на этом живом вот примере, не через кружки, а на деле – в глаза показать, куда ведет ваша идеалистика! «Одиночные бойцы»?! Если одиночные бойцы, то не забывай о связи с остальным классом. А то понадеются на «высокую честность» и «критический разум», а про копеечку, про рабоче-крестьянскую недоеденную копеечку и забудут.
И кажется Васе Щеглову, что плывут перед ним и кружатся, как листопад в сентябре, вереницы несчетных недоеденных этих копеек.
Вот кряхтит за сохою крестьянин; тяжелой, как комья земли, волосатой рукой стирает на шее зудящие капельки пота. И видит крестьянин в мечтах, как спело уже колосится и рябится поле, как сытые зерна шуршат в решете молотилки, как жмутся тугие мешки. И жадная боль нижет сердце, когда забирает пузаны базар, а журчащие груды побурелых копеек хватает чужая рука. По́дать, по́дать! куда ты идешь?!
В замызганном мазутном пиджачишке шмыгает рабочий возле станков. Там подвинтит, тут подправит. Трезвонит в ушах лязг и грохот, и сыпят станки бесконечным трескучим дождем зубастых гвоздей. Эти гвозди в кубастеньких ящичках рожают мешки медяков. Но знает рабочий, что завтра получка, а нужно покрыть все долги – и вновь ничего не останется. Зло огрызнется жена, подтырив дырявый подол и сунув сердито в котомку на завтрак усохлый ломоть. И медленно его растирая зубами и слюня языком, чтобы дольше продлить наслажденье пахучего черного хлеба, будет думать рабочий: «Разве гвозди стоят ломоть? А где ж остальное?»
Плывут и кружатся, как листопад в сентябре, вереницы несчетных недоеденных жалких копеек. Липнут в бурые вязкие кучи. Как тучи, вздымаются к нему. Горами густеют, твердеют и вдруг заостряются в грани гранитных громад, отражающих сумрак в асфальте. Но сумрак бежит и играет от переблесков граненых окон магазинов. Сверкают в витринах шелка. Звенят из-за стекол бокалы. Вихри музыки разноцветными лентами плещут на улицу. Матовый драп в белом кашне и с душистым цветочком в петличке небрежно сосет аромат папироски и ласково тискает в лакированный кузов авто что-то нежно шумящее в ворохе пухлых мехов.
– Ах, мон дье, мы забыли купить шоколад! Он ведь так возбуждает…
Гневно ревут и кружатся, как листопад в октябре, залпы несчетных недоеденных колких копеек. «Отобрать! Отобрать! Отобрать!» Щелкают ломко об штукатурку. С дребезгом звенькают в стекла. Тарахтят и грохочут железом по крышам. В гулких улицах пусто. За зеркальной витриной, проколотой круглыми пальцами выстрелов, – в жестяных тарелках, без соли, горох и пожелтевшая злостью селедка.
Тают, редеют, тончают тощие обглодки кровавых копеек. Их жует, и жует, и жует без конца – борьба из-за них. Рабочий заскорузлыми пальцами шилом дырявит новую дырочку в сыромятном поясе: надо потуже! Нехотя смотрит на поле крестьянин. Эх, если б отбиться!
И мечтает Вася Щеглов, как опять друг за дружкой вдогонку все гуще и гуще опять понесутся хороводами вихри недоеденных жестких копеек. Как, свиваяся в ковкую массу, они зазвенят стальными мослами махин на бетонных плотинах упругих и взнузданных рек. Как загудит из-под них в проводах гремучая сила, разнося всему миру яркий свет, жаркий зной и ту дивную мощь, от которой в роскошных зеркальных дворцах, среди сказочных род будут петь и блестеть вереницы машин. Вереницы веселых послушных машин будут неистово пучить для всех на потребу и наваливать быстрыми грудами, – на, не хочу, – драп, ботинки, супы и жаркие, шелка, шоколад и фарфор, полотно, духи и бисквиты, бархат и нежный батист. Загорелые, свежие, прибежавшие со спортивных площадок парни и девушки среди цветников будут разучивать стройные песни о том, как построили люди новый мир коммунизма из заскорузлых, кровавых, недоеденных чьих-то копеек.
Будто бы целую вечность смотрит задумчиво Вася Щеглов. Но это лишь миг. Глухо звукнули стекла. Так непрошено. В черные окна уже заползает синючий рассвет, а Степан так же упрямо режет воздух карандашом, плотно сжатым в руке.
– …И если кто-нибудь из нас об этих копейках забудет, если кто влюбленно размякнет сейчас от красивости и сладости этих кровяных грошей, превращенных паразитами в роскошь, – значит, тот загнил. Тогда, если есть время, спасай его, окунай в самую гущу рабочих низов. Если нет времени – бей. Иначе все наше дело, все наше великое дело борьбы сможет погибнуть надолго.
– А все-таки Зудина жалко, – вздыхает устало Щеглов. – Ах, если б вы знали, товарищи, как Зудина жалко!.. – и его голосишко осекся.
В руках у Степана что-то хрустнуло ломкое. А спокойный Ткачеев вдруг встал и рванул себе ворот рубашки. Отлетевшая пуговица щелкнулась о пол.
– Жалко?! А ты думаешь, нам, – и он мгновенно всех поравнял сверлящимся взглядом, – нам не жалко? Знаешь, Щеглов… – и Ткачеев, хрипя и шатаясь, вдруг сбил табуретку и грузно шагнул на него, хватая его за смякшие плечи. Качалась его борода, будто черная туча, прорезаемая широкою молнией желтых зубов. А тяжелые веки Ткачеева поднялись, словно люки, и сверкнул из них трюмный гудящий блеск раскаленных в огонь кочегарок. – Эх, Щеглов… да любой бы из нас здесь с радостью б встал за товарища к стенке. Но разве этим поможешь? Разве этим спасешься от белых? Разве этим избавишь хибарки рабочих от кровавого воя безумных расправ? Тебе его жалко, его одного? Ну а других, а всех остальных? Их не жалко? Как быть с ними? Ты о них позабыл?..
И растаяла вмиг в сознанье Щеглова сонная теплота бузины. Засвистел перед ним пожар лопающихся балок, треск звенящих окон и придушенный режущий крик насилуемых женщин. От этого зубы скрипят, стынут жилы и воют собаки.
Посиневшие стекла опять дребезгнули.
– Началось, видно, – встрепенулся Степан. – Надо поторапливаться, а то уже бой. Если бы только продержаться до завтра, а там мы покажем.
Дверь скрипнула, и впрыгнул запыхавшийся Шустрый. Он перевел дух:
– Дела наши плохи, – и шагнул к табурету, – мы отдали вечером Осенниково и Стеглицы. Противник ввел в дело английские танки. Фомин сейчас арестовал в прибывшем полку одиннадцать офицеров: готовили переход вместе с частью. Курсанты по-прежнему держатся на опушке леса у Крастилиц.
Степан, торопясь, развернул хрустящую смятую карту-трехверстку, и все дружно склонились над ней.
– Нд-да… – промямлил он.
– Игнатьев сейчас говорит по прямому с Москвой. Обещал прийти вслед за мной, если не задержит что срочное.
– Ну что ж, – покачал головою Степан, – ничего не попишешь. Дело ясное: времени нет. Я говорю о том, кто забыл про копейки. Надо немедленно двинуть всех рабочих на фронт. И для этого именно: «для этого», а не «за что» Зудин будет расстрелян.
Молчанье. Шелест расправляемой карты да тиканье часиков на руке у секретаря.
– Д-ддда, – выдавил наконец из себя Щеглов с посеревшим лицом и смятыми глазами, и его кадык глотнул этот звук. Он вдохнул. – Если бы вот рассказать, – начал он, – если б рассказать обо всей этой нашей борьбе, тяжелой борьбе, будущим поколеньям…
– Некогда это рассказывать, брат, – перебил Степан, быстро вставая, – да и не поверят, пожалуй…
– Поверить, пожалуй, поверят, – процедил Ткачеев, – но только не все это поймут, это верно. А нытики, те поскулят наверняка и о жертвах и о жестокости. Ну да черт с ними, не они делают революцию.
Он опять достал махорку и вновь закурил.
– Ну-с, так вот, – встрепенулся Степан, снова прищуря глаза и обращаясь к секретарю, – запишите-ка такого рода постановление: «Бывшего предгубчека Зудина… за отрыв его от рабочих и партийных масс… и за прием на службу в ЧК белогвардейской шпионки и взяточницы… бывшей балерины, гражданки Вальц… от которой Зудин принял для семьи своей чулки и шоколад… и за недостаточный надзор за вверенным ему… Зудину, аппаратом губчека, следствием чего… явилось взяточничество сотрудника, гражданина Павлова… и других, следствие по делу которых еще продолжается»… Написали? Так вот: «Каковыми преступлениями своими он, Зудин… подорвал доверие рабочих масс к Советской власти… и в острый момент белогвардейского наступления… внес губительное разложение в дружный фронт трудящихся… – вышеупомянутых: Зудина, бывшего предгубчека, а также сотрудника его, Павлова… и бывшую балерину Вальц… расстрелять… Точка. Приговор привести в исполнение немедленно. Члены судебной комиссии»… Готово?
Он взял исписанный лист протокола, прищурясь, прочел и расчеркнулся. Расписался и Ткачеев. И Щеглов подписал. И глаза его были встревожены и жестки.
Шустрый ходил по комнате из угла в угол, растерянно шаря по пустым стенам озабоченными глазками. За окнами стало совсем сине-сине, и все отчетливо сейчас услыхали, как то и дело звякали стекла от буханья дальних пушек.
– Вы велите-ка, – обратился Степан к секретарю, – вы велите-ка машинистке Игнатьева сейчас же перепечатать наше постановление на машинке. Одну из копий надо будет срочно передать по прямому в Цека. Другую немедленно сдать в типографию. Через три часа оно должно быть во что бы то ни стало расклеено по всем улицам и развезено по заводам. В газету тоже сейчас же обязательно. Я вместе с Игнатьевым выедем на фронт, должно быть, сейчас же. – Он взглянул на часы. – Необходимо будет только Фомина еще повидать. Что он там успел сделать за ночь в чека? Впрочем, не зайдешь ли ты к нему, Ткачеев?
– Нет, я лучше примусь как можно скорей за заводы. К обеду я уже все их объеду и наберу крепкие рабочие дружины. Уже к вечеру все это будет на фронте. Этак будет верней.
– Да, да, да, хорошо! Ну а ты, Щеглов, оставайся здесь, – кинул ему Степан, заметив, что тот торопливо застегивает уже надетое пальто. – Ты останешься здесь и будешь держать связь с Москвой и с нами.
– Эх, – чмокнул Щеглов недовольно, – а я было тоже собрался сейчас на заводы…
– Нет, уж тебе придется посидеть этот денек в исполкоме. По заводам поедет Ткачеев, прихватив кой-кого из оставшейся в городе местной публики. А ты уж здесь посиди, пока мы не вернемся. Поговоришь по прямому с Цека. Да ведь вот еще, чуть было я не забыл! Комбриг Шкляев прислал вчера вечером мне срочную телеграмму. Ему дозарезу нужно шестнадцать пулеметов. Я еще с вечера распорядился, – сейчас их, наверное, уже приготовили. Надо будет их срочнейшим порядком немедленно же отправить с кем-нибудь на автомобиле к Шкляеву. Поговори-ка об этом с Лаврухиным. Я и сам бы повез, да думаю, что мы проедем сначала к Крастилицам. Надо будет прежде взглянуть, что делается у курсантов.
Все уже были одеты в пальто, и Шустрый натягивал тужурочку. Секретарь унес протокол и завернул свет. Стены сделались серо-сизыми. За окнами стлался молочный туман. Стекла упруго вздрагивали и дребезжали.
– В-вы разрешите мне, – остановился Шустрый бочком перед Степаном, – вы разрешите мне отвезти эти пулеметы от Лаврухина к Шкляеву. Кстати, я и останусь там, у него, пока положение будет серьезным. Ведь все равно же мне здесь больше делать абсолютно нечего, – и он потупился.
– Да, да, поезжайте. Это отлично так будет, – ответил Степан.
Все направились к дверям.
– Да, а ведь надо будет все же кому-нибудь из нас объявить Зудину о нашем решении. Ты, что ли, сходишь, Щеглов?
– Нет, Степан, я прошу… не могу… тяжело мне…
– Ну и мне тоже некогда. Придется, очевидно, тебе, Ткачеев, зайти сейчас к нему на минутку…
Вышли из комнаты все сразу деловой сплоченной торопливой гурьбой. Стало сразу тоскливо и тускло. На полу валялись окурки и клочья бумаги. На красной скатерти стола лежал брошенный Степаном переломленный надвое им карандаш. А на табурете остался вдруг, так неожиданно ставший теперь никому не нужным, позабытый Шустрым его туго застегнутый черный портфель. Пахло табачным дымом, который качался густой сизой пеленою, напоминая о грохоте ближнего боя и о треске предстоящего расстрела.
9
Какая-то длинная тяжелая цепь тянет Зудина за руку, и нет больше сил сопротивляться. Он жалобно стонет, ворочается и открывает глаза. Серое утро смотрит трезвым расчетом, а у кровати стоит, неожиданно так, бородатый Ткачеев. Зудин вскакивает. Ему сразу же очень тепло… до горячего, и сердце стучит о стенки груди, как пулемет.
– Я разбудил вас, товарищ?! – Как мягко и радостно он говорит. Кожа Зудина вся горит от волненья, и пот выступает. – Но не было времени ждать. Надо спешить, и мне поручено сообщить вам наше решенье.
Он садится с ним рядом на жесткий, колючий тюфяк измятой кровати. Зудин весь так и пьет жадно отблеск его тяжелых опущенных глаз.
– Да!.. Расстрелять, – отвечает он так грустно и мягко на немой вопрос, подымая глаза.
– Я это знал, – шепчет Зудин и ласково берет Ткачеева за руку, – я это знал.
Ткачеев вздыхает.
– Тяжелое, товарищ Зудин, это дело! Вы не подумайте, что мы с ненависти там какой или мести: выхода нет больше! – и поднял Ткачеев на Зудина свои глубоко запавшие замученные глаза. – Конечно, этот Шустрый много ерунды натрещал. Но ведь и он парень хороший, честный такой, убежденный и искренний; недалекий немножко – ну да где же всем за звездами гоняться. Конечно, мы с ним не согласились.
– А я было думал… – как бы пугаясь чего-то мелькнувшего, дернулся Зудин.
– Нет, мы рассуждали просто: конечно, ты виноват, ты был виноват. Ты обострил недоверие рабочих так, что может погибнуть все наше дело. Ты понимаешь: не мы, а наше дело! И дернула тебя нелегкая пожалеть эту бабу. Мало ли этой жалкой сволочи осталось нам по наследству. Ведь ты же старый революционер?! Ты должен был глядеть только в главное, и поэтому: мимо, мимо бы! Но, разумеется, эта старая гниль очень прилипчива. Себя поскребешь, – все мы, пожалуй, такие же, за самыми малыми исключеньями. А когда вскинешь после этого взгляд на ту гору, на которую мы так дерзко влезаем, – даже самим себе противны делаемся. Много уже липнет к нам этой слизи. И все это было б, конечно, сущей ерундой, если бы мы были одни. Какие есть, такие и есть. Черного кобеля не отмоешь добела. А то ведь мы тащим: мы вожди! Стоишь иной раз на площади на митинге и прищуришь глаза: сколько под тобой этих самых голов, голов, словно волны на море, – не видать им конца-краю. И ведь, знаешь, революцию-то, переустройство мира на новых началах делают вот они, эти самые головы, а не мы одни. Это, товарищ, мираж, самообман, будто мы, вопреки им, свою волю творим. Предоставим думать так дурачью. Ни черта не можем мы делать насильно. Нет, мы лишь сковываем в единую волю их стихийные желанья. Мы сберегаем от непроизводительных затрат и тем увеличиваем в тысячи раз и направляем в нужную цель напор нашей классовой силы. Только то мы делаем и можем делать, что подпирается вот самыми простыми и грубыми желаньями вот этих тысяч голов. Самая возвышенная идея растет из корней самого узкого и жадного интереса масс. И это правильно, и это хорошо. Ребята, хотите сытой и привольной жизни? Чтоб не трястись в драных опорках над черствыми корками хлеба! Чтобы жандармы не гноили бы больше рабочих по тюрьмам! Я говорю вам: хотите?!
Рев идет, пена брызжет у них по губам. Я укажу вам, как это сделать, чтобы всем их раздобыть. За мной все! Разбивай это! Бей то! Наворачивай третье! – и рушатся бетонно-чугунные стены, стальные балки трещат, как гнилые лучины, потому что это делают они, массы, которые сами порою мало что знают, но верят, что сейчас вот все они получат желанную сытость и волю. Но стены разбиты, воля завоевана, а сытости все нет как нет. Ты пачками ловишь усталые, злые глаза недоверья. Но разве ты их обманываешь?! Разве ты сам-то не знаешь, что путь к этой сытости хоть и труден, но верен. И ты смотришь уверенно, открыто и честно им прямо в глаза, потому что ты прав, ты им не лжешь. Ты один твердо верен самому широчайшему интересу. Понемногу все успокаивается.
Где же сытость?
Товарищи, вы слишком нетерпеливы. Вы встали всего лишь на первую ступеньку. Запаситесь выдержкой и злостью к врагам, чтобы таким же стремительным, дерзким напором дружно подняться – и дальше. Или вы не видите, что желанная сытость к вам ближе?
Видим, видим, конечно! – кричат они восторженно, но они ровно ничего еще пока не видят и не могут так скоро увидеть, они только искренне верят, что видят.
Ты их ведешь, и они тебя слепо любят, свято боготворят. Ты их герой, кавалер всех орденов, побрякушек, регалий, ты их бог, диктатор, добрый черт, – ну, словом, все. Ты крушишь вместе с ними все преграды, что попадаются нам на пути. И эта масса рада жизнь положить вся, как один, за тебя. Ради сытости? Нет! Ты знаешь: о самой-то сытости она минутами совсем забывает. Она упивается невиданно дивным размахом, процессом самой борьбы. Но не подумай, что теперь ты можешь тянуть за собой всю эту массу, пользуясь только одним ее увлеченьем. Маяк этой сытости, ради которой она поднялась, должен светить постоянно, – все ярче и ближе и ощутимей. Только тогда наш успех улучшения устройства человеческого общества обеспечен. Только тогда вся эта масса рада пожертвовать жизнью ради борьбы, ради идеи твоей, которую пускай досконально не знает и не понимает, но великолепно чует ее своим подсознаньем. Она ощущает ее в тебе, в твоем сердце, в твоем образе, в твоей форме, в твоей честной, открытой любви к этим самым томящимся массам – любви, тоже ежесекундно готовой на смерть ради счастья всех их, исстрадавшихся. Вот тогда ты становишься пульсом, сердцем, мозгом всей этой святой и великой толпы. И ты можешь с ней делать величайшие сказки чудных подвигов, которые еще не видывал мир, и, взглянув на которые, небо обвиснет в немом изумленье разинутым ртом. Только гляди сам не ошибись. Все рассчитай, взвесь, передумай, проверяй каждый свой личный и общественный шаг. Вникай в суть всего, чтобы потом перед новой, неожиданной раньше преградой не проявить ни полтени смущенья, а шутливо крикнуть: «Даешь?!»
Вот смотри на себя, как ты весело сверкаешь глазами и глядишь мне в рот. А теперь ты подумай, вообрази только, как один из этих могучих вождей, что зовет и ведет огромные массы голодных и жадных страдальцев на борьбу, разрушенье и подвиг, – ты понимаешь ли: подвиг самопожертвованья! – вдруг нагибается и прячет, не думая ни о чем, просто так, машинально, какой-то отбитый кусочек старой роскоши к себе в свой карман. И все это, понимаешь ли, видят. Ты только подумай!
Ткачеев снова вздыхает и долго крутит головой.
– Уж очень, товарищ, высоко мы залезли: никуда не спрячешься. Как же тут быть? Борьба слишком жестока и рискованна. Из ошибок и поражений ткутся паруса недоверья. Каждый зорко смотрит друг за другом. Каждый следит за общим достиженьем. Недоверчивы мы, недоверчив Шустрый, и ты недоверчив. Не качай головой. Я видел, как ты смотрел на нас там, в комиссии, как на враждебный тебе узколобый синклит. Ведь это так чувствовалось. И вот вся рабочая масса прядает резко назад, подымая все гуще и гуще леса кулаков.
Изменник, предатель! А может быть?.. ну да, ну конечно, и все вы такие же! Одним миром мазаны! Бей их! – звучит где-то сперва совсем одиноко дерзкий провокаторский голос. Вот и скажи, как тут быть?! И ведь теперь еще одна только секундочка промедленья – и нас всех растерзают в клочки: объяснять тут и поздно и невозможно! Враг у ворот. Город падет, если мы сразу же не двинем всю массу рабочих на бой.
Масса никогда не поймет длинных оправданий. Масса понимает лишь односложное: да или нет! И все дело, – понимаешь ли, все великое дело борьбы за счастье миллионов людей, все, что уже добыто столькими жертвами, с такими усилиями, страданиями и кровью нескольких поколений, – сейчас вот разлетится, как дым, как мыльный пузырь, из-за ничтожнейшей детской неосторожности одного несчастного товарища, который устал, оторвался и совсем позабыл, кто он и где он находится. Ну скажи, что же с ним делать, чтобы спасти все великое дело?!
– Убить, – глухо, зловеще произносит Зудин.
– Да, убить! – подтверждает Ткачеев. – И мы убиваем тебя, чтобы спасти наше дело, и зная, что все это сам ты должен понять… – и Ткачеев крепко стискивает его руку и встает. – Да, конечно, все это ужасно тяжело, если во всем этом разобраться как следует. Вот Щеглов предлагал даже поступить так, чтобы тебя не убивать, а только сделать для всех искренний вид, что убили, куда-нибудь скрыть, ну послать за границу, что ли, навсегда, на подпольную работу, под чужою фамилией. Но уж очень, брат, трудно, немыслимо трудно что-либо сделать, чтобы это осталось для всех неизвестным, незамеченным. Уж очень мы все наверху, на глазах. А кроме того, мы ведь партия, и партия колоссально большая. И кого только у нас нет? Не будем говорить о подозрительных субъектах – в кубанках, в галифе и венгерках, которые жадно бегают глазами по сторонам и за которыми нужен глаз да глаз. А сколько таких, которые честно и искренно, рука об руку с нами рвутся вперед, но стоит только возникнуть малейшей задержке, замешательству в наших рядах, – вот как сейчас, – и сразу же мертвенная бледность ползет, как мокрица, по лицам, их языки заплетаются, а глаза, как крючки, цепко хватаются за первую соломинку, которая, сам знаешь, тонет. Скажешь, мало таких?.. И вот если сейчас мы объявили бы всем им, в массе честнейшим и преданным людям: знаете, Зудин натворил уйму гадостей, сам того не сознавая, – как бы ты думал, поняли бы они что-нибудь? Поверили бы?! Не потом, когда в дикой и долгой борьбе за переустройство всего мира они перестроили бы свои мозги. Нет, а сейчас вот, когда все оно есть так, как есть?! Никто не поверит. Ты понимаешь ли, никто не поверит: только вспомни о Шустром!.. И ты знаешь, что подумают? – Ткачеев сердито размахнулся рукою. – Черт знает что подумают!.. И ты думаешь, этих опасностей в виде шоколада, шелков, балерин, золота, вин, музыки, картинок, конфеток и всяких других пустяков и бирюлек, в которых, по существу, абсолютно ничего нет презренного и гадкого, но которые сейчас просто и непривычны и недоступны для массы, потому что на всю массу этого добра не хватит, так как все это только остатки мишурной шелухи от небольшой горсточки прежних властителей мира! Ну, скажи, разве этих проклятых опасностей не валяется чересчур что-то много под нашими ногами?! Именно под ногами всех нас, идущих впереди, то есть партии. Или ты думаешь, соблазн не велик? Или мы будем хвалиться, что среди нас очень много таких, у которых есть монашеская закалка подполья? Да и то надолго ли хватит ее? – И он опять сердито потряс бородой. – Ну и что же скажут тогда остальные, когда узнают, что старый, испытанный и уж, казалось бы, честнейший Зудин, который так «подло всех обманул», – и это, брат, верно, что «обманул» и именно «подло всех обманул», и который брал взятки и шоколадом, и шелком, и золотом – в этом последнем ты их тоже не разуверишь, потому что вековая нужда их заставила быть подозрительными на этот счет, – и вдруг этот самый злодей Зудин на словах-то расстрелян, а на деле… спрятан… вождями!.. Ай да вожди!.. Ты понимаешь, Зудин, что это было бы благодатным, теплым, весенним дождем на робкие всходы наглых хищений, лицемерного карьеризма и прочего бурьяна, который, как еж, жадно топорщился кверху, к шумному росту, на гибель нашему делу.








