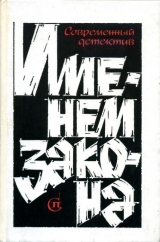
Текст книги "Именем закона. Сборник № 3"
Автор книги: Эдуард Хруцкий
Соавторы: Гелий Рябов,Игорь Гамаюнов,Александр Тарасов-Родионов,Борис Мегрели
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 28 страниц)
– Где Сквирский?
– Должен завтра приехать.
– Кто у него дома?
– Никого.
– Теперь там хорошая вентиляция. Боюсь, простудится.
Повесил трубку. Возвращаясь, представлял, как приятели Сквирского, зная, что стены слышат, затеют спор, является ли городской романс предшественником туристской песни. Но что-то царапало его в этой истории. Не слишком ли большой группой поехали они к Сквирскому? Еще ведь технарей-«умельцев» прихватить надо. Но чем больше народу, тем труднее соблюсти режим секретности, значит, легче наследить или вовсе провалить дело. Да и так ли уж надо устанавливать там дорогостоящее оборудование? Ведь без него хорошо известно – собирается разношерстная молодежь, разговоры достаточно общие, дальше мечтаний о свободных профсоюзах не идут… А вдруг это мероприятие – фикция?.. Попытка проверить, через кого уходит информация. И он, Орехов, впопыхах проглотил наживку. Телефонный разговор, конечно, остался на пленке. Неужели прокол?
Несколько дней Орехов выжидал. Всматривался в лица – та же отрешенность. Пытался говорить. В ответ – скупые, вялые реплики. Вдруг заметил – ему не дают сводок. Вызвали из отпуска, а серьезных поручений нет. Он знал, где сводки лежат, хватило нескольких минут пролистать. Ни в одной ни слова о мероприятии «Т» у Сквирского. Обычно после установки оборудования информация начинает поступать на второй, в крайнем случае, на третий день. Может, Сквирский не вернулся? Позвонил ему. Трубку сняли, и в нее ворвался гул голосов – квартира, как всегда, битком набита. Так. Все ясно. Мероприятия «Т» не было. Пущена ложная информация. Цель – проследить ее путь. Значит, его, Орехова, уже разрабатывают.
Вечером, дома, предупредил жену: возможны неприятности. Ничего особенного – служебное расследование. Немного потреплют нервы. Возможно, придется сменить профиль работы. Давно пора. Надоело заниматься не тем, к чему готовился.
Он тогда был уверен – до суда не дойдет. А служебное расследование станет поводом для его рапорта «на самый верх». Ну сколько можно заниматься фальсификацией – ведь никто из их подследственных не призывает к насильственному свержению существующего строя, не угрожает государственной безопасности. Сколько можно за их счет создавать себе репутацию много работающих людей, получать награды и премиальные, да еще радоваться… Чему?.. Тому, что удалось спровадить в тюрьму умного, совестливого человека?.. Ведь после процесса над Орловым участники суда – судьи, обвинители, следователи устроили дружную попойку, к тому же не на свои деньги – по этому случаю были выписаны фиктивные премиальные… Да не оттого ли большинство коллег Орехова тяготится своей работой, хотя и не все говорят об этом вслух. Не потому ли стараются уйти под разными предлогами. Он, Орехов, тоже порывался. Останавливала мысль: кто будет помогать тем, гонимым, не боящимся говорить правду?
А потом Орехов заметил «наружку». Эти три «Волги», обгонявшие друг друга, менявшие номера по нескольку раз в день, в общем-то, ничем особенным не выделялись. Но куда денешь отрешенные лица сидящих. Их внимательно-равнодушные взгляды. Точно рассчитанные движения. Вот одна из «Волг» тормознула, и сидевший возле водителя пружинисто выскочил к табачному киоску – ну как он, одетый в джинсы и тенниску, спрячет свою военную выправку! Орехов понимал: эта команда из шестнадцати человек сейчас фиксирует каждый его шаг, не жалея пленки. Сам видел (знал, где посмотреть) несколько снимков. На одном он снят с Морозовым на улице. Сколько сил, сколько средств уходит вот на такую ерунду, думал Орехов, и ему вспоминался Путивль, бурьян на колхозной земле, нищие старухи и заколоченный досками магазин.
И наконец день, когда ему по телефону сказали: «Здесь тебя заждались». Он понял – у них все готово. Приехал на работу. Начальник разглядывал его в упор, будто первый раз видел, забыв тяжелую руку на раскрытой папке. Виктор узнал сразу – досье на Морозова.
– Слушай, Орехов, – спросил начальник, – а как ты относишься к раскулачиванию? Вот тут, – он похлопал ладонью по странице, – ты с Морозовым на этот счет говоришь. Получается, что осуждаешь коллективизацию.
– А вы поезжайте по деревням, поглядите, – ответил Орехов. – Да поинтересуйтесь, сколько мы зерна у Канады закупаем.
Так началось это «служебное расследование».
В Лефортово после первого допроса он сел писать рапорт. Но прежде чем отправиться в камеру, расстался с обручальным кольцом, ремнем и шнурками.
А еще через месяц пришлось расстаться с надеждой, что о нем доложат Андропову и «его люди» поведут следствие, а высшие чины с Лубянки захотят с ним, Ореховым, побеседовать. Оказалось: его анализ причин диссидентского движения никого там не интересует.
Тогда он стал защищаться, утверждая: никому ничего не передавал. Знал – доказать его вину, состоящую в «разглашении», трудно. Звонил он только из телефонов-автоматов, голос на пленке из-за плохой слышимости идентифицировать невозможно. Морозов же наверняка будет держаться условленной версии: их отношения это всего лишь попытка Орехова его завербовать.
Но Морозов на следствии и на суде, начиная свои показания словами «Я обязан Орехову, он помирил меня с дочерью», рассказывал, какие и кому передавал сведения от Орехова. Он знал, ради чего старался. Его осудили на четыре года ссылки и отправили не в Якутию, а под Воркуту.
Орехов же получил восемь лет лагерей.
Из дневниковых записей Орехова в зоне
«…Сделал я это, чтобы мне не было стыдно смотреть людям в глаза. Чтобы мне не сказали: «А почему ты, зная, что творилось, ничего не предпринял?» Сейчас я вижу – не напрасно старался».
Из переписки Орехова с дочерью
«…Несколько дней назад получил поздравительную открытку. Спасибо тебе за хорошие пожелания. Анжелка, ты уже такая взрослая, что мне трудно тебя представить. Без меня из девочки-второклассницы ты уже стала студенткой техникума. Я помню, какой ты была маленькой, а сейчас уже обогнала маму в росте… Что тебе написать, дочь? Поучать тебя не хочу, потому что вижу в тебе взрослого человека. Хочу только попросить больше внимания уделить маме – она очень устала за эти годы… Совсем скоро, через несколько месяцев, я освобожусь и нам всем будет легче… Для тебя теперь не секрет, где я. Ну а о том, почему я здесь, поговорим, когда вернусь…»
Встреча на Кропоткинской
Он вернулся. И кажется, сбылось предсказание его жены Нины о том, что они еще будут счастливы. Работал на фабрике грузчиком. Потом – юрисконсультом. Недавно открыл кооператив – шьет теплые куртки. Ощущение необыкновенное, когда видит прохожих на улицах Москвы в своих куртках – будто все эти люди его друзья.
Орехов ничего не знал о своих единомышленниках. Не знал, что его имя среди диссидентов, несмотря на закрытый суд, стало известным, а потом превратилось в легенду. Его долго не могли найти, считали погибшим, а многим он стал казаться просто мифом. Морозова, единственного из диссидентов, кто знал его в лицо, уже не было в живых – он повесился в Чистопольской тюрьме, получив вторую судимость за распространение «Архипелага» среди ссыльнопоселенцев.
И все-таки они встретились. Когда после моей публикации в «Литгазете» об Орехове ему позвонили, он позвал и меня. Уникальная эта встреча была у метро «Кропоткинская», на Гоголевском бульваре, где продают сейчас с лотка новую прессу. Именно там, на подтаявшем мартовском снегу, под пронзительным воробьиным трезвоном стояла группа людей. Орехов подошел к ним. Его обступили. Его буквально прижали к газетной витрине, забрасывая вопросами.
– …Ваше настоящее имя Олег или Виктор?
– …Так это вы мне звонили перед обыском?
– …Почему решились на такое?
– …Был ли кто-нибудь среди ваших коллег, кто также помогал диссидентам?
– …Сколько вы пробыли в лагере? Среди кого?
– …Я вспомнил: у меня на обыске вы отдали мне тетрадь со стихами. Только тогда у вас не было бороды.
Его трогали за локоть так, будто старались удостовериться – живой.
Ему пожимали руку.
Перед ним винились: не смогли тогда, в те годы, найти его. Если бы знали, в каком лагере он находится, попытались бы помочь ему и его семье.
Его спрашивали, протянув к нему диктофоны, приготовив блокноты, что нужно, на его взгляд, сделать, чтобы охота за инакомыслящими не повторилась. Конечно, деполитизировать госбезопасность, отвечал Орехов. КГБ должен стать подконтрольным не ЦК КПСС, а парламенту.
Он говорил то, что сейчас уже растиражировано чуть ли не всеми газетами. Но его слова обладали иным весом. Ведь как было, вспоминал Орехов. Вся их оперативная информация, прежде чем попасть в прокуратуру, а затем в суд, проходила селекцию в парторганах. Все, что хоть как-то компрометировало партбюрократию, отметалось напрочь. Потому-то коррупция и взяточничество стали нашей обыденностью. Фактически в стране органы госбезопасности отсутствовали. Вместо них действовали органы партбезопасности. Они, расправляясь с инакомыслием, укрепляя монопольную власть КПСС, помогали ей вести страну к экономической разрухе, а народ – к нравственной деградации.
И еще спросили Орехова: почему все восемь отбыл целиком – без условно-досрочного освобождения? «Не заслужил, – усмехнулся Виктор. – Вы же знаете, как это бывает». Они, стоявшие вокруг, знали. Многие из них прошли через лагеря и ссылки. Так вот, и там, в зоне, Виктор не успокоился – отправлял письма в инстанции. Лагерное начальство квалифицировало их как клевету на порядок, за что Орехов не раз сидел в штрафном изоляторе. Дважды он объявлял голодовку. Словом, не раскаялся. Выпущен был ровно через восемь лет – и не месяцем раньше.
Откуда в нем такое упорство? И что привело его к такой судьбе? Ведь не случайное стечение обстоятельств – он действовал как раз вопреки им. А мог ли иначе?
После всех разговоров с Ореховым, его многочасовой исповеди, писем и дневниковых записей утверждаю – не мог. Он из той породы людей, кому, как говорят, на роду написано искать правду. Из тех, кто обречен на правду. И – на жертву ради нее.
Вот он вспоминает: когда аресты пошли один за другим, он понял – его помощь мизерна. И мало что меняет. Хорошие, умные, отважные люди уходят в ссылки и лагеря. Был момент отчаяния. Тогда он спросил себя: ладно, отойду, начну другую жизнь, как-то устроюсь – что будет? Меня для них не будет. И их для меня – тоже.
Такого он представить себе не мог.
И уже там, в неволе, без них он все равно был с ними.
…Каким поразительно крепким становится человек, осознавший, что он обречен на правду.
ИЗ ПРОШЛОГО
А. Тарасов-Родионов
ШОКОЛАД
1
Смутною серенькой сеткой в открывшийся глаз плеснулась опять мутно-яркая тайна. И нервная дрожь проструилась по зяблому телу, и ноет в мурашках нога. Но сразу внезапно резануло по сердцу, и все стало дико понятным: узкая жесткая лавка, сползшее меховое манто, муфта вместо подушки и глухая тишина, нарушаемая чьими-то непривычными всхрапами. Да где-то за стенкой уныло пинькала, падая в таз, редкая капелька, должно быть воды.
И стало жутко-жутко и снова захотелось плакать. Но глаза были за ночь уже досуха выжаты от слез, а у горла, внутри, лежала какая-то горькая пленка. Елена осторожно протянула онемевшую ногу, подобрала манто и насторожилась.
«Ни о чем бы не думать! Ни о чем бы не думать», – пронеслось в мозгу.
Но какой-то другой голосок, откуда-то из-под светло-каштанных кудряшек, которые теперь развились и обрюзгли, тянул тоненькой ледяной струйкой: «Как не думать?! Как не думать – а если сегодня придут, уведут и расстреляют?!»
И снова мокрая дрожь пронизала Елену.
За стеной, коридором, чьи-то шаги. Как чуткая мышка, спасаясь от кошки в угольный тупик, Елена навострила ушки. Кто-то шел равномерной, неторопливой походкой, и его гулкие стопы своим топотаньем заслонили тусклое звяканье падающей капельки. Вот шаги близятся к двери, вот – мимо, мимо уходят. Пропал приступ страха, но сердце Елены колотится жутью. Рамы седеющих окон ясней и ясней прозрачневеют, и лишь по-прежнему храпят лежащие по углам мужчины.
«Что за животные! Как это они умудряются спать так спокойно, – думает Елена. – Сегодня ночью из них увели целых пять, и обратно они не вернулись. Боже мой, боженька! что теперь с ними?!»
А услужливое воображение уже вырисовывает ей темнеющий угол каменного двора с бугорками запачканных кровью расстрелянных тел. Никогда ничего похожего Елена не видала ни в действительности, ни на картинках, но кто-то когда-то ей рассказал обо всем этом, очень наглядно, и образ рассказа вонзился ей в память, будто живой.
«Латыш ведь сказал, что сегодня судьба всех нас будет разрешена, – пронеслось в ее сознании. – Пятерых уже нет, осталось только четверо. А может быть, и меньше?!» – подумала она и ужаснулась. Ужаснулась и встала и стала на цыпочках красться вдоль стен, чтоб проверить. Вот у окна круглым клубом чернелся Гитанов, завернувшийся в шубу толстяк. В двух шагах от него в уголке, под серой солдатской шинелью, вытянув длинные ноги, спал Коваленский; а там, на отскочке, поодаль, возле стола распростерся и тот, неизвестный с бессмысленным пристальным взглядом куда-то насквозь вдаль смотрящих сереющих глаз.
«И фамилия его какая-то странная, – подумала Елена, – Фиников! Никогда, никогда раньше такой не слыхала. Что-то приторно-сладкое, липкое, экзотическое. Да и человек какой-то он несуразный, никогда раньше нигде не бывавший. Не он ли навлек этот арест?»
– Фиников, – пробуркнул он быстро и глухо, так что даже Латыш, всех их переписавший, заквакал тревожным вопросом: – квак? квак? квак?
– Фи-ни-ков! – отчеканил тогда неизвестный, и Латыш успокоился сразу и перевел испытующий взгляд на Коваленского.
Неужели же он – Коваленский? – подумала Елена. – Ах, как знать? Нынче в душу чужую не влезешь. Гвардейский поручик, белоподкладочник, жуир, балетоман… накачался гражданского долга и… несчастненький, бедненький… Страшно даже подумать, – содрогнулась она внезапно, – с кем захотел потягаться, чтоб сделаться лишнею жертвой расстрела!»
И Гитанов? Этот толстый, лощеный, всегда чисто выбритый и расчесанный гладко тюфяк, душка режиссер, кумир молодых инженюшек… Ах, впрочем, разве существует пощада или здравый смысл у этой кровожадной людской мышеловки?! Всех, всех расстреляют и ее, Елену Вальц, в том числе. А за что, за что?» – задумалась она и, хрустнув пальцами, машинально пластично заломила вверх руки. И стало прохладней. Сырое, желтое северное утро прозрачным утопленником медленно, грузно сползало в колодец темного двора, куда выходили белесые окна. Опять стало жутко. Быстро, бесшумно вернулась Елена к скамейке, легла и закуталась в мягкий мех манто с головой. – «Ни о чем не думать! Ни о чем бы не думать!» – стиснувши зубы, настойчиво сдавила она свои мысли. Широко раскрывшийся глаз под манто уже ничего не видит. И стало приятно тепло от собственного дыханья и мягко от пушистого меха, щекочущего носик и щеки. И пахло духами, как свежей травой в душистое майское утро.
«Должно быть, от платочка, что смочен слезами, запрятан в муфту, под головой». – Но доставать не хотелось. Истома баюкала руки. Как стало вдруг мирно, легко и уютно! Припомнилось мягкое ложе постели… а может быть, это уже не постель, а… лужайка под липой и брызжущим солнцем в зеленеющем парке, и нежно былинка щекочет, ласкаясь у ушка… А там, наверху, в голубом и бездонном огромном провале, крутятся, бегут облака. Нет, это не облака. Это колеса ландо, которые, быстро-пребыстро вертясь, жуют хрусткий гравий аллеи. Ноги Елены укутаны пледом. Его поправляет услужливо рядом сидящий. Он – милый, и рука его в упругой коричневой лайке. Так хочется вскинуть ресницы, нависшие тучкой, и весело бросить глазами в лицо его радостный, нежный, ласкающий луч. Ведь это ее Эдуард, Эдуард из английского посольства. Неужели он не догадается протянуть ей плитку Кайе-шоколаду, который она так любила сосать на прогулках. Она поднимает глаза. Господи! Как это страшно. Это не Эдуард. Это какой-то другой, бритый, с огромным лицом, – шевелятся в ужасе кудри Елены. Да ведь это – Латыш! тот самый Латыш, что их арестовывал. Пронзает ее он жестокой враждебной насмешкой и сильной рукой срывает с колен ее плед.
– Елен Валентиновна! Елен Валентиновна! Голубушка, не волнуйтесь! За вами!..
Это пухлый голос Гитанова, и весь он, как жирная туша, стоит перед нею и робко трясет меховое манто. Даже успел причесаться. Только ни галстука, ни воротничка: то и другое небрежно брошены на подоконник. Поодаль, подергиваясь всем лицом, весь прищурился, въелся глазами в нее Коваленский, а рядом бесцветно-спокойный взгляд Финикова. Он равнодушен. Его не смутят никакие слова, никакие движенья… Но все это только мгновенье: шпалеры кулис в мимоходе.
Главное – это какой-то Брюнетик. «Должно быть, еврейчик», – мелькнуло в сознанье Елены. Он стоит возле самой лавки, а за ним, будто тень, часовой со штыком, красноармеец. Пружинкой вскочив, отряхнулась Елена, набросив на плечи манто.
– Возьмите все с собой! – поправил Брюнетик, и – жестом на лавку.
– Как все? Так значит я больше сюда не вернусь!? – и сердце Елены зальдело. Дрожащими руками накинула на голову шелковый шарф, схватила муфту, обула калоши и, не успевши ни с кем попрощаться, – ах, будь, что будет, – подпрыгивающей, нервной походкой помчалась вслед за Брюнетиком в коридор. Следом их тяжело догонял часовой. Растерянные взгляды ее сотоварищей только мгновеньем мелькнули им вслед. «Будь, что будет, но только б скорей». И стало вдруг жарко-прежарко, и щеки огнем запылали.
Пройдя коридор, спустились по лестнице; снова прошли коридор, закоулком вышли на новую лестницу. Вверх поднялись и, две комнаты минув, остановились перед третьей.
– Вы здесь побудьте! – Брюнетик сказал часовому и пропустил перед собою Елену.
Комната с обоями цвета бордо. Как будто сгустки чьей-то размазанной крови капнули в мысли Елены. На улицу одно большое окно с драпировкой вишневого цвета. У окна этажерка в бумагах пылеет, у стены возле двери стол, опять же в бумагах. А посредине комнаты уж не стол, а столище. И сидит за ним прилично одетый белокурый мужчина.
– Вот Елена Вальц, – сказал провожатый. Тот поднял глаза с тупым и усталым, бессмысленным взглядом.
– Садитесь. Вот здесь, – пододвинул он стул и свет от окна ей упал на лицо. И снова Блондин продолжает писать, методично, спокойно. Села Елена, а рядом подсел ее спутник, Брюнетик, и густо их вместе склеило молчанье. И только в височках Елены частил молоточек.
Наконец, Блондин кончил писанье, промакнул, отодвинул. Взял новый лист чистой бумаги, что-то пометил и грустно, тихонько спросил:
– Ваше имя, звание, профессия и адрес?
– Елена Валентиновна Вальц, балерина; Капитанская 38, квартира 4.
– Что заставило вас быть вчера у Гитанова?
– Он мой старый знакомый. У него собираются гости из прежних друзей театрального мира. Теперь, когда голодаешь… буквально… – и слезы непрошеным током затуманили глаза у Елены. Смутный силуэт Блондина тянется к ней с графином и стаканом.
Да, да, – она сейчас успокоится.
Ей ничего не грозит, если она будет говорить только правду. О, да, она знает.
– Но какую же нужно вам правду? Ведь я ничего, ничего не знаю!
Но Блондин подает ей конвертик, достает из него письмо.
Нет, она его никогда не видала и видит впервые.
Как он мог очутиться у стола под ковром возле того места, где она сидела, на квартире Гитанова во время ареста?
Ах, почем она знает?!
Какой-то железный клубок не нитей, нет – а огромных чугунных цепей, канатов, сжимает ее хрупкую маленькую фигурку.
«Погибла!» – сверлится в мозгу.
– Погибла! – шепчут побледневшие губы.
Муфта упала, а острые, липкие взгляды этих двух – спокойного Блондина и нервного Брюнетика – колют и колют все глубже и глубже, под самое сердце. Руки судорожно хватаются за стол, спазмы диким вывихом стиснули горло, все поплыло, покачнулось.
… Опять усталый, скучающий голос:
– Успокойтесь!
Удобно и мягко ее голова откинута на спинку кресла. Перед глазами угол изразцовой печи. Разве она здесь была? Ну, да, комната все та же и те же жесткие люди, но взгляды Брюнетика как будто бы мягче.
– Скажите, – неожиданно спрашивает он, визгливо звеня голоском, – кто был около вас перед тем, как вас оцепили и вошли в комнату агенты чека?
О, да, она помнит. Сейчас она скажет… Неужели сказать?! Выдать?! подло… преступно и мерзко».
– Имейте в виду, – говорит вдруг Блондин, нарушая молчанье, – мы уже знаем, кто вас в этот момент окружал. Показаньями пятерых предыдущих факт установлен точно. Ваш ответ только нам выяснит степень вашего участия в деле, которое так же для нас несомненно, как то, что я следователь Горст!
«Так это он, сам страшный Горст!» Елена тянется вновь за стаканом, и зубы нервно дрожат, выбивая дробь о стеклянные стенки.
«Нет, она ничего, ничего не будет скрывать… Да, рядом с ней сидел офицер Коваленский, но в его руках не было, нисколечко не было, – ах, если бы вы захотели мне только поверить, – никакого письма, никакого конверта. Она клянется в этом всем святым, дорогим, что только есть у людей на свете…»
– Даже жизнью своею клянетесь? – оборвал вдруг Блондин. – Ну, а кто же был рядом с Коваленским?
– Рядом?
– Да, рядом!
– Рядом… Не было никого… а так немножечко дальше, шагах этак в двух, на подоконнике сидел этот, как его?.. Фиников.
– Будто бы вы раньше его не встречали? – смеется на этот раз уже Брюнетик.
– О, клянуся вам богом: никогда, никогда его в жизни до этого раза нигде не встречала!..
– Прекрасно. Что можете добавить еще?
– Ничего.
– Ничего?
– Ничего.
Бесшумно несется перо по бумаге, спешит и спешит менуэтом по строчкам.
– Слушайте!
Ну, да, она слушает – но ничего не слышит и думает только: «Что ж дальше?»
– Распишитесь!
Дрожащей рукою берет она ручку. Перо упирается. Ручка не пишет. Вместо коротенькой: Вальц, получилось клочкастое – Вальу.
– Посидите немного.
Блондин уплывает куда-то в боковую дверь, унося все бумаги.
Брюнетик, сверкнув перстеньком с бриллиантом, – как это раньше она не заметила? – достает портсигар с большой золотой монограммой.
Щелкнул небрежно:
– Вы не курите?
– Нет, – соврала ему злобно Елена.
Как захотелось ей вскинуться быстрою кошкой, вцепиться Брюнетику в бритые щеки и… острыми ногтями… «Боже мой! – как давно я не делала себе маникюр и даже не умывалась сегодня, – подумала она вслед за этим. – Воображаю, что я за рожа!..»
Тонкая синяя струйка ползет кверху спокойно и прямо. Брюнетик впился в папироску губами, а глазом косит ей на шейку.
– Пожалуйте, – вдруг распахнув разом дверь, ей кивает Блондин.
Снова холод по коже. Гусиные цыпки взъерошили руки. С испуганным взглядом, Елена послушно шагает за черным плечом Блондина в табачного цвета шелк золотистый портьеры. За ней впереди густо-синий, остриженный строгими стрелками кверху, готический кабинет. У окна стоит кто-то высокий, темнеющий тенью… Качнулся к столу – и сел.
– Хорошо, товарищ Горст, оставьте нас с ней одних на минуту и скажите товарищу Липшаевичу, что, пока я не позвоню, никого бы сюда не впускал. Никого, – пусть так и скажет курьеру.
«Что он хочет?» – мелькнуло брезгливой искрой в уме Елены.
А голос приятный, грудной, задушевный…
Горст вышел, защелкнулась дверь.
– Я – председатель здешней ЧК, Зудин, гражданка Вальц: вот кто я, – говорит незнакомец. Но почему-то Елене не страшно. Будто кто-то давно ей знакомый, встретясь нежданно в дороге, пытается ей рассказать интересную повесть. Кубовый сумрак обоев кажется дальним провалом рядом с золотистым тускнеющим шелком оконных портьер. Рамы режут отчетливо стекла, будто их нет. Будто бы белая мгла улицы вместе с приятною гарью мотора лезет свободно сюда, в кабинет. А за столом, заглушаемый снизу гудками и визгом трамвая, сидит незнакомый знакомец.
«О чем говорит он так долго?» Теперь Елена различает лицо у него: худое, белесое, с большими глазами. Тусклые усики, чахлая бородка светленьким клинышком. Плохо бритое горло стянуто воротом черной рубашки, а поверх ее черный пиджак.
«Должно быть, из рабочих, – грезит Елена. – Так вот он какой, этот… Зудин! Почему же казался он раньше, в рассказах знакомых, ей страшным? И зачем привели ее прямо к нему? Неужель так серьезно!.. Ах, да, это злополучное, страшное письмо!.. Да уж не подкинули ли они его сами?.. Чтобы всех их запутать для расстрела на выбор… Но о чем же он говорит? Ведь он говорит, этот Зудин!»
– Вы должны рассказать, не таяся нисколько, не стесняясь меня, все подробно.
– Что должна рассказать я?
– То, что вам изложил: с кем из этих мужчин и когда были вы в близких сношениях?
Будто хлыстом по лицу. Краска взметнулась на щеки Елены.
– Ни за что! Никогда! Как он смеет! Если она балерина…
И слезы прорвались могучим потоком и скачущим ливнем покрыли все мысли и чувства. Но будто большая гора размывается с сердца Елены этой слезливой рекою.
Где же графин? Никто не дает ей холодной воды. Зудин сидит, как сидел, неподвижно.
– Вы не поняли меня, гражданка Вальц. Я вовсе не хотел вас оскорблять своими подозреньями или грязнить вашу честь, как честь женщины. Мне хочется знать вашу роль, вашу роль в этом деле, а не на сцене.
Ах, как быстро растет в его голосе жесткая нотка!
– Вашу роль не на сцене, а роль женщины, которую вы играли, увы, среди этих мужчин. Политика очень жестокая вещь, гражданка балерина. В том письме, что нашли под ковром, возле стула, на котором вы сидели, говорилось об убийстве, о политическом убийстве наших ответственных товарищей. А в бумагах некоторых лиц, арестованных вместе с вами, при обыске, нынче под утро, нашли несколько писем… писем от вас… Я надеюсь, теперь вы поймете, зачем мне так нужно и должно знать ваш точный, правдивый, лишенный ложного стыда ответ на мой вопрос…
Но Елена молчала.
«Ах, как это жестоко. Утонченно жестоко! – подумала она. – И как это они уже все, все успели узнать?.. Мои письма?.. у кого же… они их забрали?..»
Но Зудин перестал уж смотреть на нее: обернулся к окну. Может быть, это и лучше. Не видеть глаз, говоря о подобных вещах. Почему ее не допрашивает женщина? А впрочем, нет, нет, не надо… лучше не женщина. Женщина этого не поймет.
– Ах, как это ужасно! – подумала вслух Елена.
– Людям свойственны страсти, и все мы не пуритане. Поиски сердца могут быть часто бесплодны. Чего ж их стыдиться?! – ободрил поласковей Зудин. – Итак, не стесняйтесь меня: ваша тайна умрет здесь навеки, не встретясь с бумагой. Я нарочно велел закрыть все двери.
Как же ответить? Кто из них был ей близок?.. Ну, да, офицер Коваленский, но… это было давно-давно, в начале войны. Он ее провожал из театра, заехал к ней на квартиру… а потом, а потом… они долго не встречались. Он был на фронте… Теперь же… теперь? да, он был у нее как-то раз. У него на квартире она не бывала ни разу.
– Кто еще?
– Артист фарса Дарьяловский, он ведь уж был у вас на допросе. Отношенья по сцене роднят, и мы сами не смотрим на эти сближенья серьезно. То же самое этот… Гитанов… Он долго, долго домогался ее любви… Он такой… задушевный, сердечный, смешной… он хорошо зарабатывал также… Еще?.. еще… как будто б в числе арестованных не было из таких никого.
– А Фиников?
– Фиников?! нет!.. говорю же вам: я только первый раз его повстречала. Нас познакомили здесь, у Гитанова. Он был приторно вежлив, но молчалив. Мы с ним почти ни о чем не говорили.
Получала ли она от мужчин деньги?
Снова краска и слезы к глазам.
– Как? и это надо тоже вам знать?! Ничего, ничего нет святого, сокровенного даже для женской тайны?
Получала ли она деньги?..
– Д-д-да… получала… немного… от всех… Ах, если бы вы знали, товарищ Зудин…
«Ах боже мой, что она говорит? Опомнись, Елена, какой он товарищ?»
– Нет, нет, нет! – кричит исступлено Елена кому-то. – Если бы вы только знали, товарищ Зудин, – и слюни и слезы, все вместе, текут у Елены на грудь. – Если б только вы знали всю жизнь б а л е р и н ы, когда ей с пятнадцати лет… уже приходится… да, да, приходится! – этой традиции держится прочно балет, – ей приходится… продавать свое тело грязным вспотевшим мужчинам!.. Милый Зудин!.. Зудин, товарищ!.. Нет, вы б не кинули мне в лицо комок грязи… Липкая жизнь… липкая жизнь… нас залапала грязью, зловонной, вонючей, и нет нам спасенья, погибшим и гадким!.. Если б… если б дали мне возможность заработать… кусочек, честный кусочек… разве б я стала?!. Ах, что говорить вам!.. Ведь вы н е з н а е т е бездны, в с е й б е з д н ы паденья!!. Ведь меня вызвал к себе Гитанов, чтоб свести вот с этим, как его? – Финиковым!.. Он сказал: будут деньги… хорошие деньги!.. А ведь я голодала! Да!.. Голодала!.. Продала гардероб!.. Вот осталось: манто, муфта, три платья… Милый… р о д н о й м о й, товва-а-рищ Зудин!.. Ведь и я была гимназисткой… пять классов!.. Немножечко жизни… Не рабства, а жизни… Честной жизни… кусочка… прошу… я у вас!.. Я согласна, я жажду работать!.. Разве б я стала себя продавать?!. Проституточка! – вот мне оценка!..
С клокочущим всхлипом, вся намокшая горем, бессильно сползла Елена прямо на пол. Шарф упал. Валялось и манто. Кудряшки развились и прилипли к вискам. И только яркость каштановых прядей и розовость пухлого ушка кричали в серое далекое безучастное небо, туда, за прозрачные окна этого синючего готического кабинета, что здесь плачет женщина, и что она глубоко несчастна.
И так неожиданно жалкая ручонка Елены ощутила твердое пожатье.
– Полно, товарищ Вальц, встаньте, оправьтесь и успокойтесь!
Это говорил Зудин. И как жадно-жадно хотелось ей слушать его милый голос.
– Наша борьба, в конечном счете, и есть ведь борьба за счастье всех обездоленных капиталистическим рабством, а значит – за счастье таких, как и вы… Поднимитесь и успокойтесь! А если хотите, так вот, приходите сюда… хотя б послезавтра… в час дня. Я вам помогу, как товарищу… Ну, а пока оправьтесь, оденьтесь и идите, – вы свободны.
Зудин нажал кнопку стола, и за дверью раздался громкий, трескучий, звонок.
2
Носится в воздухе солнце. Ярчит косяк киноварью. Бьет и ликует и пляшет в вальсах веселых пылинок. Нежно крадется к щеке и мягкою теплою лапкой ласкает опушку ресниц. Сенью весенней, снующим бесшумьем сыплется солнышко сном.
– Кто такой?.. Вальц?.. По какому делу?.. Я просил?.. – не помню. Хорошо, пропустите!
Страшно хочется спать. Руки падают. Глаза слипаются, а мысли не держатся. Надо бы съездить домой и проспаться. А вечером – снова опять за работу.
– Позовите товарища Кацмана!.. Вальц? Пусть пока обождет!
– Товарищ Пластов, товарищ Пластов! На минутку! Получены ли вами сведения от Дынина относительно этого – как его?.. – морского офицера, что ездил в Финляндию?.. Нет?.. Очень странно!.. Запросите вторично и срочно… Засада, конечно, не снята?.. Прекрасно… Пусть летчика-француза перешлют как можно скорее сюда для допроса… Уже невозможно?.. Как жаль!.. Ну, так во всяком случае проследите сами, чтобы моряк у нас не улизнул…










