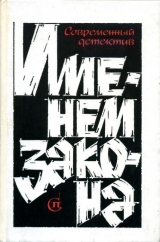
Текст книги "Именем закона. Сборник № 3"
Автор книги: Эдуард Хруцкий
Соавторы: Гелий Рябов,Игорь Гамаюнов,Александр Тарасов-Родионов,Борис Мегрели
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
– Кто же он?
– Председатель всей чрезвычайки, сам Зудин.
Чоткин обмяк, руки его со стола соскользнули локтями. Все его тело ушло глубже в шубу, словно улитка. Только стриженая седая голова тряслась отвисающей нижней губой, и слезы из мокнущих век спрыгнули на небритый колючий подбородок.
– Что ж тут могу я поделать? – прошептал он невнятно.
– Какой же вы, право, чудак. Говорю я вам ясно: судьба вашего сына, слава богу, в ваших собственных руках, я этого добилась. Вы легко можете наверняка его спасти от завтрашнего расстрела. Нужно лишь вам кое-что припасти и вручить кому надо завтра к двенадцати часам дня.
– Что же припасти?
– Двадцать фунтов золота.
Старик встал, и рот его дрябло раскрылся. Чтоб не упасть, он оперся руками о стол. Хрипящее дыханье сипело внутри его морщинистой шеи.
– Двадцать фунтов, двадцать фунтов… двадцать фунтов, – шептал он подавленно, – золота?.. Откуда же?.. Боже мой, это совсем невозможно!
– Ваш сын с головою замешан в огромном, ужасном деле. Я разузнала все способы его спасти, но другого выхода нет. Конечно, если вы не можете, то извините меня за беспокойство. Прощайте! Только потом не вините меня уже ни в чем, я вас предупреждала…
И Вальц, вздернув носик, жеманно поднялась.
– Куда ж это вы? Батюшки, да что ж это сегодня?! – разрюнился Чоткин, цепко хватая Вальц за манто и не выпуская из рук. И, упав головою на стол, зарыдал порывисто, громко: – Петичка, сынок мой возлюбленный! Да что ж это в самом деле, Христа ради, Христа ради, Петичка!..
На пороге взметнулась старушка, круглая, толстая, маленькая, вся в сером, точно трясогузка. Уж успела раздеться.
– Иван Петрович, что с вами? – бросилась она прямо к мужу. – Что с Петичкой? – вскинулась она, как подбитая, к Вальц, держася за мужнюю шубу.
– Анюта, голубушка, Петичку… н-наш-шего завтра… убьют, рас-стре-ляют! – выл прерывисто Чоткин.
Старуха, не отпуская мужнин рукав, грохнулась на пол и громко, протяжно заголосила.
Вальц передернулась.
– Я, право, не понимаю: богатые люди, золото раньше имели пудами, а теперь воют, жалея фунты, чтобы выручить сына. Прощайте! – сердито дернула манто из рук ослабевшего старика.
– Постойте, постойте, Христа ради! – захрипел, протянувшись ей вслед, ковыляющий Чоткин. Старуха за ним, подвывая, качалась, раскисши от слез, как моченый анис.
– Ну в чем же дело? – гордо рванула им Вальц, остановясь среди зала.
– Да куда ж вы бежите, дайте подумать, обсудить, прийти с мыслями.
– Право, мне некогда, – опустила она свои пухлые губки, прикрыв густотою ресниц шоколадинки глаз. – Кроме того, это дело секретное, и на людях болтать я не буду.
Старики, подпершись и плача, потащили ее опять в кабинет с задумавшейся над селедками Магдалиной.
– Неужели нельзя меньше? – повис на Елене умоляющим взглядом слезящийся Иван Петрович. – Двадцать фунтов, Анюта, золота спрашивают к завтрашнему, – пересохшим голосом пояснил он жене.
Та, утирая платочком намокшие веки и нос, нервно всхлипывая, мусолила Вальц умоляющим взглядом, дожидаясь ответа.
– Странный вы человек, право, Иван Петрович, будто бы вы за прилавком. Разве люди в таких делах торгуются? Если вам такое одолжение делают и спасают жизнь сына, вы благодарите Бога, что спросили не пуд.
– Хоть бы не все сразу. Откуда ж я столько возьму? – и он беспомощно раздвинул руками.
– Завтра к полудню должно быть готово все и сполна, – отчеканила Вальц.
– Иван Петрович! – вскудахнула старуха. – Возьми ты уж, видно, мои все браслеты и кольца, и медальоны, и цепочку с часами свои. Сын, чай, дороже, – и снова она затряслась в судорожном ноющем плаче.
– Не хватит, старуха! – прошамкал наморщившийся мыслями Чоткин. – Разве попытаться занять у знакомых?.. Как же просить? Не дадут! Ради бога, скостите!
– Я уж сказала, что здесь не торговля.
– Кому же платить? А вдруг как надуют?!
– Не беспокойтесь, можно устроить, я берусь это сделать, чтоб дело было для вас верно.
«Как же, однако, устроить?» – подумала Вальц про себя. Как это раньше она не смекнула про это?
– Вы приготовите золото, – тянула она, – завтра к полудню, а мы к тому времени выпустим Петра Ивановича, вот и будет всем хорошо.
– Значит, как выйдет, так и платить? – заганул Чоткин.
– Нет, зачем же – как выйдет? – поправилась Вальц. – Мы приготовим в ЧК ордер на освобожденье, а при ордере вы и заплатите, – поперхнувшись, тараторила она, – а по ордеру тогда и выпустят вашего сына.
– Знаете что, мадам или мадмуазель, извините меня, старика, – засопел быстро Чоткин, – я в делах этих не силен, а есть тут у меня – он тут же в доме живет – мой старый приятель, присяжный поверенный Вунш. Вы не бойтесь, – подернулся он в сторону Вальц, заметивши жесты ее несогласья, – я от него никогда никаких секретов не имею: все как на духу. И уж поверьте – могила. Слово, свой человек. Я посоветуюсь с ним, вы позволите, я сейчас же вернусь. – И старик, нахлобучась заботой, торопливо зашмыгал, словно боясь опоздать, как бы Вальц без него не раздумала и не ушла.
Анна Захарьевна, вытерши слезы, туманно смотрела бессмысленным, галочьим взглядом, пока Вальц в нерешительном раздумье, сидя в кресле, щипала пушинки манто. Издалека, из столовой чилинькала зябко канарейка, разворошив у Вальц воспоминания о свежеющих шумах зеленой весны. И стало досадно, что лезли ей в голову сочные мысли о птичках и взбухнувших почках, когда нужно зачем-то сейчас, среди пыльного хлама, в холодном, угрюмом гробу кабинета плести неприятный дельцовский разговор.
«Как: для чего? Как: зачем? – всколыхнулась она. – Сколько на это поганое золото я накуплю себе личной солнечной жизни!.. – даже замерло радостно сердце. – Нужно только довести эту канитель до конца», – стукнула себя по мечтам Вальц сучковатою мыслью.
Вдали где-то вздохнули и хлопнули двери. Торопливо и глухо кто-то шел, бубоня разговором. Скрипнули двери поближе. Канарейка, взметнувшись, зашуршала вслед уходящим упавшими крупками. Вот торопливо проходят по залу: один медленно, мягко и грузно – это хозяин; другой щелкает по паркету быстрой скрипящей подошвой. И перед Вальц из-за тучи портьеры, из-за туши хозяина выбегает, весь съежившись, небольшой человек, стриженный ершиком, в очках золотых, с мелкими серыми глазками, с маленьким узким лицом хомяка.
– Вунш, – расшаркался, вскинувши ножками кзаду. – Иван Петрович меня посвятили, – он кивает из-под очков почтительным взглядом в насупившегося Чоткина, будто обмахнул его серою пыльною тряпкой. – Как же, однако, конкретно вы предлагаете сделку по поводу их сына? – снова бросок взгляда тряпкой.
– Сын их, Петр Иванович, – спокойно начала Вальц, – сидит за ЧК. Завтра его расстреляют…
Старушка порывисто ахнула, и из провален мокнущих век опять замутнелись слезы. Чоткин кашлянул и глубже осунулся в шубу.
– То есть расстреляют, если его не выручат вот они, – поправилась Вальц. – А выручить легко. Надо кой-кого смазать… из главных… и завтра же Петр Иванович Чоткин будет свободен.
Вунш сидел, пододвинувши стул, и, бегая мышками-глазками, барабанил пальцами по своей коленке.
– Сколько же надо?
– Двадцать фунтов золота в вещах или в монете – безразлично.
– Ого! – исподлобья через очки обтер пыльным взглядом нахохленных Чоткиных прыткий Вунш, но тотчас же изящно, галантно откинулся к Вальц.
– Вы простите… такие дела… сами понимаете, требуют известной серьезности и предосторожности. Кто вы будете? Нельзя ли взглянуть на ваш документ?.. Ваше предложение слишком важно, чтоб можно было на него отвечать пустяками, а деловой разговор, понимаете сами, требует деловых отношений.
Его глазки совсем потонули в отраженьях стеклянных очков. Вальц вспыхнула густо, нависла презрительно верхнею губкой и, достав из внутреннего кармана манто документ, протянула его Вуншу.
– Я – сотрудница местной ЧК. Секретарша ее председателя… – а глаза у самой в шоколадном растворе утонули стыдливо под волнами ресниц-опахал. – Надеюсь, теперь вы убедились и поняли всю трудность и щепетильность настоящего дела? Не мог же председатель прийти сам к вам сюда?! – высокомерно протянула она.
– О, да, да, мы понимаем, – учтиво конфузясь, перебил ее Вунш, торопливо подавая назад удостоверение с фотографической карточкой. – Как же быть? – повернулся Вунш к Чоткину.
– Я не знаю, – ответил он беззвучно. – У меня столько, сами знаете, нет.
– Когда же вам надо? – перекинулся Вунш снова к Вальц.
– Завтра в двенадцать часов вы должны передать эту сумму мне сполна, и после этого к вечеру Петр Чоткин будет свободен. В противном случае вы больше его не увидите, и спасти его не удастся. В сущности, – оправдывалась она пресмущенно, – он настолько был неосторожен, что после всего им сделанного он подлежит безусловнейшей гибели, и если бы мне, как давнишней хорошей знакомой Петра Ивановича, не удалось уломать кого надо, – она хитро стрельнула глазенками в Вунша, – едва ли было бы возможным освободить его даже за ту жертву с вашей стороны, о которой сейчас идет речь.
– Позвольте, где же гарантия, что вы его освободите после того, как получите на руки золото?
– Но какой же дурак, позвольте спросить вас, будет стараться спасти его от верного расстрела, не будучи уверен в получении обещанного? – надув губки, вздернулась Вальц.
– Но позвольте, – поблескивая очками, протянул Вунш, – вы всегда в состоянии его снова арестовать в случае, если б условие не было нами выполнено. Вы ничем не рискуете: и он и все мы в ваших руках. – И он закачался на стуле, не сводя глаз с розовеющей Вальц.
– Вы неверного представленья о чрезвычайке, – медленно растягивала она слова, закрывая смущенье пунцовым румянцем и липко хватаясь за тысячу мысленных нитей, лишь бы выскочить быстро из накинутой Вуншем петли. – Председатель не может позволять себе капризы: сегодня выпустить, завтра вновь арестовать. При таких сложных действиях он должен был бы давать объяснения в коллегии, которая не всегда может с ним согласиться, или… потребовалось бы золота раз в пять больше того, что требуется сейчас, – быстро и весело закончила Вальц, обрадованная своей находчивостью и торжествующе смеривши Вунша победительным взглядом. – И вообще я не понимаю, к чему все эти разговоры. Мое предложение точно и ясно. Если вы не хотите или не можете его принять, – и, обернувшись к Чоткину, она сделала движение подняться с кресла, – мне остается только уйти.
Анна Захарьевна опять расквадратила старческий рот, прижавши платочек к глазам. Чоткин, силясь сдержать свислую нижнюю губу, весь снова напрягся порывом отчаянья в умоляющих взглядах, брошенных в Вальц, брошенных в Вунша. Тот крякнул и приторно-сладко вновь учтиво поник перед ней головой.
– Что вы, что вы, помилуйте. Мы согласны. Мы постараемся приготовить, сколько надо, но мы почтительнейше просим немного рассрочить, если нам не удастся так быстро набрать все сполна и не хватит, может быть, пустяков. Иван Петрович вовсе не обладает таким состоянием: ценности, какие были, пропали в сейфах и сейчас конфискованы. Придется им бегать, пожалуй, по разным знакомым, чтоб собрать у кого что осталось и кто что даст, – он почтительно колупнул очками Чоткина, в такт словам мотавшего своей стриженой и обрюзгшей седой головой. – Я надеюсь, что вы не будете слишком придирчивы, – вкрадчиво щурится Вунш. – А затем, где и когда вам вручить эту сумму? Эта процедура не совсем безопасна и может повести к большим неприятностям и для нас, и для вас.
– Мы сделаем так, – соображает вслух Вальц. – Вы приготовите золото, а я завтра зайду за ним и принесу дубликат подписанного ордера на освобожденье Петра Ивановича, который и останется у вас доказательством и гарантией того, что наша часть обязательства тоже будет выполнена. Вечером же, вслед за этим, самое позднее ночью под утро, и сам Петр Иванович, выпущенный на свободу, пожалует к вам.
– Хорошо, – щебетнул Вунш.
– Хорошо, – прошамкал Чоткин.
– Хорошо, – бесшумно пошевелила губами Анна Захарьевна.
– Итак, до свиданья до завтра, до двенадцати часов, – и Вальц деловито поднялась. – Только, пожалуйста, имейте в виду одно важное условие: Петру Ивановичу после его освобожденья и вообще никому об этом ни гугу.
– Помилуйте, будьте уверены, – опять расшаркался Вунш, лягаясь ножками.
Вальц протянула всем руку и пошла, мягко шурша шелком юбок, янтаря скучную пыль мрачных комнат светом яркой корицы своих огоньковых волос. Шоколадинкой наряднилась в ворохе сложенной завали печальной квартиры. За нею трещал на дощечках паркета сухонький серенький Вунш, а дальше глухо качались и плыли скорбные дряблые Чоткины.
Промелькнуло чехольное зало. Мельтехнулась столовая с забившейся птичкой и миганьем зелененького огонечка мутной лампадки в углу пред божницей. Звякнула кастрюлями кухня с задетым ногою у двери поленом, и… пытка кончилась. Вальц бегом пролетела по лестнице вниз, через двор, и только поодаль на улице ощутила всю радость освобожденья и, замедлив шаги, вытянув тоненький носик, расправила грудь и внятно прочмокала:
– Ух!
И целую ночь не спалось. Что-то нудно и жестко чесалось внутри подсознанья. И трудно было всю эту болячку прикрыть ворохом мелочей обыденных забот. Проснулась пасмурным утром как-то раскидисто и сумбурно. Было неясно, невнятно ощущенье чего-то давящего, огромного, неосознанного. Но мгновенно все вдруг оточнилось, отточилось и выпуклилось сердцебойной заботой, волевым напряженьем:
«Довести поскорей до конца».
Не помнилось, как пришла на службу, как достала заветное дело. И было отрадно, что все это не сон, что все это буйная явь, что дело никуда не исчезло, что осталось только одно небольшое усилье – и Чоткин будет освобожден, и достанется золото, много золота. Лихорадило под кожей спины, а в плечах был жар, когда, прижав папку с делом под мышку, робко стукнула в двери к Зудину:
– Можно?
Зудин сидел у стола беспокойно взлохмаченный, с глубокою усталостью запавших с бессонницы глаз, окруженных синеньем. Брови сдвинуты. Рот насупился.
– Я с курьезным к вам делом, Алексей Иванович. Доброе утро.
– Здравствуйте.
– Вот оконченное дело, дело Чоткина… к прекращению, а… Чоткин сидит.
– Как сидит? – но вопрос безучастный, мысли где-то далеко.
– Есть заключение следователя Верехлеева об освобождении… и дело направлено к прекращению, и вот попало даже ко мне, а обвиняемый все сидит и сидит уж три месяца.
– Здорово! – протянул тускло Зудин. – Хорошо, вы оставьте, я разберусь, – и вилами колющих пальцев вздыбил космы волос, а сам снова присталится в лежащую папку.
Вальц екнуло холодком. Скрипнула туфля в ковре.
– Здесь всего лишь минутка вниманья, Алексей Иванович. Может быть, взглянете тут же. Заключение есть, и, должно быть, вы уже читали и только забыли положить резолюцию. Жаль человека, который так долго напрасно сидит.
Какой ласковый, искренний, вкрадчивый голос! Вальц сама удивляется: кто это из нее говорит? А глазенки запенились кружевеющей негой ресниц, как в ажурных розетках шоколадки-орешки.
«Картиночка», – думает Зудин. Отрывается нехотя, боком повертываясь к подошедшей вплотную Елене.
– Вот, смотрите! – и папка пред ним.
Лакированный розовый пальчик, как тоненький ломтик живого фарфора, узорит пред ним скучный выцветший лист.
Да, написано:
«Полагаю освободить… Следователь Верехлеев».
Зудин вздыхает устало и обмокнутой ручкой пишет вверху:
«Дело прекратить…»
– Как его фамилия?
– Чоткин.
«Да, Чоткин», – он сам видит это ясно.
«Чоткина освободить. Зудин».
Но почему так старается Вальц? Он пытливо скользит по глазам ее, жадно следящим за движеньем уставшей руки. Он перелистывает все небольшое дело сначала, старается вникнуть в подчерки, в заметки и даты, но ничего не может осилить.
Дело верное. Беспокойство напрасное. Чоткин сидит по случайной забывчивости. Вальц права. Иль, быть может, сейчас он устал и не мешало бы разобраться в другой раз? А пока отложить? Он колеблется, устало качаясь на стуле.
На пороге растерянный Горст.
– Алексей Иванович! – а у самого руки дрожат. Голубые глаза беспокоятся. – Кацман убит!.. Дагнис ранен, а Кацман убит. Сейчас привезут.
– Как убит?! – Все полетело кругами пред Зудиным. Взметнулся как раненый зверь. Молнии едких отточенных мыслей ураганом сверкнули в очах. Папку швырнул на зазвеневшую бутылку в углу, бросился к Горсту. – Как убит, где?!
– Сейчас звонил мне с вокзала по телефону Кунцевич, начальник отряда. Кацман убит сегодня утром в перестрелке с дружиной эсеров в Осенникове. Дагнис ранен. Убит один из эсеров. Остальные пока скрылись. Местность нами оцеплена.
– Ах, сволочи! – злобно и сочно выплюнул Зудин. – Вот мерзавцы!.. Ну скажи, как не расстреливать этих Иуд, эту мразь?! Кацман убит!.. Нет Абрама! Убили! – Зудин глубоко и устало вздохнул. – Напоролся, рискнул, обнаружил себя раньше времени, – мычал он себе под нос. – Ах, как жалко, как жалко, Горст, Кацмана! Нет больше Абрама! – метался весь взорванный Зудин.
Горст молчал, стиснув губы.
– Ну, постой: я устрою им бенефис! Я сейчас проеду к вокзалу, а вы составьте скорей телеграмму в Москву, копию ЦК, я сейчас подпишу. Да надо позвонить Игнатьеву… А где Фомин?.. Да подайте сейчас же мне список, сколько арестованных за нами сидит. Надо сотнягу прикончить на память! Бедный Абрам!.. Ну, постойте, вы узнаете, дьяволы, как убивать рабочих вождей!.. Вот тут несколько дел… – Зудин злобно швырнул со стола папки с делами. – Эту м р а з ь не отпускать! На террор ответим террором. За личность ударим по классу!
Под сердцем у Вальц похолодало. Убийство Кацмана, внезапный шквал дикой злобы, налетевший на Зудина, ей был страшен. А тут еще бешено брошенная, попавшая в общую кучу папка с невинным Чоткиным. Неужели и здесь все сорвется? Из-за дурацкой случайности? Когда все так близко к цели!
Вальц задрожала.
А Зудин крутящимся смерчем, огромный и грозный, ринулся к двери и вынесся. Только подавленный Горст, молча и жестко понурясь, собирал по углам разлетевшиеся папки бумаг.
– Здесь одна моя, – потянула Вальц за знакомый угол обложки.
– Он велел все оставить!
– Да, но здесь уже есть резолюция! Это старое дело! Нельзя ж, в самом деле, из-за дикой случайности хватать сызнова и убивать уже освобожденных, ни в чем не повинных людей!
Она решительно взяла папку у сердитого Горста и вышла. «Теперь поскорей! Как бы опять что еще не случилось, не помешало», – бегом прямо к Шаленко.
– Константин Константиныч! Поскорее, голубчик, напишите мне ордерочек: резолюция Зудина есть уже. Только, пожалуйста, с копией. Там внизу дожидается старушка мать заключенного – так надо ее обрадовать, показать!
– Зачем же копию! Никогда этого не было. Освободят – и довольно!
– Ну что вам, право, стоит? Бумаги жаль, что ли?.. Какой вы жесткий! Я спрашивала Алексея Ивановича, он разрешил… – а сама покраснела до ушей от волненья и лжи.
– Ну, ладно, ладно, – замахал головою Шаленко, – сделаю, сделаю, одну минутку. Только напрасно, Елена Валентиновна, жалеете вы их. Вон Абрама Моисеича ухлопали. Как жалко беднягу! Хороший и честный был человек! Все мечтал перевезть из Орши семью. А как он работал!..
Но Елене неймется. Булавками колет томленье ожиданья: «Поскорей, поскорей, скоро час!»
Наконец все готово. Бежит, запыхавшись, чуть не падает: мимо заколоченных ставнями окон, простреленных стекол, железом ворчащих проржавленных вывесок, магазинов готового платья, мелькнувших пустотами окон, как глазными щелями сухих черепов.
Вот и дом, точно ворон, осыпанный пеплом, сторожащий безмолвие дохлой улицы, где копошатся, как черви, последние люди. Туда, поскорее в подъезд и по лестнице, скользкой и мокрой, на третий этаж.
Сам Чоткин навстречу, весь мигающий остро ощетинившимися вопросом глазами:
– Ну что, как?
– Все готово. Вот ордер, а дубликат на руках. Сегодня вечером будет свободен. И пускай поскорей уезжает куда-нибудь в деревню: мало ль что может случиться?
Старуха набожно крестится.
Только сейчас замечает Елена бессонные, запавшие, белые дряблые щеки Ивана Петровича и мутный размазанный серенький взгляд суетливого Вунша.
Трясущимися руками Чоткин-старик несет из спальни и ставит в столовой на стол перед Вальц холщовый мешочек.
– Здесь двенадцать. Вот взвесьте, – и тащит из кухни безмен. – Больше, поверьте, никак не удалось насбирать, и то целую ночь на коленях с старухой вместе валялись в ногах у знакомых. Трудно народ понимает беду у чужого! Ах, как трудно! Вот, насбирали без семи золотников девятнадцать фунтов. Выползали все колени. Зато здесь больше трех фунтов будет семьдесят второй пробы!
У старушки глаза на мокнущем месте, в розовых ободочках, и на сморщенном носике уже закачалась слезинка.
– Вы уж войдите в положенье, Христа ради… Вы уж войдите в положенье!
Вальц морщится.
«Как бы скорее отделаться, а тут еще надо разыгрывать глупую роль».
От разбега тонкие пряди ярких каштанных волос лезут на глазки. Торопливо рассыпала по столу гремящее золото.
«Боже мой! Сколько богатства: браслеты, кольца, часы, медальоны, цепочки, цепочки и прыткие, словно живые, кружочки монет, ах, как много монет!» – все засверкало горячей жар-птицей.
– Хорошо. Кто будет от меня принимать, тот и проверит. Только насчет недостачи в весе вам придется как можно скорее на днях непременно добавить. Он едва ль согласится. И если какая там вещь низкопробная, вам тоже придется ее заменить. Уговор дороже денег… – и еще торопливее непослушными пальцами прыгающей радости собрала жадно золото снова в мешочек. Завязала бечевкой и – под манто.
– Какой он, однако, тяжелый!
Копию ордера небрежно оставила на столе, где сидела. Указала лишь взглядом. Вунш впился в нее тотчас, рассматривая на свет оттиск печати. Отмахнулась от роя вопросов:
– Когда же Петичку выпустят?
– Не может ли кто обмануть?
– Жив ли Петичка?
– Да здоров ли он?
– В котором часу он приедет?
– Сегодня будет у вас!
И поскорее, поскорее вышла. Быстрее пошла, осторожно ступая, чтоб не упасть. Мешочек несла под манто. И скрылася за угол.
На углу встречаются прохожие. Молча смотрят друг другу глубоко в гляделки. Озираются робко.
– Вы слышали: нынче убили в Осенникове на даче какого-то главного жида из чеки!
– Да что вы?
– Да, да, да! – радостно, – это последняя новость! – и дальше таинственней: – А не слыхали? Едет сюда с подводною силой войной на них какой-то король Белиндер Моравийский! Не слыхали? В самом деле?.. Так знайте: через неделю большевикам будет верный каюк! Это из вернейших источников.
5
В кабинете Зудина раскрыта форточка. Через нее доносится с улицы лязг проезжающих пролеток и журчливое бульканье капелек в водосточном желобе. Давно не топленная посиневшая комната теперь дышит холодной и затхлой сыростью, потому что из форточки веет теплой и солнечной свежестью весеннего утра.
Зудин, обросший щетиною щек и злой, как крыса, грызет за столом карандаш.
Эта подлая травля ему надоела. Он больше не потерпит.
Что есть силы он ударяет по столу, отчего звенит чернильница и скатываются на пол ручки. Он кому-то грозит в угол зашибленным кулаком, хотя в комнате никого больше нет.
Дело ясное: под него подкапывается Фомин. Это он интригует против него через Игнатьева, и, разумеется, Зудин чувствует, не может не чувствовать эти тысячи мелких придирочек и косые взгляды товарищей из парткома. Ну да он им покажет! Он выведет всех их на чистую воду!
– Возьми себя в руки, Алексей! – говорит он сам себе громко надтреснутым голосом. – Возьми себя в руки и покажи, что ты выше их всех!
От этих слов ему делается легче, так что он подымается и делает более спокойно несколько концов из угла в угол по грязному, пыльному ковру.
И как хитро ведут кампанию, подлецы, – возмущается он. В глаза лицемерное товарищеское участье, а за глазами гадости и пакости без конца. Неужели закон вражды, злостной конкуренции и хитренького мелочного карьеризма, который ворочал всем старым, прогнившим общественным бытом и с которым он, Зудин, так неистово боролся и борется до сих пор? – и Зудин даже, судорожно сжав, подымает вверх кулаки. – Неужели, он так силен, этот проклятый закон, что разъедает самое святое, самое крепкое, что только существовало для Зудина, – партию?!
Он досадливо и зло ухмыляется.
Вспоминает, как однажды в ссылке, когда он лежал обессиленный лихорадочным ознобом в бурятской деревушке и стонал о горячем чае, его сотоварищ – сухой, желчный Соков – наотрез отказался подогреть ему чайник. Пришлось встать, колотяся зубами, и бежать несколько раз на мороз за дровами к опушке тайги, предвкушая в тумане больной головы мысль о том, что сейчас в очаге закипит, распузырясь, вода. И вдруг оказалось, что Соков воспользовался его беготней и без него выпил весь закипающий чай. Было так горько и обидно, особливо тогда, когда Соков, смеясь, хвастал об этом потом, называя Зудина денщиком и холуем.
Но ведь все это было в годы разгрома, когда обручи общего дела и общих надежд разъедалися ржой поражения. А теперь, когда они так сказочно выиграли и через сени революции национальной вдруг неожиданно легко вышли в огромные хоромы революции мировой, – вот теперь-то где же эта былая товарищеская спайка, братское самопожертвование и честная искренность друг к другу? А ведь теперь врагов кругом стало несравнимо больше, и враги гораздо сильнее, хитрее и кровожаднее. Разве он, председатель могущественной чрезвычайки большого города, не кажется порою сам себе жалким кузнечиком, дерзко залезшим на тонкую верхушку высоченнейшей пихты, откуда его вот-вот сдует стеклянный вихрь взбешенного капитала? Уж тут-то и держаться бы всем подружнее – всем как один! А они?.. Зависть, подсиживанье, коммунистическое лицемерие, революционное ханжество! Взять хоть того же Фомина, эту рыжую лису!
Злость закипает и клокочет в Зудине, давя ему грудь.
– Довольно! – кричит он кому-то, – довольно! Я положу всему этому конец!
В дверь робко стучит и крадучись входит Липшаевич.
– Разрешите к вам на минутку, Алексей Иванович? Я хотел с вами кое о чем поговорить. – Он озирается по сторонам пугливо прыгающими глазами. – Я должен вас предупредить, – он приближается почти вплотную и продолжает полушепотом в ухо: – против вас заваривается каша. Вас, очевидно, решили съесть. Видит Бог, что я хочу вам только добра: без вас мы пропали. Берегитесь Фомина: он что-то затевает. Сегодня ночью неизвестно кем арестованы Павлов и Вальц.
Зудина коробит. Он не доверяет Липшаевичу. Ему противны его масленые наглые глаза, которые он встречал только у лакеев и маркеров, и этот вонючий тон сообщника какой-то воровской шайки.
Он знает к тому же, что и Павлов нечистоплотен и что его давным-давно нужно было бы гнать в три метлы из ЧК, и все же слова Липшаевича вновь бросают его в желчную дрожь.
Арестовать – зачем, почему? А главное, без ведома его, Зудина?! Значит, ему не доверяют больше. Отлично, пускай это будет последней каплей терпения, проливающей стакан его гнева. После таких сообщений дальнейшая игра в прятки уже невозможна.
– Отлично, отлично, – мычит он, потирая руки и ежась не то от внутренней нервной зяби, не то от свежих волн воздуха с улицы в форточку. – Я не понимаю, о чем вы беспокоитесь? – обращается он брезгливо к Липшаевичу. – Я не боюсь интриг: моя совесть чиста и спокойна! – и он насмешливо и сдержанно наблюдает, как сконфуженный Липшаевич медленно выползает, пожимая плечами.
Потом он хватается за телефон и звонит Игнатьеву:
– Мне необходимо поговорить по важному делу, могу ли я сейчас же к вам заехать?
– Хорошо, очень кстати: ожидаю.
– Великолепно!
Он облегченно вздыхает, ощущая растущую твердость и какую-то внутреннюю гордость от своей правоты. Заказав машину, он достает лист чистой бумаги, разглаживает его и пишет телеграмму:
«Москва. Председателю ВЧК,
копия ЦК РКП. Срочно, секретно.
Прошу немедленно заменить меня другим. Надоели склоки.
Зудин».
Потом складывает телеграмму в боковой карман уже надетого пальто и бодро выходит. Его сердце как пароходный гудок, – весело, сочно и твердо.
Только на улице он замечает: далеко-далеко где-то жутко ухают пушки. Робко останавливаются прохожие. Чутко слушают, шепчутся.
Меся мокрый снег, нахмурясь, жидкими группами, с винтовками, в шапках и кепках проходят куда-то рабочие. Стайка матросов в бушлатах перебегает дорогу, разлетаяся клешами. Вдалеке через мост ползет и колышется длинная серая масса солдат.
«Подкрепление прибыло, – думает Зудин. – Надо было б сегодня ж переговорить с начальником Особого отдела».
И вспомнил, что все это кем-то теперь так ненужно оборвано, смято. Он, Зудин, – теперь ни к чему.
На углах черными кучками, как тараканы на хлеб, прилипли к расклеенным газетам прохожие.
Да, враг близко. Враг у ворот.
Разбросав брызги луж, машина остановилась возле широкого крыльца исполкома, огромного желтого дома с колоннами. Зудин спокойно подымается вверх по высокой крутящейся каменной лестнице с полинялыми флагами и портретами вождей по стенам. Мимо часовых, коридором через приемную и секретариат проходит он к дверям кабинета Игнатьева.
– Минуточку, я сейчас доложу! – срывается секретарь и шмыгает в дверь, затворяя ее перед самым носом Зудина. Необычайный прием неприятно кольнул его снова и качнул утихшую было злость и против Фомина, и против Игнатьева, и вообще против всех, кто теперь вдруг перестал относиться к нему, к Зудину, доверчиво и просто, как раньше.
– Пройдите! – выбегает секретарь.
Игнатьев, как всегда, раскинулся в кресле у стола, а поодаль, на кожаном черном диване, сидит и пристально щупает его исподлобья в защитной тужурочке низенький товарищ Шустрый.
– Давно из Москвы?
– Третьего дня.
– Ну как там?
– Ничего.
Разговор не клеится. Да Зудину, впрочем, не до разговора. Он пришел ведь сюда совсем не для этого. И если Игнатьев чересчур благодушно подпер подбородок костлявой рукою и не делает попыток выпроводить Шустрого, пусть это будет новый прием, чтоб отделаться от объяснений насчет поступков Фомина, – Зудина это уже не остановит, нет, не остановит. Хватит церемоний! Он сердито и твердо опускается в кресло перед столом.
– Я приехал к вам, товарищ Игнатьев, – говорит он сухо и намеренно громко, чтоб слушал и Шустрый, – я приехал поставить вас в известность, что я покидаю свой пост! – и он уже лезет в карман за телеграммой.
– Мы это знаем, – говорит спокойно Игнатьев.
«Знаем? Мы?» – недоумевающе взвешивает в уме Зудин, обводя глазами обоих.
– Тем лучше! Если ваши товарищи настолько искусны и планомерны в своей милой травле, что заранее предугадывают ее результаты, – это делает кое-кому своеобразную честь! – он язвительно усмехается. – Я телеграфирую сейчас об уходе моем в ВЧК и апеллирую в Оргбюро: пускай разберет.








