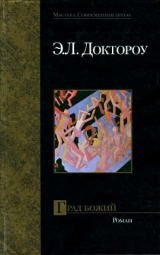
Текст книги "Град Божий"
Автор книги: Эдгар Лоуренс Доктороу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Механическая мастерская моего отца находилась на соборной площади. Здесь отец и мой дядя Якоб изготовляли электрические моторы. Они издавали чудесный жужжащий звук, мягкий, не слишком громкий, но глубинно мощный, язык тотальной элизии, с неразделенными словами, с мгновенно рождающимся, хотя и не полным, смыслом.
Единственное, что напоминало мотор, была дренажная канава, проложенная за нашим домом и впадавшая своеобразным маленьким притоком в реку Блау. Моя мать очень нервничала от шума, который производили дети, бросавшие в канаву сучья и пускавшие по ней бумажные кораблики, а потом с криками бежавшие вслед этим судам, несшимся по течению. Однако я был малоподвижным, тихим ребенком. Было такое впечатление, что я не желал быстро двигаться из-за своей слишком большой головы. Я просто стоял и слушал, как бежит по своему руслу вода, черным блеском ложась на камни, шипя и пенясь на своем пути, словно подражая торопливому разговору бюргеров из иного мира, которые горячо обсуждают свои дела.
Из этого рассказа вы можете заключить, что я придаю очень большое значение моему детству. Конечно, да, как и все мы. Мы постоянно колеблемся, все время ревизуя свое сознание. Вся проблема ума и сознания заключается в громадном интересе, который мы к ним проявляем, и в нечеловеческом мужестве, которое требуется для того, чтобы обитать в них. Ум, который анализирует сам себя; при одной мысли об этом я содрогаюсь. Сознание слишком велико, это пространство вне измерений, наполненное космическими событиями, молчаливыми и нематериальными. Чтобы сохранить душевное здоровье, Бога надо искать во внешнем мире.
Во время Второй мировой войны Ульм был, конечно, разрушен. Правда, задолго до той войны отец и дядя перевели свой нехитрый маленький бизнес в Мюнхен, где они собрались производить динамомашины, дуговые лампы, трансформаторы и другое электрическое оборудование для нужд муниципалитета. Некоторое время все шло хорошо. Мы жили в большом доме, окруженном глухой стеной, во дворе был сад с большими деревьями. Весенними вечерами воздух был напоен ароматом цветущих яблонь, и это здесь, в том самом городе, где зародился нацизм. Но тогда я играл в саду с сестренкой Марией, которая была на два года моложе меня, и с неразлучной подругой Майей, чьи огромные карие глаза казались и мне очень смешными. Я ловил для нее сверчков и плел ожерелья из одуванчиков.
В этом доме, по настоянию матери, я начал учиться играть на скрипке. Моя мать была музыкантом, пианисткой, и очень решительной и серьезной женщиной. По ее мнению, музыка была главным в образовании любого человеческого существа. Я послушно отдался на волю герра Шмида, мрачного типа, который в подражание Паганини отрастил до плеч свои редкие волосы и пальцы которого были желты от табака. Сколько лет прошло до того, как я понял, что ноты – это интервалы, соотношения чисел и что звук есть свойство этого соотношения? Но в конце концов мне стала ясна система, на которой построена музыка, и я буквально дрожал, впитывая ее красоту, каждую мельчайшую долю предложенной мне самодостаточной и логической конструкции. Я начал учиться музыке всерьез. Мне захотелось привнести в игру точность; как интеллектуальную необходимость я искал чистейшего резонанса для каждой ноты, искал радости творения музыки, особенно вместе с другими людьми; я ощущал музыку как ментальное путешествие по абсолютно надежному космосу. Бах, Моцарт, Шуберт – они никогда не подведут вас. Если вы правильно исполните их творения, то они приобретают характер неизбежности, подобно творениям великих математиков, которые кажутся созданными из предвечной истины.
Для контраста я расскажу вам о том, чему я выучился в школе. У меня был учитель в гимназии Луитпольда. Когда он входил в класс, мы вставали, а когда он, поклонившись, касался лацканов своего бархатного сюртука, мы садились. Это считалось абсолютно нормальным. Но я всегда думал, что дисциплина была для них средством наложения интеллектуальных шор и поддержания готовности принять любую идею. Именно поэтому в этой смешной школе мы не ходили, а маршировали, вставали и садились все разом и хором произносили склонения латинских существительных так, словно давали племенную клятву. По моему мнению, это было оскорбительно, может быть, даже смертельно. После одного-двух семестров мальчики теряли последние проблески разума, любопытство выбивалось из них буквально дубиной, личности погребались заживо, и на переменах, сидя, прислонившись спиной к стене, я наблюдал, как они бегают наперегонки, борются или играют в футбол, но во что бы они ни играли, они подсознательно и неотвратимо старались убить друг друга. В их бесшабашности, в сложенных аккуратными стопками (как бы не испортить) форменных куртках чувствовалась слепая, беспомощная, пылающая ярость, растекавшаяся среди этого товарищества. Итак, я смотрел на них и держался особняком, погруженный в свою работу, которая была достаточно непритязательной для того, чтобы избегать двусмысленности возможной дружбы, поскольку я считал ее разрушительной из-за неукоснительного соблюдения ими порочного германского принципа образования через тиранию. Я сидел в классе, и ум мой блуждал. Мне тогда дали книгу брата моей матери об основах евклидовой геометрии. Я читал ее так, как другие люди читают романы. Для меня это была освежающая, полная новизны книга. В то утро я блаженно улыбался, сидя за партой и вспоминая чудесное доказательство замечательной теоремы Пифагора. Возле меня тотчас появился учитель и ударил указкой по парте, чтобы привлечь мое внимание. Когда урок закончился и я собрался вместе со всеми уйти, он окликнул меня и заставил встать посреди классной комнаты. Все это время он смотрел на меня с высоты своей кафедры. У него было круглое красное лоснящееся лицо, у этого учителя. Оно напоминало румяное яблоко. Казалось, что стоит укусить это красное лицо, как раздастся хруст румяной кожуры и сладкой мякоти. Ты плохо влияешь на класс, Альберт, сказал он. Я хочу перевести тебя в другую школу. Я не понял и спросил, что я сделал не так. Ты сидишь за партой, блаженно улыбаешься и думаешь о чем-то постороннем. Если я не могу добиться полного внимания от каждого ученика, то как я могу после этого уважать себя? Услышав его слова, я понял, в чем заключается сущность любого деспотизма.
Тот же самый учитель или другой, это не имеет значения, ибо все они были одинаковы: однажды он принес в класс ржавый гвоздь и показал его нам, зажав между большим и указательным пальцами. Такими гвоздями прибили к кресту руки и ноги Иисуса Христа, сказал он, пристально глядя на меня.
Я скажу здесь о бедном Иисусе, об этом еврее, и о системе, освященной его именем, и о том, какую чудовищную шутку сыграла с ним история.
* * *
Уолт Уитмен уверяет нас в необычности сутолоки и шума Нью-Йорка, в возвышенной, бьющей через край надменности живых моментов его бытия. Но не лгут ли картинки? Те старые, потемневшие от времени дагерротипы… телеги и кареты, трамваи, вагоны надземной железной дороги, парусные суда у причалов… Деловой город, громадные, окруженные деревянными лесами стройки, улицы выравнивают по натянутой веревке. Люди, стоящие на коленях, укладывают в мостовые булыжник, большие, плохо освещенные цеха с женщинами, строчащими на швейных машинках, мужчины в котелках и черных жилетах, стоящие в дверях галантерейных магазинов, бесконечные ряды клерков за высокими конторками, женщины в длинных юбках и блузках у досок школьных классов, приветствующие друг друга пары, прогуливающиеся по Пятой авеню, закутанные конькобежцы, катающиеся по льду озера в Центральном парке… Вот он, наш выстроенный город, неоспоримая география наших душ, но эти люди – не мы, они, правда, населяют наш город, они как будто принадлежат ему, в каждом их жесте, в каждом взгляде сквозит их первородное право на гражданство, но это не мы, они – чужестранцы, поселившиеся в городе, хотя и смутно знакомые, как незнакомцы, которых мы часто видим во сне.
Я ощущаю покой, тот покой, какой испытываешь, слушая историю, конец которой тебе хорошо известен. Я смотрю на времена, когда люди воплощали сказку, а улицы, по которым они ходили, были говорящими. Что за слово инфраструктура?Это слово, которое доказывает, что мы утратили свой город. Наши улицы предназначены только для транзита. Наши сказки развенчаны, небоскребы, потеснившие нас, насмехаются над самой идеей культуры, достойной доверия.
Боже, какая это ошибка считать Бруклинский мост, Сохо или ряды гарлемских домов признаками непрерывности нашей истории. Произошло нечто страшное. Словно эти фотографии не молчаливые мгновения прошлого, но предостерегающие символы, призраки, существующие одновременно тогда и сейчас, навязчиво пророчествующие утрату нами их мира, который просто дал нам время на иллюзию процветания, период которого закончится тем, что нас тоже расставят по местам на фотографиях рядом с незнакомцами из сновидений, но наши лица будут плохоразличимы, если вообще видимы.
* * *
Том Пембертон дает о себе знать, и мы встречаемся за выпивкой «У ньюйоркца» на углу Девятой улицы и университетской площади.
Теперь он не носит стихарь, его не лишили сана, но и не дали нового назначения. Работает он в хосписе для безнадежных больных на острове Рузвельта. Он отяжелел, с тех пор, как я видел его последний раз, на крупном его лице появились новые морщины, но оно осталось открытым, честным, красивым, как дикий цветок. Светлые, широко посаженные глаза беспокойно оглядывали зал, словно Том искал человека, способного осчастливить его душу.
Вы достаточно хорошо пишете, говорит он, но ни один писатель не в состоянии воспроизвести настоящую фактуру ткани реальной жизни.
Даже Джойс?
Мне приходится еще раз пристально посмотреть на него. Но теперь, когда я вижу несхожесть, так сказать, изнутри, мне кажется, что стоит более настороженно отнестись к литературе.
Хорошее начало.
Вы оскорблены. Но я говорю только, что вы – типичный писатель. Это комплимент. В конце концов, я мог бы мелом вычеркнуть вас из списка моих знакомых, как никудышного писателя. Это очень расстраивает – читать рассказ о самом себе, написанный изнутри моего сознания. Еще одно потрясение еще одной веры.
Ну хорошо, наверно, мне стоит опустить эту тему.
Бога ради, вы вовсе не нуждаетесь в моем одобрении. Я согласен с этим, все в порядке, не нужно никаких вожжей. Я даже не стану просить вас исключить из повествования истории с моими девочками. Теперь они, конечно, стали старше, живут своей жизнью.
Считайте, что я это сделал.
Триш снова вышла замуж… Почему вы не сказали, кто ее отец?
Я сделаю это позже.
Я продолжаю слушать его. Обычная высокомерная усмешка, хотя должен сказать, что ему нравится иметь в семье умиротворяющего пастора.
Отличный образ.
Вероятно, да. Но послушайте, вы же используете настоящие имена, хотя сами говорили мне…
Знаю. Я изменю их. Но сейчас это самые подходящие имена. С другой стороны, это единственно возможные имена. Так что это прогресс.
И не только «Таймс» напечатала историю об украденном у меня распятии. Она была лишь одной из независимых газет.
Понимаете, отец, когда что-то сочиняешь, то занимаешься именно этим, то есть создаешь сочинение. Сдвигаешь время, изменяешь обстоятельства, что-то вставляешь, что-то выбрасываешь. Ты не можешь поклясться оставить в сочинении все. Или допустить, чтобы что-то произошло так, как оно произошло в действительности. Факты могут оказаться удручающими. Действительность исключается, она несущественна.
Несущественная действительность?
Надо сделать так, чтобы часы шли.
Нет, здесь явно что-то не так.
О мой мальчик! Что именно, Пэм?
Вы же понимаете, что я не диктую вам, что писать, а что не писать. Руки прочь. Но епископ ополчился на меня не из-за проповеди в церкви Святого Тимофея. Да и то, что вы вложили в мои уста, не соответствует реальности.
Вы сами дали мне ту проповедь…
И да и нет – я уже думал об этом, – все дело в моей проповеди в Ньюарке. Именно тогда он почувствовал, что это последняя соломинка. Правда, я в этом не уверен. Кстати, там Церковь вообще шире и свободнее. Они принимают женщин, геев… они либеральны в спорах. Как и я. Не стоит упрощать, конечно. Всем заправляют англиканцы. Вообще они дают большую свободу действий таким людям, как я, но Церковь ценят не за это.
Что вы сказали?
Что?
О соломинке вашего епископа.
О, это достаточно просто. Я только спросил их об уроне, который нанесла христианству спланированная бойня евреев в Европе. Нашей истории об Иисусе Христе. Я имел в виду, учитывая худосочный ответ на этот вопрос наших ребят, является ли холокост проблемой только для иудейских теологов? Но кроме этого, я попросил их – а там собралась большая толпа, после пустой церкви Святого Тимофея мне казалось, что я выступаю в Радио-Сити, и толпа эта была на моей стороне, – так вот, я попросил их вообразить… какое умерщвление плоти, какой ритуал, какая практика может быть соразмерным ответом христианства на эту катастрофу. Что-нибудь, что уверило бы нас в том, что наша вера не является неким успокаивающим самообманом. Что-нибудь, убеждающее нас в истинности нашей религиозной истории. Что-нибудь столь потрясающее, как Освенцим и Дахау. Что это будет? Массовое отшельничество? Пожизненное самоотречение и паломничество по всему миру миллионов христиан? Уход христиан на тысячи миль от тех мест, где находились лагеря смерти? Я сказал им, что не знаю, каким должен быть правильный ответ, но я узнал бы его, если бы увидел.
Именно это вы и сказали?
Для начала.
Я понимаю.
Да. Это был крах.
* * *
Простейшая техника компьютерного взлома позволяет получить доступ к делам мужа: посредничество и банковские счета, страховые полисы и медицинские осмотры, платы по закладным, досье об учебе в школе и службе в армии, размеры кредитов и взносы в кассы политических партий. Ко всему, что можно получить и со временем отнять. Служба поддержки, адвокаты, бухгалтерия, советы по инвестициям. Кто и где. Средства сообщения. Анализ почерка. Анализ голоса – легко узнаваемый филадельфийский гнусавый тембр. Анализ расходов по кредитной карте, счета за телефонные разговоры, раскрытие тайной стороны жизни – поиск: любовница, мать на содержании. Ничего. Никакой незаконной торговли алмазами или цветами; муж – чистый, как слеза ребенка. Нарцисс, единственная любовная интрижка – с самим собой. Но эта страсть всепоглощающая.
Будучи старше их обоих на десять – пятнадцать лет, муж являет собой нечто вроде корпоративного чуда, члена правления корпорации, производящей компьютеры под крылышком японского конгломерата, включающего в себя холдинги спутниковой связи, электроники и компаний, производящих прохладительные напитки. Любовник понимает, что на таком уровне эффективный менеджмент не требует знания конкретной специфики производства. Он подговаривает любовницу убедить мужа принять вызов – поселиться в другом городе, совершать регулярные поездки в Японию, завоевывать новые рынки… Это делается. Потом, пока муж пакует чемоданы, прощаясь со старой работой, стараясь сохранить сердечные отношения – бизнес переменчив и никогда нельзя сжигать за собой мостов, жена/любовница отправляется на Тихоокеанское побережье, чтобы ознакомиться с местом, найти дом в подходящем окружении и тому подобное.
Любовник летит с ней в новый город, выбирает дом, мебель, предметы обстановки, вникая в мельчайшие детали. Она превратилась в рабыню своего любовника настолько, что все их действия выглядят вполне естественными и нормальными.
Она привозит с собой несколько фотографий мужа – от любительских карточек до фирменного корпоративного портрета. Отобрав цифровую фотографию, переведенную в голографическое изображение, любовник летит в Будапешт, к хирургу «фирмы», которого он знает еще по старой своей службе и которому ничего не говорит о своем положении, давая врачу понять, что продолжает служить в разведке. Таким образом удается гарантировать соблюдения кодекса и сохранение секретности. Вы не слишком сильно отличаетесь друг от друга, говорит врач, рассматривая голограмму. И это верно, думает любовник: ее влечение ко мне определяется тем же, чем вообще определяется ее влечение к худощавым мужчинам, таким, которых она бессознательно полюбила когда-то в детстве. Я не имею в виду комплекс Эдипа, это не обязательно, но каждый из нас ищет внедренный в наше сознание в раннем детстве образ чистого притяжения. Перенос существует даже в столь нежном возрасте, когда модельная личность запечатлевается на всю жизнь как образец, который следует любить. Этот образ запечатлевается столь глубоко и неотъемлемо, что в его присутствии вы буквально расцветаете, как гелиотроп.
Нос надо сломать и увеличить, линию роста волос немного опустить – это можно сделать с помощью трансплантации, волосы надо коротко остричь и сделать седыми на висках, чтобы скрыть десятилетнюю разницу в возрасте. Челюсть расширим с помощью имплантата. Мне надо будет прибавить в весе двенадцать – пятнадцать фунтов, в обувь вставить супинатор…
Но историю не следует перегружать деталями. Она не может зависеть от реалистического представления тщательно выписанных подробностей, призванных усилить правдоподобие. Все эти детали слегка обозначаются при монтаже. Кино должно оперировать отвлеченными реалиями, в которых конкретная материя уступает место сверхъестественному резонансу с повседневной правдой жизни. Зло, в том виде, в каком оно совершается, всегда происходит из данности обыденной жизни, не только мотивация, но и форма возникают из структур существующих обстоятельств, а не из высоколобых злокозненных концепций, требующих изощренного планирования для их воплощения.
На самом деле фильм может начаться с кульминационной сцены, как ее мыслит любовник, с работы художественного представления, в ходе которого американский бизнесмен, человек, к которому он не испытывает никаких чувств, кроме, может быть, легкого раздражения, повергается на дно материального и психического краха. Муж подходит к двери квартиры, которую он считает своей, но его не узнает собственная жена. Она искренне отрицает свое знакомство с этим человеком. Двойник вызывает полицию и просит привлечь непрошеного гостя за бродяжничество. Охранники не пускают его на порог его же офиса. В отелях не принимают его кредитные карточки. Старые друзья в страхе отворачиваются от него. Адвокаты не отвечают на звонки. Паспорт его аннулирован как фальшивый. Дезориентированный, смутно догадывающийся, что все это кем-то подстроено, он будет шумно доказывать свою правоту, впадая в безумное состояние полного психического сдвига, изгнания из самого себя.
Может быть, думает любовник, муж сойдет с ума. Возможно, он попытается меня убить и кончить свои дни на принудительном лечении в клинике для социально опасных душевнобольных. Еще одна, превосходная, щекочущая нервы неопределенность касается меры моей власти над любовницей, меры, которая определяется тем, насколько я могу доверять ей. Если в ней, в форме жалости или ужаса, возобладает тлеющее под золой чувство преданности, и возобладает до такой степени, что она откроет правду, даже рискуя навлечь на себя судебное преследование, то все так великолепно задуманное и выполненное дело разлетится вдребезги.
Самое вероятное, конечно – да и как я могу утверждать, что не ждал этого с самого начала, – это то, что, совершив преступление узурпации чужой личности, я пойму, что даже это не развеет моей глубокой, хронической апатии, которую возможно облегчить, если только это возможно, оставив одержимую любовью и обожанием женщину с единственным, что у нее осталось, – с раздавленным мужем, которого она предала.
Такова светская версия Амфитриона эпохи Просвещения. И родилась она от вида миловидной, уверенной в себе женщины, которая оказалась рядом со мной на званом обеде. Моя лаборатория здесь, в голове, под сводом моего черепа.
* * *
Вороны на пристани? Итак, они тоже здесь. Мне никогда не приходилось слышать о воронах, живущих у соленой воды. Это очень плохо. Посмотрите на них. Три или четыре вороны пикируют вниз, подбирая клешни крабов и раковины моллюсков, оставленные чайками. Это только передовой отряд, авангард. Если им понравится еда, то через минуту стаи ворон с криками и карканьем усеют все прибрежные деревья, подняв треск, какой не снился какому-нибудь проклятому клубу рокеров, прости меня, Господи. Я вижу здесь иволг, мелькающих в зарослях черники, вьюрков, которые любят балансировать на водорослях, когда поднимается ветер, вижу краснокрылых трупиалов, пересмешников, трясогузок, кардиналов, крапивников, дятлов, ласточек, вижу водорезов, песочников и сгорбленных, как старухи, цапель с кривыми шеями… Вороны умнее, их больше, они поднимают страшный шум и живут стаями. Они возьмут верх и вытеснят отсюда всех, а это серьезно. Ими надо заняться вплотную. Вы должны убраться в пригородные леса Вестчестера, вороны. Вы жители суши, должны жить стаями на больших кленах и скакать по дорогам, подбирая трупы белок и сусликов. Вы плохо смотритесь на фоне голубого неба. Вороны на пристани – это меткая метафора.
Давайте на минуту задумаемся над замечаниями моего учителя из гимназии Луитпольда: что для того, чтобы уважать себя, ему требуется мое внимание и что Иисус был распят такими, как я. Итак, мы имеем здесь два элемента, которые теперь проникли друг в друга: авторитаризм и воинствующее христианство. А теперь я прошу вас принять во внимание возможность того, что благочестивые деяния христианских священников и королей, которые на протяжении веков демонизировали и расово обособляли еврейское население Европы с помощью аутодафе, погромов, экономических проскрипций, ограничения законных прав, депортаций и культивирования респектабельного антисемитизма, не пропали даром и результаты их достигли критической массы в классной комнате моей гимназии. Давайте представим себе, что это едва заметное тихое озлобление вкладывается в уши тысячи, миллиона детей моего поколения. Мгновение спустя происходит холокост. Ибо вы видите, что махина трагедии человеческой истории, увеличивая свою плотность и массу до такой степени, что ее становится невозможно сдержать, катится, сметая все на своем пути, конечно, не со скоростью света, но очень быстро.
Итак, что мы можем вывести отсюда, если хотим соблюсти правила логики? Мы должны заключить, что, учитывая события, происшедшие в европейской цивилизации на протяжении двадцатого века, мы не можем и дальше всерьез воспринимать традиционную религиозную концепцию Бога. Отсюда следует, что если я серьезный человек, а у меня есть основания полагать, что так оно и есть, то должен искать Бога где угодно, но только не в религиозных писаниях. Я должен попытаться понять определенные незыблемые законы вселенной, обусловливающие трансцендентное поведение. Бог, Один Старик, проявит себя именно в этих законах.
Весьма странно, что хотя мы имеем дело с холодными, вечными, не представимыми никаким воображением истинами, поскольку мы начинаем понимать их, с этими великими, безгласными, необозримыми масштабами вселенских измерений, мы можем тем не менее получить радость от их красоты. Мы можем познать наслаждение, осознав их, осознав, что они – непостижимым образом – постижимы!
Ибо помните, что они теоретически могут составить альтернативу сущему. Например, что будет, если исчезнет гравитация – фундаментальное свойство вселенной – давайте поставим такой мысленный эксперимент, – что получится в результате? Наша Солнечная система разлетится в разные стороны, воды Земли вырвутся из своих океанских бассейнов и полетят в космос в виде кусков льда, как летят куски угля по желобу, вся система темной материи и звезд, солнечный свет, органическая жизнь, клеточные деления, все взаимосвязанные между собой вещи, приводящие одна к другой в процессе развертывания необходимых и достаточных условий… перестанут существовать. Но что останется? Что будет? Возможно, через несколько триллионов лет в бескрайней черной бесформенности появится нечто органическое, что не будет зависеть от света или влаги для того, чтобы распространяться – это будут какие-то бесформенные эфемерные существа, питающиеся ничем, – и жизнь, если это можно назвать жизнью, будет определяться так, как она не может быть определена сейчас. Конечно, это куда более слабый стимул для нашего сознания, чем то, что мы имеем, видим и пытаемся понять сейчас.
Для того чтобы успокоить наши нервы, давайте восславим постоянство скорости света, вознесем хвалу силе тяготения, которая искривляет пространство, и воздадим ей должное, так как даже свет искривляет свою траекторию под ее воздействием, направляясь к небесным телам, рассеявшись в виде тонкой, золотисто-красной драпировки, одевающей эти тела. Подчинение света законам тяготения было доказано моим коллегой Милликеном через несколько лет после того, как мне в голову пришла моя теория. Открытие состоялось, когда было зарегистрировано, что свет, проходя мимо звезды Икс, смещается в сторону красного спектра, что неопровержимо свидетельствовало об искривлении его траектории. И это священно для нас, дорогие друзья, не правда ли? Первый священный символ, искривление траектории звездного света. Да. Искривление траектории звездного света.
* * *
Разговор Сары Блюменталь с ее отцом
Я был гонцом. В мои обязанности входило передавать сообщения или инструкции совета по домам, живущим в них семьям. Или сообщения от одного члена совета другому. Или стоять на часах у въезда на мост, на площади, чтобы дать знать членам совета, что на нее въехала открытая машина, за которой следует грузовик, набитый солдатами, а это означало, что нам грозит новая беда. Чтобы предупредить своих, я как ветер несся по боковым улочкам и темным аллеям. На мне лежала слишком тяжелая для моего возраста ответственность. Нас было семеро, семь мальчиков, служивших гонцами. Мы носили особые фуражки, похожие на полицейские, даже с военным околышем. На наших куртках, естественно, были нашиты звезды, так что мне было присуще – весьма, правда, извращенное – военное самоощущение. Я чувствовал себя в привилегированном положении: еще бы, ведь мои звезды были не такими, как у других, а свидетельствовали о моем воинском звании. Военное кепи и знание того, что должно было произойти, делало меня особенным в моих собственных глазах. Господин Барбанель, первый помощник руководителя общины, доктора Кенига, говорил, что я его лучший гонец. Для выполнения самых важных поручений он выбирал только меня. На моей куртке была звезда, а на голове военная фуражка, я был звездным гонцом, и именно так я думал о себе.
Прошу тебя, помни, что мне в то время было всего десять лет. Параллельно живя в мире иллюзий, я иногда втайне даже восхищался военной формой наших врагов, хотя и полностью осознавал, что происходит на самом деле. Да и как мог я не сознавать этого?
Повседневной обязанностью совета было формирование рабочих команд для военных заводов города. Если бы это не делалось, если бы немцы имели шанс подумать, что мы не слишком сильно стараемся, то это означало бы наш скорый конец. Мужчины и молодые женщины подписывались на работы в городе, а большинство других женщин и больные мужчины назначались на работы в гетто – в булочные, больницу, прачечную и так далее. Так что женщины тоже должны были сохранять хорошую форму. Если немцы обнаруживали беременную женщину, ее немедленно увозили и убивали. Или если рождался ребенок, то его убивали вместе с матерью. Беременные женщины так же, как старики, дети-сироты и больные, прятались в домах по всему гетто. Как только мы узнавали о готовящейся облаве, каждому гонцу вменялось в обязанность обойти несколько таких домов. Мне надо было пробраться к дому и постучать в дверь условным стуком. Это было сигналом к тому, чтобы люди прятались. Все делалось спокойно, без суеты, шума и крика. Окончив свое дело, я мог либо вернуться в дом совета, где было относительно безопасно, либо где-нибудь спрятаться, обычно на крыше пустого дома, съежившись за печной трубой. То, что было потом, могло вызвать только ужас. Нелегалы прятались в любые подходящие для этого места: посудные шкафы, пустые ящики из-под картошки, погреба, чердаки и чуланы, колодцы и подземные убежища. Мне же приходилось слышать, что происходило, когда некоторых все же находили. С нескольких направлений раздавался топот солдатских сапог, гортанные возгласы, а потом крик жертвы, а иногда пистолетный выстрел. На такие поиски немцы часто брали с собой еврейских полицейских гетто и на месте пытали их, чтобы узнать, что им известно. Людей находили и выволакивали из убежищ, с разных улиц доносились эти страшные звуки. Где бы я ни находился, даже пребывая в безопасности, я чувствовал непередаваемую ярость, она доходила до того, что я в самоубийственном порыве был готов выскочить из своего укрытия и напасть на солдат, прыгнуть им на спину, царапать, бить. От этого желания у меня сводило челюсти и начинали ныть зубы.
Когда я был назначен на площадь, где постовые солдаты проверяли подразделения рабочих, возвращавшихся с завода, моей задачей стало оповещение членов совета о чем-то необычном. Охранники были по большей части тупицами, настоящими олухами. Это были отбросы германской армии, в основном люди среднего возраста. В своей фуражке я был практически незаметен для них. Я мог бесконечное количество раз пересекать площадь, иногда даже прятался за кучей камней, чтобы наблюдать за проходящими. Если, например, солдаты вылавливали рабочего, который пытался пронести в гетто буханку хлеба или несколько сигарет, то это грозило большим скандалом, и мне надо было немедленно предупредить о происшедшем членов совета, чтобы они, не мешкая, начали переговоры о смягчении наказания. Иногда солдаты приставали к женщине из рабочей команды и под тем или иным предлогом пытались затащить ее в свою караулку, и с этим тоже приходилось разбираться членам совета. Днем, когда на площади было мало народа, я находился на соседних улицах, но всегда мог видеть или слышать, что происходит на площади. Я был ответственным мальчиком, но иногда, когда все было спокойно, не мог противостоять искушению, входил в один из заброшенных домов, вылезал на его крышу и устраивал там свой наблюдательный пункт. Большинство домов в гетто были жалкими лачугами, но были и двухэтажные строения, попадались среди них даже каменные, с амбарами, сеновалами, конюшнями, было несколько лавок с плоскими крышами и пара многоквартирных домов. Опасность пребывания на крыше, в теплой впадине между кровлей и трубой, нагретой солнцем, заключалась в том, что там можно было нечаянно уснуть и пропустить момент появления открытых машин, которые могли незаметно для меня проехать по мосту и выехать на площадь. Правда, обычно я был слишком голоден, чтобы уснуть, но грезы посещали меня часто. Я видел весь мост, а на противоположной стороне реки мог в подробностях рассмотреть улицы города, который когда-то называл своим. Магистрали города карабкались вверх, и я мог видеть кварталы многоквартирных домов и общественные здания и, в зависимости от того, где я находился, даже расположенные на холмах военные заводы, из труб которых в безветренные дни прямо к небу поднимались вертикальные столбы дыма.








