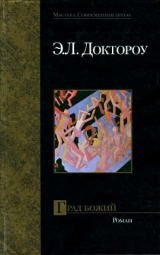
Текст книги "Град Божий"
Автор книги: Эдгар Лоуренс Доктороу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
На дверях готические буквы: «Театр Святого Тима». Сегодня играют чеховскую «Чайку».
Помню, что сказал как-то по этому поводу Пэм: «Ну что ж, разве в конечном итоге не религия породила драму? Боги уходят, входят обыкновенные греки. Не стоит ущемлять достоинства политеистов культов мистерий, они знали пару трюков, например, умели поставить неплохое шоу: много музыки с траханьем и пьянкой. Но если посмотреть глубже, то нам следует вернуться к Софоклу».
* * *
Б., нью-йоркский режиссер, заказывает мне сценарий для своего фильма. За обедом он излагает мне план истории, которую я должен написать; это история «из жизни», его жизни, именно поэтому он придает ей такое значение: пару лет назад он снимал актрису в одном фильме, где по ходу сюжета ее изуродовал один психопат, который поднимался на верхние этажи домов по пожарным лестницам и через окна проникал в квартиры красивых молодых незамужних женщин. Женщин, которые приезжают в большой город, чтобы найти работу и устроить свою жизнь, – печальные, обаятельные девушки, покинувшие маленькие города и оставившие там свое горе – они потеряли друга-солдата, которого убили на войне, или их родители умерли на маленькой ферме, – как бы то ни было, но они оказались в городе. Фильм отдавал должное черно-белому кино сороковых годов и учил тому, насколько темен и негостеприимен наш мир.
И вот эта актриса, гибкая, длинноногая, почти красивая, не слишком сексуальная, с пышными волосами, успешно прошла пробы. Он взял ее в фильм, потому что ей не надо было много платить, она только что снялась в одном из нью-йоркских шоу и была из начинающих. Это были ее первые съемки в кино, и он дал ей роль выжившей жертвы, которая и рассказывает всю историю. По ходу фильма у героини завязываются романтические отношения с полицейским детективом, который расследует дело и навещает ее в больнице, и так далее. Б. снял эту актрису, не имея на нее никаких видов и не руководствуясь никакими практическими соображениями. Он просто почувствовал, что она подходит для роли, и все; он даже не пытался анализировать свое решение. Он вообще ни в коем случае не аналитик. Короче, они сняли сцену: психопат забирается по пожарной лестнице и проникает в ее меблированную комнату через окно, понимаете, это же фильм о прошлом, тогда еще существовали доходные дома, в которых жили бедные девушки… парень подходит к кровати, наклоняется над спящей, она просыпается, кричит от страха, но он не насилует ее, потому что секс этого фильма заключается именно в ужасе как таковом. Маньяк жует ее лицо своими крупными острыми зубами и… в общем, пара дублей, и все, снято, в бюджете был на учете каждый цент. Б. снимает фильм за восемь недель. Потом выяснилось, что критика заметила актрису, хотя и не была в восторге от его фильма; критики попеняли Б. за то, что он даром теряет время.
Актриса возлагает большие надежды на благосклонность критики, теперь она свободна и может отправиться в Нью-Йорк попытать счастья на Бродвее, но агент отговаривает ее от этой идеи, утверждая, что работу можно найти и здесь, в кино, на телевидении… Она остается, встречается то с одним поклонником, то с другим, иногда находит свое имя в колонках светских сплетен, но при этом упускает один шанс за другим, ничего нового не происходит, агент не может устроить ей приличный контракт… и вот однажды вечером она возвращается домой, слегка под хмельком, в свою квартиру в Западном Голливуде, а там ее ждет самый настоящий маньяк. Он валит актрису на пол и откусывает ей нос.
– Я повторяю, это не кино, – говорит мне Б., – это происходит на самом деле! Она кричит, кто-то услышал ее вопль, парня оттаскивают, но бедняжка так и не оправилась от этого потрясения, ее душевное расстройство не прошло, и сейчас она живет в приюте для психически больных с протезом вместо настоящего носа!
Сначала актрису поместили в частную клинику, но потом студия решила, что сделала все, что в ее силах, а адвокат доказал, что студия не может нести ответственность за то, что какой-то недоумок увидел, как актрису кусают в кино, и решил, что такова ее карма. Но все дело в том, восклицает Б., что экспертиза установила, что маньяк не видел того фильма! «Зная то, что я знаю сейчас, – говорит режиссер, – я могу гарантировать, что этот псих точно не видел, фильма! Разве хоть один из этих психов способен высидеть два часа в зале кинотеатра? Каждую неделю я посылаю бедняжке цветы и очень волнуюсь, потому что дело еще не кончено. Дело в том, что тот парень сидит в той же психушке, в мужском отделении, и их разделяет только стена спальни. Мне думается, что он дожидается того момента, когда снова сможет до нее добраться».
Итак, Б. спрашивает меня, какой инстинкт велел ему снять девушку именно в такой роли, – что это, уязвимость, которую он прочел в ее лице, генетическая предрасположенность к такой судьбе, что? Что он увидел в ней, даже не осознав этого – вот что его беспокоит. Когда-то, на заре своей карьеры, он снимал одного актера, который по ходу сценария умирал от сердечного приступа, и он в скором времени действительно умер от сердечного приступа. Еще один актер снимался в вестерне, играя роль кавалерийского офицера, которого проткнул копьем индеец. Через несколько недель этот актер погиб, упав на стальной остроконечный прут ограды, вывалившись в пьяном виде из окна третьего этажа.
– Я должен был это предвидеть, – говорит мне Б. с присущей голливудским деятелям склонностью к самобичеванию. – Я должен был предвидеть судьбу этой несчастной девушки. – Он горестно качает головой и застывает, уставившись на скатерть. – Но как? Какова мера моей моральной ответственности? Что я должен понять и, самое главное, как?
– Итак, если я правильно вас понял, вы хотите сделать кино о человеке, который делает кино, снимая актрису, чья судьба в фильме повторяется в реальной жизни, за исключением того, что ее реальная жизнь – это кино, которое вы делаете с другой актрисой, чтобы показать, как ваши фильмы предсказывают реальную жизнь. Я правильно понял вашу идею?
– Получается очень сокровенная вещь, не правда ли? Поистине оккультная мистерия, словно отснятая у меня в душе. Не могу передать словами это странное ощущение. Это будет самая лучшая картина за всю мою карьеру.
– Да, действительно, в этом что-то есть, но…
– Я сразу обратился к вам. К кому еще я мог обратиться, зная вашу склонность к философии?
– Прошу меня простить, но я не хочу писать этот сценарий.
– Почему?
– Вы хотите подвергнуть опасности еще один нос?
– Хм-м-м. – Б. некоторое время размышляет. – Я понимаю, о чем вы говорите. Не волнуйтесь, я подберу не подходящего для этой роли актера. Пожертвую нужным типажом.
– Вам только кажется, что вы это сделаете, – говорю я ему.
* * *
В моей прибрежной деревушке в Саунде уже в конце сентября солнце, невысоко поднявшись над горизонтом, освещает местность золотистыми косыми лучами; ни ветерка, тихо, но эта безмятежность есть лишь намек на то, что кончается осень и скоро придет беспощадная, с иссушающими морозами, зима. Грустное время; канадские гуси начинают не торопясь сбиваться в стаи, но пока нерешительно кружат над землей, изредка прислушиваясь к своим лжепророкам, которые зовут их вернуться в привычные бухточки. Иногда сердобольные люди кормят гусей, и они остаются, а потом погибают от мороза.
Небо над побережьем океана затмевают, словно взметенная бурей пыль, бесчисленные ласточки; это правда, что они, как стрижи, питаются на лету, очищая воздух от легионов насекомых? Ласточки малы, не больше воробья, с белыми грудками, синим оперением, раздвоенным, торчащим назад хвостом и заостренными крылышками. Пространство – вот измерение их жизни, они обитают в нем как птичья галактика, хотя и не могут, как те же стрижи, неделями, месяцами и даже годами носиться по воздуху, не касаясь земли. У ласточек слабость к телефонным проводам, они не могут устоять перед искушением такого длинного и прямого насеста, сначала несколько птичек осторожно касаются провода и показывают пример, словно призывая остальных прервать полет и отдохнуть, и вот они, внезапно, словно по мановению волшебной палочки, очищают небо над покрытой песком дорогой за дюнами и плечом к плечу усаживаются на прогнувшийся под их тяжестью телефонный провод и сидят от столба до столба, подставив грудки океанскому ветру, который треплет перышки на их головах, эти маленькие бестии знают толк в жизни, сейчас они присутствуют на каком-то небесном концерте, звуки которого слышны только им.
* * *
Излагая философские учения в присущей мне манере, стоя перед студентами, готовыми абстрагироваться и записывать то, что я им расскажу… я сознавал, что они в этот момент благоговеют передо мной в такой же степени, в какой потешаются, выйдя из аудитории после лекции. Профессор Людвиг Винершницель [12]12
Wienerschnitzel – венский шницель (нем.).
[Закрыть]. Он спорит сам с собой, временами сбивается на немецкий, воспринимает то, что сказал, как нечто, высказанное другим человеком, и начинает неистово возражать. Высказав одно за другим несколько блестящих утверждений, он одним пренебрежительным жестом отмахивается от них с мимикой полного отвращения к себе. Демонстрирует физический процесс реального мышления. Часы такого… представления. Волосы его, словно напомаженные, блестят от пота, и он наконец в полном изнеможении падает на стул. Но всегда, говорю это сейчас честно, как на исповеди, всегда я поступал так не с каким-то расчетом произвести впечатление, но с единственной целью сделать изложение таким же простым, как мир, в своей данности здесь и сейчас, удалить все лишнее, чтобы добраться до этой обнаженной данности.Мир как… все, что он есть, все, что есть в наличии. Итак, я совершал этот тяжкий труд, и он оказался дьявольски трудным. Настолько трудным, что я иногда всерьез подумывал о самоубийстве. Но когда все трудности преодолены и цель достигнута, то разве истина не стоит такого труда? Тогда все легко станет на свое место, и все же… меня не понимали! Я нумеровал свои мысли и располагал их в порядке возрастающей сложности, как это делают студенты со своими конспектами, чтобы лучше понять материал, готовясь к экзаменам. Я делал все, что можно было сделать. Но чем больше я упрощал предмет практической философии, тем с большим трудом меня понимали другие. И не только необразованные люди или студенты, но и мои коллеги философы! Те самые, которые когда-то учили меня самого!
Бог видит, что я не искал признания. Мне нужен был только один человек, хотя бы один, который сказал бы мне: «Людвиг, ты не одинок». Но я слышал от всех одно и то же: Пожалуйста, объясните это, скажите это так, чтобы я мог понять. Видите? Они не поняли, что объяснять этот предмет значило отрицать его. Я достиг той точки, когда очевидность становится невыразимой. Целью моей работы как раз и был поиск только того, что можно высказать. И требовалось понять не так уж много. Я писал: «О чем нельзя сказать, следует молчать». Я говорил всем: Если вы не можете понять то, что я написал, читайте то, чего я не писал, и возможно, тогда вы все поймете. Но это лишь еще больше озадачивало моих оппонентов.
Боже мой. Я говорил тому или этому молодому англичанину, с которыми я гулял или ходил в кино после утомительных лекций: Если вы хотите пребывать в истинном духе философии, то не будьте философами. А как же вы сами, профессор? – спрашивали меня. Я уже один раз оставил философию, говорил я им, и снова оставлю ее, когда почувствую, что она меня убивает, это была ошибка – возвращаться к философии, говорил я им. Если ты философ по профессии, то оставь ее и работай руками. Стань плотником, медицинской сестрой, лоточником. Кем-нибудь простым и реальным в этом реальном мире, человеком, который соответствует миру, такому, каков он есть. Если ты влюблен, говорил я тому или другому молодому англичанину, и я хочу сказать, кстати, что, как выяснилось, нет более очаровательных молодых людей, чем англичане с их умением краснеть, с их сдержанностью, с их способностью к самообладанию, боже, какое они очарование, постоянное, почти мучительное очарование… Но если ты влюблен, говорил я им, одному или двоим, которые действительно были привязаны ко мне, то надо расстаться с предметом любви, потому что любовь может существовать только в разлуке, только в отрицании плоти утверждается любовь, ибо в противном случае ей нельзя доверять и считать безусловной. Если же любовь обусловлена, то это не любовь. Это истина, которой я придерживался, пока у меня были силы. Всякая цивилизация в своем развитии предназначена лишь для того, чтобы пачкать наши души. Вы должны проклясть все ценности общества, если хотите жить, как люди. Богатство – это смертельное обусловливание. Если вы богаты так, как был богат я – а я был сказочно богат, – откажитесь от своего состояния, как это сделал я. Если вы любите, позаботьтесь о своей возлюбленной, оставив ее, как это сделал я. Если вы ученый-философ, то оставьте эту науку и живите в простоте, как это делал я. Если вы одержимы мышлением и языками, то ходите, как я, в кино, окунайтесь в зрительные образы, в свет и тени, наслаждайтесь пейзажами и красивыми лицами, пусть перед вашими глазами мерцают пиктограммы, они – противоположность языка в том, что не предлагают создавать аналог мира в грамматических терминах, им не надо картировать мир предложениями, они просто здесь, представляют мир без усилий, исходя из него и принадлежа ему.
Я люблю кино. Видите ли, оно делается из актуального материала мира. Фильмы отделяют внешнее проявление от
мира, как мы отделяем кончиком ножа переливающуюся синими и зелеными цветами радугу от радужной форели, оставляя ее саму в неприкосновенности… Также и кино оставляет в неприкосновенности суть мира, ставя его в точное гомологичное соответствие с самим собой. Смотря кино, вы сидите в темноте и узнаете, что мир – это все, что вокруг нас, что когда фильм кончается и зажигается свет, то, что не было показано, не могло быть и высказано, что в фильме есть умолчание, эквивалентное несказанности того, что не может быть выражено. В этот момент вы выходите. Из темноты зала в темноту улицы.
Но где все это время было мое «я»?
* * *
Джаз-квартет «Мидраш» играет свой репертуар
ТАНЦУЮЩИЕ В ТЕМНОТЕ
(Аплодисменты.)
till the tune ends,
We’re dancing in the dark
And it soon ends;
We’re waltzing in a wonder
of why we’re here.
Time hurries by, we’re here and gone.
Looking for the light
of a new love
to brighten up the night,
I have you, love,
And we can face the music together
Dancing in the dark.
Я хочу сказать, что нет ни свечей, ни пламени камина, ни одного люмена света,
Мы действительно танцуем в непроглядном мраке,
Обдумывая наше существование здесь —
И позвольте мне задать равно немыслимый вопрос:
Где это – здесь?
Конечно, мы рады чувствовать пол под ногами,
пол, на котором мы танцуем.
Это что-то вещественное.
Но, с другой стороны, кто такие мы, о ком я говорю?
Я веду тебя, и ты довольно неплохо танцуешь, но я не вижу
тебя, а ты не говоришь ни слова.
Ты и в самом деле здесь?
Если да, то не хуже меня знаешь, что жизнь коротка, пройдет время и мы не сможем его догнать.
Мы оба ждем просветления, правда?
Не так ли ждут любви с первого взгляда?
И когда эта светлая любовь явится, вынося нас из тьмы нашего «где и кто?» и
даст нам – понять, что с нами происходит, и мы ясно увидим
все, включая и того, с кем мы танцуем,
да, детка, человека, с которым мы танцуем при свете,
хотя, конечно, это не будет ни один из нас.
До тех пор, пока этого не произошло,
если, конечно, это вообще случится,
я обнимаю тебя, а ты прильнула ко мне,
и это кажется мне утешением.
Как бы то ни было,
вся это не слишком многообещающая ситуация предполагает,
что, взявшись за руки, мы так и будем встречать музыку,
хотя как можно встретить музыку, когда все вокруг покрыто тьмой,
и можно лишь гадать, кто с тобой…
(Аплодисменты.)
Я не могу оставить такие слова без ответа —
Мой товарищ настолько погружен в себя,
Что не удивительно, что он ничего не видит.
Осветив все извилины и борозды своего мозга
Высоким напряжением нейтрино,
Он танцует со своей тенью.
Я не вижу рядом с ним женщины,
Как может женщина танцевать в таком ритме?
Я знаю, как может танцевать женщина,
Знаю, что значит держать в руках танцующую женщину,
Такую живую в своей экспрессии,
такую гибкую, такую сильную,
несмотря на узкие плечи, тонкую талию и легкие ножки.
Я ощущаю сладкую чистоту ее волос,
Ее висок прикасается к моей щеке.
Я чувствую пульс на ее запястье,
Ее доверие, когда она послушно позволяет вести себя
и прижимается спиной к моей ладони.
Мы раскачиваемся и кружимся в унисон,
наша близость поет, как музыка,
она течет сквозь нас, как бесхитростная гармония.
И это единственное, что я хочу слышать от нее, танцуя с нею в темноте.
Благословенна темнота, в которой мы танцуем,
она дарует нам во время танца нашу единственность в мире,
величие нашего романа, так долго, как длится мелодия песни.
(Аплодисменты.)
Сейчас я вижу все это как сцену в ночном клубе,
Столы, освещенные маленькими лампочками, окружают танцевальную площадку,
Блестят, как золотая проволока, ободки бокалов с вином…
Это ночной клуб, в котором мне никогда не доводилось играть,
С террасой, прихотливо изогнутыми стенами и большим пространством между столами,
Вечерний клуб, где темнота становится видимой,
А оркестранты сидят на возвышении,
И их руководитель, не играя сам, дирижирует палочкой.
Повернувшись к ним улыбающейся спиной,
он добродушно смотрит на танцующую пару.
Оркестрантам улыбаются все, им заплатили.
Понимаете, это голливудский ночной клуб,
здесь все фальшиво,
это музыкальная сцена киношного ночного клуба,
а танцоры – звезды кино,
и всё это – сцена, в которой герои обретают любовь друг друга.
Они танцуют, глядя друг другу в глаза,
А я и остальные музыканты играем для них с глупейшими улыбками на лицах,
Потому что плата непомерно велика.
За столиками ночного клуба сидят статисты в черных галстуках и вечерних платьях,
им тоже заплатили.
Все мы статисты в жизни этих звездных танцоров,
Танцующих в темноте, тщательно подсвеченной
приглушенным светом на столах и блеском
ободков бокалов с вином.
Вот зачем мы здесь:
За стенами ночного клуба настали плохие времена,
Страна разорена, никто не может работать,
Люди стоят на холодных улицах в длинных хлебных очередях,
Пыльные бури срывают краску с машин, брошенных в пустыне.
Черви обгладывают щеки голодных младенцев в горах,
И нет братьев, которые поделились бы хоть даймом [13]13
Дайм (dime) – монета достоинством 10 центов.
[Закрыть],
Во всяком случае, их нет здесь,
на улице перед входом в клуб, где стоят копы,
сжимая в ладонях дубинки и отгоняя нищих за полицейский кордон.
Нищие ждут, когда звездная пара закончит свой танец в темноте,
Снимет с вешалки меховую накидку и шерстяное пальто
И выйдет на улицу ловить такси, швырнув по дороге пару даймов.
Но тщетны ожидания.
Двое звездных танцоров будут продолжать танец:
Он – в своем черном фраке с напомаженными волосами,
И она в серебристом, усыпанном блестками платье,
туго обтягивающем ее ягодицы.
Эти танцоры серебряного экрана,
Вальсирующие круг за кругом,
Прикидывающиеся, что песня скоро закончится,
На самом деле они-то и есть назначенные собиратели даймов.
Они выкручивают наши руки,
залезая в наши тощие кошельки с десятью центами.
Они охотятся за бесценными даймами
Нищих на улицах и статистов на сцене.
Мы – нищие и статисты – приходим сидеть в темноте
по ту или другую сторону от танцующих,
Чтобы танцоры могли освещать все наши ночи,
пока не истечет наше время,
И мы уйдем.
(Жидкие аплодисменты.)
Наша жизнь в темноте
коротка, как песня.
Один-два хора,
и кончено наше время.
Твой и твоей возлюбленной
вальс окончен.
Тьма победила.
Музыка продолжается,
Ваш танец окончен,
Музыка продолжается.
(Аплодисменты.)
– Я хочу сказать, что нет ни свечей, ни пламени камина, ни одного люмена света.
– Мы танцуем в освещенной темноте.
– Блестят, как золотая проволока, ободки бокалов с вином.
– Танец – наша жизнь. Мы даем темноте танцевать в нашей жизни…
Dancing in the dark
till the tune endsy,
We’re dancing in the dark
And it soon ends…
(Шумное одобрение.)
* * *
Епископ Пэма оказался совсем не таким, каким я его себе представлял. Маленький, почти крошечный человечек хрупкого сложения, с преждевременно поседевшими волосами. Производит неплохое впечатление, не скупится на время, прям, терпелив, как и подобает священнику. Не преминул сказать, что очень боится пишущей братии, особенно репортеров. Я ответил ему, что тоже их боюсь, поскольку хотя я, вне всякого сомнения, писатель, но никогда не опускался до репортерства. «Я очень рад это слышать. Репортеры ищут конфликтов – от войн до разводов, они паразитируют на междоусобицах и схватках – чем больше крови, тем лучше. А там, где они сталкиваются с сочувствием, стараются описать его полную противоположность… Отец Пембертон, хотя он и чувствует себя ущемленным, является объектом нашей глубокой озабоченности и товарищеского внимания. Вы должны это понять. Это не мелочь, то, что ему приходится испытывать, и я со скорбью поминаю его страдания в своих молитвах. С другой стороны, должен сказать, что эти страдания он по большей части навлек на себя сам. Я люблю его, как дорогого друга, мы вместе учились в Йеле, но – и я говорил ему это прямо в глаза – он так и не смог стряхнуть с себя прах шестидесятых. Его абсолютизм так характерен для поколения, которое повзрослело в то время. Я на несколько лет старше и сумел избежать притяжения этой… воинственности. Но Пэм очертя голову бросился на баррикады и остался на них до сих пор. Изменились темы, но отсутствие гибкости, требование «все или ничего», характерное для него? Это не изменилось ни на йоту».
Епископ улыбнулся.
– В этом отце есть что-то отъявленно евангелическое, вам не кажется? Я шучу.
Вошла женщина, неся поднос с чайными приборами, и поставила его на стол епископа. Некоторое время он возился с чайником.
– Кстати, где сейчас Пэм, может быть, вы знаете, почему он не отвечает на мои звонки?
– Он уехал в Европу.
– Ага, рад слышать. Он решил сменить обстановку.
– В действительности, как мне кажется, он пытается найти исчезнувшие во время войны архивы еврейского гетто.
– Понятно. Не хотите выпить со мной чаю? С лимоном, молоком, сахаром?
– Спасибо, с удовольствием.
– По некотором размышлении, – заговорил епископ, – меня не должно удивлять, что Пэм занялся именно этим, особенно учитывая его одержимость холокостом. Он очень критично относится к послевоенной христианской теологии. Даже пренебрежительно. Хотя каждому, кто возьмет на себя труд посмотреть внимательно, станет ясно, что наша борьба происходит из самых искренних побуждений. Некоторых из нас возмущает его отношение, желание предъявить единоличное право на моральную позицию, которую мы все разделяем. – Он нахмурился. – Чай, как всегда, остыл. Прошу прощения.
– Нет, нет, что вы! Чай хорош, правда хорош.
– Том Пембертон может говорить о холокосте, но в душе у него Вьетнам. Вы, конечно, знаете, кто был его отец.
– Он тоже был духовным лицом…
– Вы могли бы сказать и по-другому: Р. Р. Джон Пембертон, викарий Вирджинии, принадлежащий к Консервативной Англиканской Церкви, непоколебимый страж веры, священнослужитель, который не хотел мирской славы и национальной известности. Однако он совершил акт самопожертвования, подписав обвинения в ереси другого епископа того времени, Джеймса Пайка. Именно поэтому его и помнят. Вы можете прочитать имя Пайка в первом пункте некролога Джона.
– Пэм рассказывал о епископе Пайке.
– Должен был рассказывать… Видите ли, епархия понимает ценность мирской психотерапии. Я настоятельно советовал Пэму обратиться к психологу. Для него более чем достаточно иметь одного отца.
– Не понимаю.
– Пайк оказывал разрушительное влияние. Стоя на кафедре, он сеял сомнения по поводу Непорочного Зачатия, Святой Троицы… было такое впечатление, что уродливая антикультура проникает сквозь церковные стены. Однако на некоторых семинаристов он производил сильное впечатление. Нет ничего невозможного в том, что Пэм интериоризировал их обоих – своего настоящего отца Джона, как представителя традиционной Церкви, и псевдоприемного отца Джима Пайка – и противопоставил их друг другу. Вот вам история, сюжет, конфликт, если вы его ищете. Или это звучит для вас дешевым психологизмом?
– Отчасти да.
– Уверяю вас, что это не так. Надо думать, что при таких противоречиях веры с его разумом Пэм должен был бы уже давно оставить лоно Церкви. С другой стороны, вас не удивляет, что при его диссидентской натуре он все же пришел в Церковь? И если это не… если это не борьба, то мы должны начать говорить о нечистой силе.
Епископ поднялся и посмотрел в фонарь окна.
– Я не хочу этого, я не хочу признать, что подозреваю Пэма в наивности. Он всегда был очень разумен, так что это была бы очень расчетливая наивность. Разве он не должен знать, что вера и разум не несовместимы, что они комплементарны? Разум не меньше, чем вера, освящает этическую жизнь. И то и другое освобождают человека от него самого. Тот ум, который воспринимает математические теоремы, любит и порядок божественного устройства мира. Разум и воображение – это параллельные пути Господа. Им нет нужды пересекаться. Можно, конечно, призвать на помощь перспективу и вообразить, что они сливаются в человеческом опыте… если смотреть на эту точку с большого расстояния.
Пока же могу сказать только одно: самое отталкивающее качество – это гордыня, этот грех самый катастрофичный, здесь коренится и отсюда вырастает все зло, берущее начало в самовозвышении человека, забывшего, как Иисус Христос снизошел к нам, принял человеческий облик и был распят за нас на кресте.
Итак, вот что у меня есть: в юности играл за хоккейную команду школы Святого Павла – он был рослым широкоплечим мальчиком, потом четыре года в колледже Святой Троицы в Коннектикуте. Потом грянули шестидесятые, семинары, сидячие забастовки, марши протеста, ритуальные сожжения призывных карточек, потом проводит лето на Миссисипи, регистрируя черных избирателей, расисты проламывают ему голову, и он, подлечившись, с полной аккредитацией присоединяется к йиппи, пикетирующим Пентагон. Потом происходит следующее: для учебы он выбирает духовную семинарию. Епископ недоумевает почему. Ибо, как сын столпа Церкви, воспитывавшийся во всех приходах от Сиэтла до Верхнего Ист-Сайда, против чего мог бы ополчиться Пэм, как не против отчего дома?
Я напишу о нем, что у молодого человека была вера, пусть даже смутная и неосознанно впитанная с молоком матери. Вероятно, поначалу он был сбит с толку, но постепенно начал видеть, что среди всего этого вьетнамского сумасшествия и насилия, связанного с движением за гражданские права, только Церковь оставалась оплотом истины и душевного равновесия. Вокруг были клирики – и не только епископ Пайк, – но антивоенно настроенные клирики, теологи, проповедовавшие освобождение, служившие образцом принципа гражданского неповиновения, готовые за убеждения дать заковать себя в кандалы и бросить в тюрьму. Мартин Лютер Кинг, Берриганы… что давало им силы? Что двигало ими? Вера стала их редутом. Возмутить ад тоже было делом веры. Итак, перед нами программа, разумная в глазах юноши шестидесятых: он примет Евангелия за то, что они суть, – за учебник революции.
Стрелка его религиозных убеждений металась на все триста шестьдесят градусов веры: такова была истина моего друга, отца Пэма.
Также верно и то, что после года работы в Корпусе мира, о которой я потом расскажу больше, он возвращается в Йель, чтобы закончить диссертацию, и знакомится с молодой женщиной, своей будущей женой, Триш ван ден Меер. Красивой, импозантной, из девушек, окончивших школу в Швейцарии. Триш специализировалась по политологии. Над i она ставила не точку, а кружочек. Отличница, которых он всегда избегал. Итак, они полюбили друг друга.
Триш нравится его хрипловатый баритон, широкое лицо, волосы, постоянно спадающие на лоб, и большой чувственный рот. В нем нет и шести футов роста, но он кажется больше, от него исходит обаяние силы; он студент богословия из хорошей семьи (правда, о его деньгах можно не упоминать), и от него за версту пахнет настоящим мужчиной. Он еще больше привлекает ее тем, что совершенно не осознает своей привлекательности, точно как большая лохматая дворняга. Он носит большие тяжелые очки, которые постоянно сползают на кончик носа, он вынужден их поправлять, и сам этот жест убеждает ее в том, что у него в жизни не все в порядке. О нем надо заботиться. И эта его уязвимость, как просто его удержать и потрясти его воображение, как он жаждет, чтобы она делила его мысли, хотя Триш чувствует, что она нужна ему как надежный слушатель, когда он тренирует свой мозг. Она очарована тем, какую тяжелую жизнь может вести мужчина.
Чем же привлекает его она? В ней есть спокойная сексуальность, она стройная, тренированная блондинка, хорошо играет в теннис, выдерживая пару геймов, бегло говорит по-французски и по-итальянски, в юношеские годы занималась гимнастикой, а ее отец – большая шишка в администрации Джонсона, к которому Том Пембертон испытывает глубокое отвращение.
* * *
Дорогой Пемби, я невольно улыбнулся, когда взял ручку и представил себе, какое выражение появится на твоем лице, когда ты обнаружишь в почтовом ящике письмо от тестя. Вот видишь, ты уже этим доставил мне приятный момент. В последние дни они редко выпадают на мою долю, хотя это все же случается в те дни, когда я выхожу в море под парусом, особенно если дует попутный ветер; тогда я ставлю яхту на нужный курс, и мне остается лишь удерживать румпель и наслаждаться брызгами, летящими в лицо. Сейчас я снова хожу на «Hereschoff», помнишь ее, деревянную красавицу с гафельной оснасткой? Не знаю, почему я это сделал. Она не отличается хорошей остойчивостью, не слишком быстроходна, но добротна и без причуд, как надежная первая жена. Когда я выхожу на ней в море, то испытываю мимолетное чувство душевного покоя. Я слышу шелест и плеск скользящего по морю судна, свист стихии, как будто ветер, свет и вода – боги, которые, как закоренелые языческие политеисты, извинившись, вступили в свои права и ведут между собой тихий неспешный разговор. Я не выхожу в море дальше чем на одну или две мили и всегда держусь в виду берега. Не знаю почему, хотя и испытываю острое желание поступить по-другому. Может быть, причиной служит поразительная загрязненность океана, при этом чем дальше в море выходишь, тем больше встречаешь мусора, масляных пятен и всякой неизвестной дряни. А я очень брезглив.








