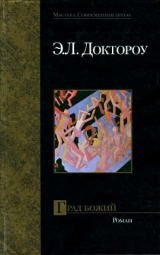
Текст книги "Град Божий"
Автор книги: Эдгар Лоуренс Доктороу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Ты чувствуешь, что я не сразу перешел к сути дела, не правда ли? Это на меня не похоже. Но прежде чем приступить к делу, ради которого я пишу, хочу тебя кое в чем уверить. Я не хочу заполучить тебя назад вместе с твоей отставленной женой. Во-первых, зная вас обоих, не думаю, что это возможно, и, во-вторых, я увидел тебя в более привлекательном свете с тех пор, как мы перестали быть тестем и зятем. Начать с того, что я не могу представить себе, что вы в самом начале друг в друге нашли – то, что было вашим браком, подлежит научному изучению, хотя не я буду его проводить. У меня более важные приоритеты. Приоритеты. Да, ты удивишься, что такие старые перечницы, как я, все еще занимаются делами, и, между прочим, очень серьезными.
«Что значит, в более привлекательном свете?» – спросишь ты, немедленно уцепившись за то, что интересует тебя больше всего. Итак, во-первых, несмотря на очевидные тяготы, которые выпали на твою долю (а одна из них даже попала на страницы газет), ты пребываешь в невинности.
Какие обычные, почти нормальные вещи – разбитая семья, украденное распятие, очередь страждущих за куском мяса и порцией картофельного пюре и мало ли что еще – занимают твои дни. Хочу тебе сказать совершенно искренне, что это род мучительной невинности, я не имею в виду разжигать твой и без того хорошо ухоженный страх, но при таких неприятностях я бы немедленно поменял поле деятельности. Это такое завидное занятие – Бог. Не то чтобы я не знал этого раньше, просто сейчас вижу это в новом свете. Учитывая, что в твою обязанность входит говорить то, что всем известно, и то, что никто не хочет слушать, ты подвизался на роль одновременно неэффективную и хлопотную, и я пришел к выводу, что ты стал невольным суррогатом тех праведных благородных субъектов, которые имеют обыкновение вставать в зале и требовать от меня извинений, или тех дам, которые пишут мне закапанные слезами письма, в которых утверждают, что я несу ответственность за смерть их сына, брата или мужа, или забивают мою электронную почту самыми немыслимыми проклятиями, или клеймят меня на литературных ленчах, или встают, поворачиваются ко мне спиной и выходят из зала, когда мне присуждают почетную степень. Ты – их пророк, отец Пембертон. И все ваше поколение – это трусливые, сентиментальные, самовлюбленные, малодушно не рожающие детей хиппи, которые наслаждаются плодами американской гегемонии, но не желают взвалить на свои плечи ее бремя.
Мои основания таковы: если я найду способ общаться с тобой, то, возможно, сумею добраться и до остальных. Это похоже на труд антрополога, который старательно изучает в поле или джунглях язык и нравы аборигенов, чтобы заручиться их доверием. Что ты на это скажешь? Конечно, я в первую очередь думаю о моей стране. Быть может, и ты наконец начнешь думать о твоей стране? Если так, то вот наша первоочередная проблема:
Длинноволосый безногий человек на инвалидной коляске начал пикетировать мой дом здесь, в Александрии. Каждое утро он приезжает в специальном автобусе для инвалидов, его высаживают перед моими воротами, и он целыми днями просто сидит, уставившись на мой дом. В полдень его увозят, как мне кажется, на обед, но вскоре он возвращается обратно и продолжает сидеть до наступления темноты. Я последил за ним с верхнего этажа, воспользовавшись биноклем: привозит и увозит его молодая женщина – дочь или жена, должен сказать, что она очень ему предана. Он сам, по-видимому, отличается отменным здоровьем, он силен, широкоплеч, сквозь футболку вырисовываются мощные грудные мышцы, бицепсы и трицепсы. Мачо простонародья, или, лучше сказать, мачик. Вероятно, он имеет неплохие льготы, потому что к его инвалидному креслу постоянно прикреплен американский флажок. Через пару недель я вызвал полицию. Они велели ему двигать, и он поехал вдоль по извилистой тенистой, обсаженной деревьями улице, пользуясь теми же законными основаниями, что и люди с ногами. Как только полицейские уехали, он немедленно вернулся на прежнее место. Я хотел передать ему лимонад, но он, вероятно, расценил бы это как издевательство, верно? Я думал о том, чтобы пригласить его в дом, как это ни рискованно, но решил приберечь этот козырь до тех пор, пока этим делом не заинтересуется пресса, а она непременно заинтересуется, и репортеры начнут осаждать мой дом. Подумывал я и о том, чтобы уехать, я ведь всегда могу отправиться за границу, но боюсь, что он посчитает это бегством. Но что бы я ни делал, поле битвы останется за ним, отец. Как бы ты поступил в данном случае? Какой совет предложишь мне, человеку, который, между прочим, тоже был награжден медалями, а после войны за мизерную зарплату, не жалея сил, из года в год, трудился во благо страны? Может быть, мне начать пикетировать его? Может быть, мне тоже заказать кресло на колесах и выехать из дома с копьем наперевес?
Надеюсь получить твой ответ; с самыми теплыми личными пожеланиями, как и всегда, искренне твой тесть.
* * *
Биография автора
Вы помните, конечно, как мой отец Бен,
молодой морской офицер, единственный
из всей роты уцелел в одну из ужасных ночей
Великой войны, благодаря тому, что отдал приказ на идиш,
языке, созданном в пасти европейской истории,
немецким солдатам, хлынувшим в траншеи.
Это была мужественная, ироничная,
чисто американская выходка, разве нет?
Она спасла ему жизнь.
Когда война кончилась, он вернулся домой
с армией Першинга, оставил флотскую службу и
женился на своей милой Рут,
в Рокэвей-Бич, на Лонг-Айленде, в Нью-Йорке,
и занялся делом —
начал продавать патефоны.
Патефон – это заводное звуковоспроизводящее
устройство того времени, открытый цилиндрик
размером с серебряный доллар,
насаженный на звукоснимающий рычаг, к которому
снизу прикреплялся иглодержатель со стальной иглой,
пробегавшей по бороздкам диска,
вращавшегося со скоростью семьдесят восемь оборотов в минуту,
и передававшей колебания на резонирующую
бумажную мембрану патефона.
В результате слышался оловянный голос Руди Вэлли
или Расса Коламбо, под которые
американцы могли танцевать.
В 1922 году родился мой брат Рональд, а в 1926 году он забрался на подоконник конторы отца
в «Флэтирон-Билдинг», чтобы посмотреть парад в честь Линдберга на Бродвее.
От восторженных криков толпы вздрагивал маятник часов.
Мой четырехлетний брат неминуемо свалился бы
в этот мальстрем,
если бы смеющийся отец
не поймал его своими сильными руками
и не втащил вовремя назад, в комнату.
Моя мать Рут, несклонная к легкомыслию, побледнела и едва не лишилась чувств.
В 193… родился я,
и семья приобрела свой окончательный вид: мать, отец и два сына, переселившиеся во время Великой депрессии в Бронкс.
Я не стану вдаваться в подробности,
скажу только, что к 1941 году мой отец Бен,
который ухитрялся до того времени зарабатывать для нас деньги,
содержа вместе с партнером
магазин радиоприемников и патефонов,
не удержался на плаву и стал продавцом,
работая по найму на других.
К 1943 году некогда юный морской офицер
Первой мировой войны превратился
в моего солидного, вечно встревоженного отца, который,
сидя в кресле возле приемника, слушал вести
с фронта Второй мировой войны,
одновременно читая сводки с Войны в вечерней газете,
которую он держал над собой,
словно полог палатки, потому что его старший сын,
а мой брат Рональд был в это время где-то в Англии
и служил радистом в военно-воздушном армейском корпусе.
Моя семья предрасположена к связи, а мой брат, кроме того, с четырехлетнего возраста любит летать.
Итак, не хочу заострять на этом внимания, но наша семья снова пришла на помощь Европе.
Мой брат начал бороздить небо Европы, сидя за радиостанцией в кабине В-17, так называемой «Летающей крепости», потому что она ревела в небе с грузом бомб, с башенными стрелками в хвосте и на носу, да еще с третьим стрелком, который сидел спиной к носу выше и позади пилота.
При таком мощном вооружении,
по сегодняшним меркам,
это был не очень большой самолет,
хотя он и служил отличной мишенью
для зенитных пушек и атакующих мессершмитов,
заходивших ему в хвост.
Потом «Летающие крепости» начали летать по ночам, не было на свете более темного места, чем Европа во время войны.
Снизу «Летающие крепости» освещались только вспышками разрывов собственных бомб.
Под ногами у пилотов было десять тысяч футов,
и трассирующие пули летели снизу,
словно притягиваемые магнитом, и хотя
экипаж испытывал суеверный страх перед ночными полетами,
все же, как ни странно,
днем было еще страшнее,
этот взгляд не могли поколебать даже тяжелые потери, которые они несли.
Бывали тяжелые моменты, когда, например, взрыв сбоку заставлял машину вздрагивать, словно от испуга,
или в шуме двигателя появлялся новый, воющий тон, а в кабину начинал валить дым.
Однако брат был влюблен в свое оборудование, наборные диски, игольчатые штекеры и просачивающийся сквозь щели в металлическом кожухе
надежный,
неяркий свет электронных радиоламп.
Когда бомбы сбрасывались и самолет подпрыгивал вверх,
на борту начиналось бурное веселье,
можно поворачивать домой,
и мальчики, самому старшему из которых
было не больше двадцати пяти, хвастались,
как дети, пока на рассвете
внизу не показывалось летное поле,
и они успокаивались: они опять вернулись живыми.
После двенадцати боевых вылетов мой брат получил отпуск на выходные дни, которые он провел по приглашению, переданному командиром эскадрильи – а это равносильно приказу, – в маленьком английском замке в Котсуолдсе.
Хозяином замка оказался старый генерал лорд Такой-то и Такой-то, который жил там со своей овдовевшей дочерью и несколькими старыми, с трудом передвигавшимися слугами.
Брат показал ему свои документы и свидетельство о том, что его отец сражался в Первой мировой войне.
Генерал, хрупкий, болезненный, голубоглазый герой
Великой войны, в ответ на это повел своего гостя в галерею портретов
своих предков,
весело и насмешливо представляя тех, кем должен был бы гордиться,
поколениями усатых, украшенных завитыми париками,
бородатых, увешанных медалями офицеров, от которых он происходил.
Во время завтрака генерал уронил на галстук немного яичного порошка,
после бритья на его подбородке осталась щетина.
Да, подумал мой брат, пропал мой отпуск, но в это время вошла дочь генерала,
стройная, высокая, привыкшая к свежему воздуху женщина, молодая вдова британского танкового офицера, убитого в сражении с Роммелем в Северной Африке.
Как рассказывал брат, он называл ее мисс Мандерли: у нее были широко расставленные глаза и полные яркие губы.
Темные волосы уложены а-ля мальчик-паж, скромные блузка и юбка, туфли на низком каблуке.
Рука, которую он пожал, была мягкой и теплой, а ее приветливая улыбка сказала ему без всяких слов, что она понимает его затруднительное положение.
У него было немного времени побродить по округе.
Брат не понимал, как эти люди могут жить в таком готическом замке из желтого котсуолдского камня, не понимая, что он вот-вот рухнет, развалившись изнутри и снаружи.
Дом стоял как неприкаянный, – ни окруженный поместьем, ни прочно стоящий на фундаменте.
Было такое впечатление, что он просто брошен
на голую землю без деревьев,
только с мертвыми кустами в вазонах
да с парой каменных изваяний ленивых геральдических
животных, призванных подчеркнуть отличие поместья
от других таких же.
Позади замка половина акра была отведена
под викторианский парк, а за ним полого поднималась
к небу возвышенность, на которую указала рукой
мисс Мандерли, выйдя из дома с корзиной для пикника и
с тяжелым портативным радиоприемником —
как и подобает образцовой хозяйке,
которой надо развлекать гостя.
Он не думал ни о каком романе, не было никаких мыслей, кроме, может быть, каких-то смутных фантазий, они просто остались вдвоем,
рассказывал мне брат, взбираясь вверх по длинной тропе, похожей на проход между рядами скамей в церкви, – она вилась между живыми изгородями, которые, как почтительные придворные, кланялись под порывами ветра.
О боже, сказала мисс Мандерли, увидев,
что небо приобрело странный зеленоватый оттенок
и с него упали первые крупные капли дождя,
а потом на них обрушился такой неанглийский ливень,
и к тому времени, когда они с мисс Мандерли
добежали до какого-то хлева
и укрылись от дождя,
на них не было ни одной сухой нитки.
Птицы, ударившиеся о стены, сильно пострадали от ветра.
Две или три из них кружили в высокой траве, не в силах подняться в воздух.
Внутри, в темноте хлева, приемник,
который брат тащил как ненужный багаж,
вдруг включился сам, и они услышали
на коротких волнах речь Гитлера,
звучавшую так, словно перевернули ящик
со слесарными инструментами, гвоздями, болтами и гайками.
Катастрофа мировой войны начисто отметала любую пастораль, и двое молодых людей, подстегнутые инстинктом,
бросились в объятия друг к другу,
пока еще сохранилась возможность любить.
Она выключила радио, он включил фонарик, согреваясь от одного взгляда на мисс Мандерли, весь пасторальный наряд которой – и верхнее и нижнее белье, промокшее насквозь, превратилось в одну пеструю, приклеившуюся к телу обертку, сквозь которую проступало совершенно незнакомое тело. Как забавно она смущена; смотрите, как странно, словно говорила она своим видом.
Она сжала губы, отчего на щеках образовались ямочки, весь вид говорил о комичной стыдливости, брови ее взлетели вверх,
а в глазах отражался свет карманного фонарика, под мокрой одеждой виднелись бретельки, оттеняющие полные розовые плечи, спина ее выгнулась, как у кошки, когда она, скрестив руки, прикрыла грудь, с таким удивлением глядя на свою ногу, поднятую его рукой,
будто раздевали вовсе не ее, а кого-то другого.
Не скажу, что брат рассказывал какие-то подробности, он очень застенчив во всем, что касается секса, но я могу расцветить его рассказ лошадиной попоной, постеленной под бутылку вина из корзины.
Вылетела пробка, и вино разлили в два бокала, но они пренебрегли сандвичами с огурцами и проклятыми, опостылевшими яйцами.
Ветер свистел в стропилах, пара лошадей в стойле,
видимо обрадованные неожиданным обществом, всхрапывали и топали копытами в знак животного одобрения. За ужином генерал в полной парадной форме сидел во главе стола, у противоположной стороны которого
сели мисс Мандерли и мой брат.
Они ели овощи с огорода, фрукты из сада и застреленных в поле птиц.
Вы же понимаете, откуда в этой стране берется вся еда. Отправляясь на покой, генерал пожелал брату всяческого благополучия и пожал ему руку.
Слуга помог старику подняться по винтовой лестнице. Рональд и мисс Мандерли пили бренди и виски с содовой и играли в крибедж [14]14
Карточная игра.
[Закрыть]у камина, а когда все в доме стихло, она повела Рональда в свою спальню.
Он рассказывал мне, что был вдребезги пьян, но запомнил
ее кровать под балдахином на четырех столбах,
вырезанных в форме шахматных слонов,
и я живо представил себе,
как Рональд и мисс Мандерли,
прижавшись друг к другу ромбиком,
похожим на магнитную стрелку,
поворачивались то на восток, то на запад до тех пор,
пока бледный рассвет не забрезжил в щелях
светомаскировочных штор.
Думаю, что это увольнение,
полное прагматичных английских забав,
стало воплощенной галлюцинацией.
Мне думается, что брат вообразил,
как они после восхода идут в Котсуолдский собор,
где звонят к заутрене,
сонные монахи, зевая, предаются самобичеванию, и латинские гимны, словно обессилевшие ласточки, поднимаются в хмурое небо европейского утра.
Но время шло быстро.
Всего вам доброго, младший сержант.
Младший сержант —
этакая патриотическая насмешка
над обреченным союзником из ВВС.
Утро было влажным и серым,
мокрые пятна на грубых камнях готического замка,
старый, до блеска отполированный «бентли»
с каплями росы на дверцах
и потемневший от дождя гравий под ногами.
Вдали, на склоне холма виднелся хлев, о который калечились несомые ветром птицы. Вышколенные живые изгороди все так же стояли, невзирая на холодное застывшее утро.
Рональд не знал, что сказать,
ведь они даже не обменялись адресами.
Он почувствовал ее отчужденность, отчужденность английской аристократки, которая всегда делает только то, что должно.
Они могут обноситься до нитки, жить в нищете, но они всегда делают только то, что должно. Американскому солдату это было внове.
Но все осталось невысказанным, и все, что они сделали вчера, было просто формой траура, и не более того.
Мисс Мандерли устала, ей страшно хотелось спать,
на распухших губах блуждала вымученная улыбка,
как последнее прости иллюзорной нежной и верной дружбе.
Он никогда не забудет ее бесполой души,
печально глядевшей из ее глаз,
цвет которых стерся в его памяти,
когда он сказал: Прощай.
Прощай, мисс Мандерли, прощай.
Спустя двадцать четыре часа все экипажи эскадрильи, в которой служил мой брат, были подняты по тревоге,
и на рассвете следующего дня «Летающие крепости», несущие по пять тысяч фунтов бомб каждая, с ревом взлетели в туманное небо Суффолка.
Группа кружила над Восточной Англией, ожидая, когда соберутся все сто сорок «Б-17» и истребители сопровождения.
Бомбы, которые они несли,
предназначались для подшипниковых заводов в Швейнфурте,
в глубине Германии,
а может быть, для Регенсбурга,
где немцы строили свои боевые самолеты,
или это был Регенсфурт, или Швейнбург,
я точно не помню,
надо бы спросить у брата, но он стесняется говорить о войне, так же как и о романах своей юности.
Скромный семейный герой – сейчас ему под семьдесят, каждый день играет в теннис и гордится тремя своими взрослыми сыновьями, с которыми он любит удить рыбу; он верен своей первой жене, с которой живет уже сорок с лишним лет, порции мартини перед обедом и ритуалам Святых праздников.
Как бы то ни было, задание было смертельно опасным, так как, хотя «Летающие крепости» были снабжены дополнительными баками с горючим, у истребителей топлива должно было хватить только до Голландии, до германской границы и обратно.
Но над Германией рядом с эскадрильей появились «мессершмиты-109» с желтыми носами
и начали заходить в хвост массивным, идущим в строю бомбардировщикам.
Пушки в крыльях истребителей изрыгали огонь, обстреливая «Б-17» смертоносными очередями, открыли огонь и двуствольные турельные пулеметы бомбардировщиков,
яростно жаля метавшиеся в воздухе «мессершмиты».
В наушниках слышались крики, команды и стоны. Стрелки, светящиеся шкалы и лампочки в рации Рональда вдруг рухнули, словно сложившийся карточный домик, подсветка погасла, в наушниках наступила тишина, и в этот момент он почувствовал, как шрапнель обожгла его руку сквозь перчатку, а в фюзеляже образовалось синее, как небо, окно, цветом похожее на глаза его матери, в мгновение ока дым заполнил «Летающую крепость» и так же быстро рассеялся.
Машина резко клюнула, и Рональд, вскочив с места, бросился к пилотам.
Командир, яростно жестикулируя, показал Рональду второго пилота, который, сгорбившись, упал на штурвал. Брат вытащил убитого из кресла – голова парня почти оторвалась от туловища, бережно положил тело на пол кабины и занял место второго пилота.
Он стянул с себя летную куртку и мехом подкладки вытер кровь убитого с кислородной маски и надел ее на лицо.
После этого он вытер кровь со стекла фонаря кабины.
В фюзеляже были видны отверстия, оставленные пулеметной очередью «мессершмита».
Нос «Крепости» задрался вверх,
и командир приказал брату держать курс,
пока он будет вытирать кровь, залившую ему глаза.
Так Рональд стал вторым пилотом, впереди были видны расстроенные порядки эскадрильи «Летающих крепостей».
Пары «фокке-вульфов», сменившие «мессершмиты», заходили со стороны солнца, обрушиваясь на «Б-17»,
пролетая сквозь их строй и извергая пулеметный огонь, а потом делали боевой разворот и снова дерзко шли в атаку.
И было не важно, что то один, то другой гунн взрывался или начинал тянуться к земле, оставляя за собой дымный шлейф, казалось, все они охвачены каким-то жизнерадостным самоубийственным пафосом.
Бомбардировщики вспыхивали пламенем, кувыркались в воздухе, как опавшие листья, или вращались вокруг крыльев, или вертикально, носом вниз, летели к земле.
Следы самолетов и трассирующих пуль
пересекали небо загадочными строчками,
разделенными, как запятыми, разрывами зенитных снарядов,
пролетавшими вниз телами, парашютистами,
скользившими к земле, кусками крыльев,
обтекателями двигателей, люками,
оторванными ногами, головами в летных шлемах,
панелями управления, вертящимися пропеллерами —
всевозможными остатками машин и людей,
усеявших небо, сквозь которое
надо было лететь и лететь дальше.
Никто не смог бы сказать, сколько это продолжалось, казалось, что иной жизни просто не существует.
Наконец «фокке-вульфы» отошли, и то, что осталось от эскадрильи, не больше шестидесяти машин, подошло к цели.
Осталось преодолеть яростный заградительный огонь зенитных батарей и приниматься за работу.
С открытыми бомбовыми отсеками
«Летающие крепости» сделали боевой разворот и вышли на цель. Лежавший внизу город вспучился черно-рыжим дымом, а к реву двигателя присоединился тяжелый запоздавший гул взрыва, от которого самолет качнуло, как колыбель.
Машина подпрыгнула вверх, и Рональд услышал, как штурман прокричал:
Бомбометание закончено!
Ему показалось, что самолет испытывает поистине
человеческое торжество,
отправив жестокое послание немцам.
А теперь уматываем отсюда, сказал пилот.
Только в этот момент до них дошло,
что машина перестала слушаться штурвала,
куда бы его ни поворачивали, курс не менялся.
По плану полета, чтобы избежать встреч с люфтваффе, которые сильно потрепали эскадрилью по пути к цели, им надо было продолжать лететь к югу через Итальянские Альпы на аэродром в Северной Африке.
Но теперь не оставалось ничего иного, как лететь на запад, снова через всю Германию.
Пилот ничего не мог сделать с машиной – ни повернуть, ни снизиться, ни подняться.
Оставалось только одно – лететь прямо вперед.
Пилоту показалось, что тяги истерлись в нитку, и вот-вот оборвутся, и машина рухнет вниз.
Только не это, услышал Рональд.
Они постепенно снизились, уменьшив обороты и заглушив два двигателя.
Теперь они летели достаточно тихо,
чтобы избежать обнаружения на высоте пятисот футов
над вылизанными с какой-то извращенной тщательностью
полями, разграниченными полосами кустарника.
Маленькие стада коров
пускались в неуклюжий галоп,
завидев в небе низко летящий самолет,
старик, показывающий на них рукой,
женщина у веревки,
на которой сушилось белье,
станционный носильщик, грозящий небу кулаком, длинный товарный состав,
охрана которого целилась в «Летающую крепость» из винтовок, Рональд чувствовал,
что вся Германия ополчилась на раненое американское чудовище,
с натужным ревом ползущее над деревнями и поселками.
Но они продолжали упрямо двигаться вперед; в живых осталось три или четыре члена экипажа, без радиосвязи, в застывшем, парализованном, выжженном самолете.
Только ветер свистел в отверстиях, пробитых в фюзеляже, и мертвые лежали, скрючившись, у своих разбитых турельных пулеметов…
Друзья, братья и сестры, как нам сделать так, чтобы наши рассказы не спотыкались, как ветераны на своих парадах?
Опыт опыта непередаваем, дети пожимают плечами: что было, то было, и история учит их в конечном итоге не оказываться в неподходящем месте в неподходящее время, как это случилось с тридцатью миллионами во время Второй мировой войны, где каждый из них был сгустком смертельной боли хотя бы в течение одного, бесконечного мгновения, и вся любящая ткань их сознания сатанински съеживалась, когда мир подходил к краю пропасти.
Я спрашиваю: сколько же раз может мир подходить на волосок к своему концу до конца мира?
Из разбитой пилотской кабины зеленые поля внизу
становились серыми при взгляде
сквозь запекшуюся кровь на стекле фонаря.
Может быть, мой брат Рональд думал
вовсе не о тех обстоятельствах,
в которых он в тот момент оказался,
а о Европе, которую настолько круто занесло
в историческую фантазию,
фантазию королей, фантазию прелатов,
что она мгновенно прониклась сюжетами
убийственных сказок, извергнутых из уст ее самых чудовищных
импресарио, каких только видел двадцатый век,
из уст горластых социопатов, которые всегда знают,
кого обвинить.
Или, быть может,
он размышлял о разнице между войной и миром как о разнице между смертью в мирное время, неожиданной, случайной, местной или приглушенной таким средством, как нищета, и безошибочно отрежиссированной массовой смертью во время войны.
Но скорее всего, замерзая в одной рубашке, а потом, не испытывая никакого комфорта, надев летную куртку, мех подкладки которой был покрыт сосульками сгустков крови второго пилота, он думал о матери и отце, о Рут и Бене, не будучи в состоянии представить их себе визуально, он воспринимал их моральное присутствие, черпая силу только в их существовании как своих родителей.
Думал он и о своем маленьком братишке Эверетте, который очень серьезно слушал, когда учили, как ловить и отбивать мяч в бейсболе, и он чувствовал, как невинность Эверетта придает ему сил.
Он посмотрел на часы.
В Штатах сейчас самый разгар дня.
В этот миг Рональд поклялся,
что когда-нибудь он снова будет жить скромной жизнью труда, учебы, дома и вечно будет благословлять Бога за то, что у него такая дружная семья.
Небо тем временем потемнело, сгустились тучи, погода начала стремительно портиться.
Пилот медленно, с трудом, набрал высоту,
не зная, когда наступит момент,
когда воздушное судно не сможет продолжать полет.
Британцы называют самолеты машинами —
эта идиома, по мнению брата,
была очень странной
в приложении к «Летающей крепости».
Но с каждым вздрагиванием крыльев, с каждым перебоем в работе двигателя он все больше и больше убеждался в точности такого обозначения.
Сейчас я точно не знаю, когда и как это случилось, что Рональду было приказано покинуть самолет.
Небо к тому моменту сделалось совсем черным, началась буря,
вероятно, молния замкнула панель управления.
Теперь они летели вслепую, потому что стрелка компаса
вращалась как сумасшедшая в разные стороны. Вихревые потоки подхватили самолет, началась болтанка, и, кажется, он рассказывал, что загорелся правый дальний мотор.
В свете пламени он увидел, как крыло начало отваливаться.
Пилот приказал всем оставшимся в живых прыгать, самолет раскачивался, подпрыгивал и трещал.
Рональд, спотыкаясь, пошел в хвост и нашел парашют, люк был открыт, дождь хлестал в лица живых, прыгавших в бурю впереди него.
Рональд оглянулся и, увидев, как пилот, привстав с кресла, послал машину вверх,
бросился головой вниз в яростно гремящую тьму.
Бармен, еще пива для жаждущих братьев и сестер, у них, как и у меня, пересохло во рту.
Иммунитет к громогласному мифотворчеству есть тоже мифотворчество, не правда ли?
История, изложенная на бумаге,
похожа на отпечатанный лабиринт,
через который должна пройти наша жизнь,
рассказанная история
заклинает наши тусклые способности
ожить в телах, которые не принадлежат нам.
Надо, чтобы вся планета обрела голос, и тогда вся цельность самых сокровенных повестей человеческих зазвучала бы гимном просветления, если бы это было возможно.
Но как бы то ни было, перед нами молодой летчик,
двадцати двух лет, летящий к земле в узде парашюта,
руки его вывернуты, еще немного —
и он вывихнет себе плечи,
так швыряет его в воздушные ямы
и возносит в потоках вихрей
темных до черноты туч.
Он летит сквозь них,
освещаемый безмолвными вспышками молний, за которыми следует черный злобный гром.
Он не слышит, как падает, ударившись о землю, его самолет.
В этом ревущем гулком море прорезаемой молниями тьмы, более темной, чем любой мрак, который ему случалось видеть,
в предчувствии встречи с набитым костями континентом,
который, вздыбившись,
приближается с каждой секундой,
он не может ничего вспомнить о мисс Мандерли:
ни ее слов, ни ее крика, ни ее тела,
ни ее форм, ни роста, ни улыбки, ни прикосновения,
но лишь бесполую душу, смотрящую
из ее затуманенных любовью глаз,
стершую из его памяти их цвет, и он кричит в небо:
Прощай, мисс Мандерли, прощай!
Он попрощался с жизнью, искренне решив, что настал его конец.
Но парашютист, который не упал ни в воду,
ни на сушу, попадает в царство мифического пророчества,
когда происходит невозможное,
и лес Дунсинана начинает валиться без ветра,
вздыматься корнями вверх
и движется порешить тупого ублюдка Макбета.
Сначала брат думал, что упал на какие-то морские раковины,
потому что в момент падения под его ботинками раздался характерный треск, но когда его тащило по кочкам до тех пор, пока он не погасил купол парашюта, он пересчитал задом массу каких-то вещей, которые показались ему материей и рукоятками каких-то инструментов.
Сначала он подумал, что это крестьяне-патриоты встречают незваного гостя с неба.
И только лишь когда он, с вывихнутой лодыжкой, остановился под развесистым деревом и в ушах его продолжал отдаваться деревянный стук удара, он понял, что в одной руке держит локтевую, а в другой – берцовую кость.
Он упал на поле битвы прошлой войны, вспаханное случайным попаданием бомбы войны нынешней.
Здесь была импровизированная могила старых костей и черепов, все еще одетых в каски – стильные французские и фаллические немецкие, и скелетов воинов поколения его отца Бена, наспех похороненных,
чтобы не мешать Великой войне идти своим чередом. Значит, можно надеяться, что он во Франции, но двигаться Рональд не смог —
сначала потому, что был оглушен, а потом из-за сильной боли, и всю ночь он пролежал на этом кладбище костей.
Там он понял, что кости, пролежав в земле определенный срок,
становятся пустыми и невесомыми
и шевелятся от ветра,
как полые стебли соломы или бамбука.
Они перекатываются, волнуются, как пшеничное поле, они слабо позвякивают, сталкиваясь друг с другом, они стучат, как колеса вагона,
вибрируют и слипаются, как карты, которые тасуют.
Они звенят, как колокольчики на ветру, и иногда издают, как филин, мягкий ухающий звук. Рональд вообразил себе шествие привидений, недоступных протестам, ярости и бормочущих что-то нечленораздельное.
Однако утром его нашел живой, во плоти, французский крестьянин.
Брата спрятали на ферме, накормили, вправили вывих и выходили.
За это время он собрал
несколько работающих приемников
для местного Сопротивления
и снискал пылкую любовь всей семьи —
этот отважный американский мальчик из Бронкса,
с падающими на лоб непослушными волосами,
который так любил пить теплое парное молоко прямо из ведра.
На прощанье они обняли его,
пожелали удачи, а потом его везли
несколько недель на подводах, в тележках,
грузовиках от одного надежного дома к другому
до самого побережья,








