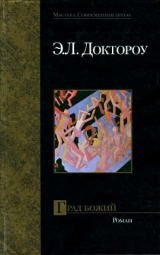
Текст книги "Град Божий"
Автор книги: Эдгар Лоуренс Доктороу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Он откашлялся и покраснел. Сара Блюменталь улыбнулась. Пустяк, он читает их почти все время.
Ну что ж, давайте думать вместе. Здесь мы столкнулись с двумя тайнами.
Почему с двумя?
Эта банда. Я не могу поверить в то, что они заранее хотели совершить антисемитскую выходку. У них не было такого намерения. Они не из такого теста. Тащить распятие из Нижнего Ист-Сайда в Верхний Вест-Сайд? Нет, мы слишком многого от них хотим.
Значит, был кто-то еще?
Обязательно должен быть. Кто-то забрал у них распятие, если, конечно, этот кто-то не нашел его на помойке. Вот этот второй – или вторые – уже имел ясно очерченное намерение. Но как его затащили на крышу? И никто их не видел, никто не слышал?
Слышала Анхелина. Вы, как мне кажется, познакомились с ней на третьем этаже. Однажды утром она услышала на крыше какой-то шум. Да, это было как раз тогда, когда я ездила к матери, сказала Сара, посмотрев на Джошуа и ожидая подтверждения своим словам. Но шум продолжался недолго, и Анхелина перестала думать о нем, решив, что это была ремонтная бригада. Мы полагаем, что они прошли с соседней крыши. Дома стоят вплотную друг к другу.
Вы не прошли по кварталу? Не зазвонили в колокола?
Джошуа отрицательно покачал головой.
А что говорят копы?
Муж и жена обменялись быстрыми взглядами. Я вас умоляю, произнес Джошуа. Конгрегация новая. Пока это просто учебная группа, мы в самом начале пути. Мы – молодой побег. И нам меньше всего нужна реклама такого рода. Кроме того, кто бы они ни были, они хотели именно этого.
Мы не хотим рядиться в тогу жертв, сказала Сара Блюменталь, глядя мне в глаза.
И вот теперь, Господи, я сижу в моем кабинете, на голых, разрушенных хорах, и мне очень жаль себя. В этот вечер мне не хватает общества Сары Блюменталь. Это не вожделение, и ты знаешь, Господи, что я не стал бы скрывать от тебя этого. Нет, сейчас я думаю о том, как быстро я привязался к ней, как мне было уютно, с каким неподдельным радушием меня приняли в этих трудных для меня обстоятельствах. В этих людях есть свежесть и честность, я имею в виду их обоих, они так прониклись участием, эта чудесная молодая пара, ведущая спокойную, посвященную делу жизнь. Какой у них прочный семейный союз и, о Боже, какой он счастливый раввин, коли имеет рядом такого преданного друга.
Очевидно, что инициативу сообщить мне о пропаже проявила именно Сара. Он как раз сидел в доме и мучительно думал, что предпринять, когда она пришла домой с какой-то конференции. Он рассказал ей о происшествии и о том, что лежит на их крыше, а она сказала, что это, видимо, и есть то самое пропавшее распятие, о котором она прочла в газете.
Я этого не читал и отнесся к словам жены скептически.
Ты думал, что это очень странно, когда новость сама падает тебе на колени, сказала Сара.
Это верно. Новости – это всегда то, что случается не с тобой. А как понять и осознать то, что тебе известно больше, чем какому-то репортеру? Но мы нашли заметку.
Он не разрешает мне ничего выбрасывать, сказала Сара.
В данный момент это оказалось большой удачей, ответил муж.
Мы живем как в Библиотеке Конгресса.
Итак, благодаря Саре мы имеем законного владельца.
Она посмотрела на меня и слегка покраснела. Она сняла очки и пальцами потерла нос. Я увидел ее глаза и успел рассмотреть их за то краткое мгновение до того, как она водрузила очки на прежнее место. Близорукие глаза, как у той девочки, в которую я влюбился в выпускном классе.
Я очень вам благодарен, говорю я своим новым друзьям. Кроме всего прочего, это настоящая мицва. Могу я воспользоваться вашим телефоном? Мне надо пригнать сюда фургон. Мы можем разобрать распятие, завернуть каждую часть и вынести из парадного подъезда, и никто не догадается, что именно мы выносим.
Я готов разделить расходы.
Спасибо, это совершенно лишнее. Мне не следует этого говорить, но в последнее время моя жизнь превратилась в сущий ад. У вас отличный кофе, но, может быть, найдется и какая-нибудь выпивка?
Сара подходит к стенному шкафу. Виски подойдет?
Джошуа, вздохнув, откидывается на спинку кресла. Мне приходится пить в одиночестве.
Представьте мое положение: распятие разобрано и словно строительный материал лежит за алтарем. До воскресного богослужения я не успею смонтировать и повесить его на место. Прекрасно, я прочту проповедь и без него. На апсиде, на месте, где оно висело, остался довольно четкий отпечаток. Мы вознесем молитвы Богу во имя его единосущного Сына Иисуса Христа. Неплохо, Пэм, ты еще можешь доставать голубей из шляпы, если захочешь.
Я почти убедил себя в том, что имею дело с какой-то новой сектой. Я думал: хорошо, я стану сторожить, глядя на храм с противоположной стороны улицы, и смотреть, как они будут разбирать Святого Тима по кирпичику. Может, я помогу им. Его восстановят где-нибудь в другом месте как народную церковь. Как выражение веры. Я буду иногда заходить туда, слушать проповеди. Может быть, чему-нибудь научусь…
Есть еще одна идея, совершенно паранойяльная: все закончится установкой креста в Сохо. Мне остается подождать несколько месяцев, может быть, год, а потом я посмотрю с улицы в окна галереи и увижу его там, установленный и украшенный должным образом подобранными высказываниями. Такова светская версия. А я-то думал, что предусмотрел все возможности. Что я хочу сделать из этой ночной культуры вороватых идиотов… этих безмозглых похитителей бесценного, которые, гогоча, шляются по улицам, неся – что? что бы то ни было! – по водянистым волнам городского нигилизма… в тусклых проблесках их сознания брезжит что-то, имевшее некогда значение, которое они, смеясь, не могут вспомнить. Иисусе, это даже не святотатство. Собака, крадущая кость, лучше их знает, зачем крадет.
* * *
Мойра, женщина, переступившая грань между классами, превращается в рассказ. Он немного сноб, не правда ли? Мне не очень нравится, что по вечерам он часто ходит в Метрополитен. Он был шокирован, когда она пощекотала язычком его ухо. Его возмутила отнюдь не вульгарность, а само действие человека, которого ты представлял себе совершенно иным.
Единственный способ справиться с таким положением – это перевернуть моральную природу и снабдить ее мотором. Но тогда вся история превращается в кино.
Кино: Парень начинает любовную интрижку с элегантной трофейной женой делового руководителя – все трое в кипящем котле нью-йоркского общества, состоящего, как известно, из издателей, художников всякого рода, рекламных магнатов, журналистов и дельцов с Уолл-стрит.
После некоторого поощрения она превращается в пылкую любовницу, не знающую ни моральных ограничений, ни чувства вины, ни морального самоосуждения. Он не может изобрести ничего такого, чему бы она воспротивилась. Он изобретателен. Она приветствует любое его извращение, не сердится и не злится. Ничто не вызывает ее недовольства.
Исходя из условий, которые он диктует, она учится не требовать от их отношений больше, чем он сам готов ей дать. Он завоевывает над ней неограниченную власть. Он единолично решает, когда они встретятся, как они проведут время, какую новую позу он заставит принять ее, охваченную жаркой лихорадкой самоунижения. Ей же достаточно того, что она встречается с ним, прощает их обоих и возвращается домой до следующего раза.
Но ее полное подчинение его воле и стабильность романа начинает надоедать любовнику. Он распространяет свой контроль на ее отношения с мужем: когда она должна иметь с ним секс, а когда воздерживаться от секса, какую одежду она должна носить, какими духами пользоваться, какие обеды она должна заказывать своему повару, какие рестораны она должна посещать с мужем, куда она должна с ним ездить и на каких простынях спать в супружеской постели. И так далее, вплоть до количества супа в супнице. Возможность пользоваться любовницей как пультом дистанционного управления личной жизнью мужа, оживляет его.
Сейчас я вижу, что он – полное дерьмо. Почему я должен иметь с ним что-то общее? Однажды, по его указанию, муж оказывается с женой на Мауи, и пока он – муж – загорает на частном пляже, любовник в его номере стаскивает с жены купальник, выковыривает из ее паха мелкие песчинки и кончиками пальцев вдавливает их в самые нежные части ее тела. Она задыхается, она впала в зависимость от опасности, которую представляет собой ее любовник, от угрозы ее благополучию, самоуважению, самой жизни.
Такой негодяй, как этот парень, должен быть настоящей звездой. Я хочу сказать, что если на месте любовника окажется жирный лысый тип, страдающий одышкой, то публика вспыхнет от негодования и потребует назад свои деньги. Итак, он худощав, тренирован, заботится о себе, как заботятся все люди, лишенные искренней веры. Он бегает по утрам, работает с почти религиозной страстностью только для того, чтобы поддерживать себя в надлежащей форме, именно это является его жизненной обязанностью. Он мало пьет, не допускает излишеств, единственное исключение – интриги, в которых он большой мастер. Он не делает ни малейших усилий, чтобы завоевать благосклонность других, не снисходит до праздных разговоров, предназначенных только для того, чтобы показать, что он никому не угрожает. Он никогда не повышает голоса. Когда он забавляется – он высокомерен, когда злится – становится тихо угрожающим. Его эгоизм настолько равномерно проникает во все аспекты его жизни, что почти незаметен и кажется просто налетом снобизма, некой надменностью, которая при ближайшем рассмотрении оказывается видимой безжалостностью. Это привлекает женщин. Это привлекло и ее.
Теперь я понимаю его игры высшего класса, игры человека, ищущего компенсацию в вине, лошадях, яхтах и прочем; эти игры – наследие его прежней профессии. Раньше он занимался планированием тайных операций ЦРУ, занимая посты в заграничных резидентурах. Как он мог стать иным? Он выказывает снисходительность человека, находившегося за кулисами геополитических событий холодной войны по отношению к обычным людям, черпавшим сведения из газет.
Он такой же представитель среднего класса, как и она, родился на севере штата Нью-Йорк, хотя, возможно, я не прав, поскольку вся его подготовка располагает к тому, чтобы ничего не помнить ни о своем происхождении, ни о месте рождения, не привязываться ни к месту проживания, ни к семье. Точнее было бы сказать, что его нигилистический дар, а возможно, недостаток кинематографического времени, ограниченного двумя часами, стер любую вторичную компенсацию характера, которая определяется религиозными или этическими качествами.
Теперь он настолько сильно опутал свою любовницу, что получил доступ к частным телефонным разговорам мужа с ней, он научился распознавать его слабость, понимать по интонациям голоса, испытывает ли он страх или вину, чувствует вожделение или любовь. Муж под всей своей броней очень мягок, в самые тяжкие моменты жизни ему нужна мама, он желает, чтобы его жена высказывала по отношению к нему только похвалы и восхищение. Живя с ним, она чувствовала себя узницей. Драма жизни мужа напоминает дубину. Жена понимает, что его горделивое внимание к ней, которое он показывает на публике, это род самоудовлетворения, точно так же, как он никогда никуда не выходил и не принимал никаких приглашений, которые не сулили ему почестей или не подтверждали его высокий статус.
Она сама не осознает, почему ее сумел пленить любовник с черной душой; но в действительности она реагирует на то же, на что реагировала, когда ее руководящий муж ухаживал за ней; в обоих случаях она хотела подняться на волне, способной вознести ее к высотам немыслимой свободы, к такой свободе, которую она не могла даже полностью себе представить. Но в конце концов она стала такой же игрушкой в руках любовника, какой была в руках мужа, ее свобода обернулась подчинением; вот идея свободы, желание достичь которой оплачивается только ценой крушения.
Итак, в этих трех ролях мы видим три жизни, которые в разной степени оторваны от реальности, каковой факт и делает их достаточно живыми. Любовник со своей стороны предвидит грандиозный финал этого опасного предприятия, настолько опасного, что его прошлая жизнь кажется ему скучной, отчужденной и лишенной каких бы то ни было конфликтов, и такой финал может служить искуплением, представленным в виде своеобразной художественной формы.
* * *
Моя лаборатория здесь, в голове, под сводом моего черепа. Уверяю вас, она весьма скудно обставлена. Действительно, по сути своей моя работа свелась к освобождению от лишнего оборудования. Я выбросил мензурки, весы, вытяжные шкафы, устаревшие книги. Когда я в какой-то степени преуспел в своем начинании, в лаборатории остались некоторые вещи, с которыми я при всем желании, кажется, никогда не смогу расстаться: с идеей о том, что наша вселенная построена по заранее подготовленному плану, что существует несколько простых правил или законов – физических законов, из которых можно вывести все многообразные процессы, происходящие в живой и неживой природе. Так что, как видите, меня вряд ли можно назвать подрывающим устои революционером, каковым меня пытались представить нацисты Гитлера.
Естественно, та вселенная, которую мы все знаем с детства, едва ли может быть объяснена положениями великого, почитаемого сэра Исаака Ньютона. Вселенная со всеми звездами в небесах, планетами, обращающимися по своим орбитам, ночью, следующей за днем, действиями и противодействиями, телами, падающими вниз по закону всемирного тяготения, прекрасная вселенная, все это хорошо звучит, но не для ума, подобного моему, ни в коем случае не хочу сказать, что он – единственный. Дело в том, что механическая модель уважаемого мною сэра Исаака покоится на одном или двух допущениях, которые не могут быть доказаны. Идея абсолютного движения и абсолютного покоя, например, идея, заключающаяся в том, что нечто может двигаться в абсолютном смысле, безотносительно чего-то другого. Ясно, что это невозможно, такая концепция не может быть доказана эмпирически, то есть в соотнесении с опытом. Корабль, плывущий по морю, движется относительно суши. Или, если угодно, относительно другого корабля, движущегося с большей или меньшей скоростью. Или относительно дирижабля над головой. Или относительно кита в глубине моря. Или относительно морского течения. Движение всегда совершается по отношению к чему-то. И это верно также и для всей планеты. Нельзя доказать, что какое-то тело во вселенной движется абсолютно, безотносительно чего-то иного, или, что по сути то же самое, безотносительно вселенной во всей ее целостности.
Теперь я перейду к очень простому требованию, на котором покоятся мои дальнейшие рассуждения. Такое абсолютное движение и абсолютный покой являются ложными концепциями, которые не могут быть доказаны. Но вы уже поняли, что мое упрямое требование заключается в том, что мы можем рассматривать предметы постольку, поскольку они могут быть доказаны. Сейчас я вам все покажу, это очень просто. Мы проделаем маленький мысленный эксперимент…
Допустим, что я лечу сквозь пространство в ракете со скоростью миллионы миль в час… и вы догоняете меня в своей ракете, замедляете работу двигателей и начинаете лететь с такой же скоростью, что и я. Мы летим рядом, борт к борту… На каждом из наших кораблей находится по одному спящему человеку. Они просыпаются, когда наши ракеты летят рядом с одной и той же скоростью. Проснувшиеся открывают глаза и смотрят в окна соседнего корабля… при этом они не видят метеоритов и кусочков звездной материи, которые проносятся мимо… они видят только каюты соседнего корабля. Эти люди будут не в состоянии сказать, движутся ли космические корабли с одинаковой скоростью или просто стоят на месте. В обоих случаях опыт будет говорить одно и то же.
Видите, как все просто? Я вообще простой человек и начну с вопроса, который задаст вам даже ребенок. Например, я был ребенком, когда впервые заинтересовался тем, что будет, если я полечу со скоростью света. Ничто во вселенной не может двигаться быстрее света. Вы понимаете, что это значит? Это означает, что в нашей вселенной невозможны мгновенные процессы, потому что ничто не может превзойти по скорости свет, а ему тоже требуется время для перемещения из одной точки в другую. Это означает также, что никто не может одновременно присутствовать в двух местах одновременно. Например, невозможно существование призраков, которых обожает столь много людей, поскольку существование привидений означает, что есть некто, кто может внезапно появляться и исчезать, словно ему не требуется времени на перемещения. Итак, главное, что я понял, задав себе этот вопрос, было то, что если я полечу со скоростью света, держа перед собой зеркало, то я не смогу увидеть в нем свое отражение, поскольку отображение моего лица приближается к зеркалу со скоростью света и точно с такой же скоростью зеркало удаляется от лица. Таким образом, я ничего не увижу в зеркале, которое буду держать перед своим лицом. Однако в этом есть какая-то неправильность. Кажется, здесь что-то не так. Вы чувствуете, что так не может быть, не правда ли? Это весьма пугающая идея; действительно, если я двигаюсь со скоростью света, то не могу получить подтверждения моего существование из такого объективного источника, как зеркало, отражающее свет. Я стал бы призраком вселенной, материальное существование которого нельзя было бы верифицировать в потоке времени.
Итак, из этого простого мысленного эксперимента я вывел следующее: ни один предмет, ни зеркало, ни человек, даже более тонкий человек, чем я, такой, который не позволяет себе излишеств в виде тортов, чая с малиновым вареньем или бутербродов с маслом, даже наитончайшая личность из всех живущих под солнцем, не может двигаться в пространстве вселенной со скоростью света. Не может, потому что мы всегда можем видеть себя в наших зеркалах и непосредственно лицезреть друг друга; мы обязаны двигаться медленнее, хотя сам свет движется от поверхности наших обожаемых лиц и от зеркал с одной и той же постоянной предельной скоростью. Но мы – медленнее. Даже в самых быстрых ракетных кораблях. Вы понимаете, что произойдет, если мы начнем двигаться, ускоряясь до субсветовых скоростей, скажем, от нуля миль в час до ста восьмидесяти трех миллионов миль в секунду? Вы знаете, что с нами произойдет? Боже мой, мы нальемся свинцом, становясь все тяжелее и тяжелее по мере возрастания скорости, до тех пор, пока наша огромная масса, или плотность, не станут настолько гигантскими, что пространство, окружающее нас, начнет сворачиваться и искривляться вокруг; мы будем всасывать его в себя, сжимая до такой немыслимой плотности, что чем быстрее мы будем двигаться, тем меньше будет у нас шансов достичь световой скорости, потому что со скоростью станет увеличиваться масса, а чем больше масса, тем больше сопротивление движению. Так продолжится до тех пор, пока божественные небеса, искривленные небывалой массой, не изуродуют себя и нас до полной неузнаваемости.
Основываясь на этих простых, может быть, даже идиотских мыслях, я открыл законы, физические законы, которые встревожили людей до такой степени, что они решили, что человека с улицы невозможно заставить понять, о чем я говорю, оценить ту революцию, которую я, по их мнению, совершил. Что я в своем роде гений, которого надо уважать или даже чтить, а вы чешете голову и говорите: Господи, помилуй его. Посмотрите, какой он смешной, его волосы торчат в разные стороны, это оттого, наверное, что он пытался со своими зеркалами летать со скоростью света. Посмотрите на его свитер и неглаженые брюки, ведь дело не в том, что это удобно для работы, дело в том, что его нежелание носить пиджак и галстук неопровержимо свидетельствует о том: он – гений. Мел, которым он пишет на доске свои формулы, даже мел ломается в его руках! Таким способом газеты и радио отвлекли вас от мысли о том, что я в действительности хотел сказать. Это оскорбляет не только меня, но и вас, потому что человеческий ум всегда находит истину, потому что, как бы ее ни прятали, она все равно со временем обнаружится. Нет ничего революционного в том, что я открыл, потому что я ищу только то, что есть сейчас и, как я понимаю, будет всегда. Просто наше восприятие стало более… восприимчивым.
Итак: в конечном итоге мы можем с уверенностью сказать о вселенной Одного Старика лишь следующее: нет ничего постоянного, кроме скорости света.
О пространстве мы можем сказать с уверенностью лишь то, что его можно измерить линейкой.
Время – это нечто, что можно измерить с помощью часов, и это все, что мы можем сказать о нем.
И прошу вас, не возлагайте на меня ответственность за теологические прозрения, крики, визг и ужас, которые мое открытие породило в наших умах.
* * *
Нет научных песен, о которых можно было бы поговорить. Ни одна песня не скажет вам, что сила тяготения есть произведение масс двух тел, деленное на расстояние между ними. Однако наука может сказать нам кое-что о песнях: научные формулы описывают законы, которыми оперирует вселенная, в уравнениях предполагается, что равновесие возможно, хотя реальные предметы могут находиться в очевидном дисбалансе. То же самое делает песня. Песни – это компенсация, возмещение. Когда певец спрашивает: зачем ты так поступила со мной, зачем ты разбила мне сердце?.. то формула подразумевает, что степень предательства эквивалентна красноречию крика боли. Чувства претерпевают превращения столь же быстро и прихотливо, как субатомные частицы, и когда достигается критическая масса, песня вырывается в мир, хотя общее количество чистой энергии остается постоянным. Если песня хороша, то мы воспринимаем ее как выражение истины. Как и формулу, ее можно приложить к каждому, а не только к певцу.
* * *
Необычная картина на пристани. Большая голубая цапля внимательно смотрит вдаль, стоя почти спиной к спине со снежно-белой эгреткой, глядящей в противоположном направлении. Ради такого зрелища каждый должен время от времени выезжать из города.
Мне интересно, как они уживаются рядом, имея, по всей видимости, одинаковые источники пищи. Но факт налицо. Вот они стоят рядом, не обращая внимания друг на друга. Я не смотрю, но знаю, что ты здесь.Эгретка, вытягивая шею, первая срывается с места, похожий на штык желтый клюв выставлен вперед. Как великолепна в полете эта птица, обтекаемая, как гидроплан, но с беспощадными глазами… голубая цапля выглядит взъерошенной со своими круглыми черными пятнами на плечах, перистым телом, скорее серым, чем голубым, длинными ногами и черным клювом. Она не столь миловидна, как эгретка, но голубая цапля, раскрывшая в громадном размахе свои крылья и скользящая над самой поверхностью воды, становится похожей своими очертаниями на мощный авиалайнер. Во взгляде этой птицы угадывается печаль, это самец, одинокий холостяк, который, как я, иногда привлекает внимание женщин, и это поднимает время от времени его дух.
* * *
Кража
Звонок рабби Джошуа:
Если уж мы собрались быть детективами… то начнем с того, что нам известно, разве это не то, чем занялись вы? Как я понимаю, начать надо с того, что ни один еврей не украл бы ваше распятие. Ему бы это просто не пришло в голову… даже в состоянии тяжелого наркотического опьянения.
Я так не думаю, ответил я, поразмыслив. Почему Джошуа исключает такой вариант?
В полиции мне сказали, что ваш крест на улице ничего не стоит. Но если кто-то захотел его иметь, то, значит, он все-таки обладает какой-то ценностью.
Например, для яростного, ждущего своего часа антисемита.
Да, это вполне вероятно. Здесь живут очень разные люди, представители самых разных субкультур. Есть люди, которым очень не нравится соседство синагоги. Меня не ставили об этом в известность, но я понимаю, что это возможно.
Правильно.
Но возможно также… что положили ваш крест на мою крышу, да, это вполне могли сделать ультраортодоксы, фанатики. Это тоже возможно.
Господи!
Я не утверждаю, что это так. Я просто пытаюсь проанализировать все возможности. Есть люди, для которых то, что мы с Сарой делаем – попытки переосмысления, переоценки наших традиций, – не что иное, как отступничество.
Это не пойдет, говорю я, то есть я имею в виду, что это маловероятно. Зачем им это надо?
Вы помните, я говорил о человеке, сообщившем, что у меня горит крыша? Так вот, такая шутка в еврейском духе. Конечно, я не могу утверждать это наверняка, может быть, я ошибаюсь. Скажите мне, отец…
Том.
Том. Вы старше, вы больше видели, вероятно, вы больше размышляли об этом. Куда ни посмотри, сейчас Бог стал принадлежать людям, страдающим атавизмом. Они столь яростны, эти люди, они так уверены в себе и в том, что Бог принадлежит только и исключительно им, словно все человеческое знание, накопленное после Писания, не есть такое же откровение Божье! Я хочу спросить, не является ли время петлей? Нет ли у вас такого же ощущения, что и у меня – что все возвращается назад? Что цивилизация движется вспять?
* * *
О мой дорогой рабби. Джошуа. Что я могу сказать вам? Если это верно и Бог действительно принадлежит людям, страдающим атавизмом, значит, такова вера и таково действие веры. А мы изгнаны – вы и я.
Понедельник
Парадная дверь на замке. В пасторской кухне, откинувшись на спинку стула, балансирующего на двух ножках, и читая журнал «Пипл», сидит классически праздный, недавно нанятый частный охранник.
Успокаивает меня также вид женщины из клуба «Экстатических распутниц». Она здесь, как всегда, шагает по движущейся дорожке с головными телефонами на ушах; ее большие ягодицы, обтянутые черным трико, ритмично поднимаются вверх и тяжело, как сизифовы камни, падают вниз. Когда сгустятся вечерние тени, ее фигура распадется на части в преломленном зелено-лавандовом свете церковного витража.
Все как должно быть. Мир на своем месте. Тикают стенные часы. Мне не о чем беспокоиться, кроме того, что я скажу экзаменаторам епископа, которые скоро определят ход моей дальнейшей жизни.
Вот что я скажу для начала: «Мои дорогие коллеги, то, что вы хотите сегодня исследовать, не есть духовный кризис. Давайте сразу объяснимся. Я не сломлен, не расколот, не выжжен и не опустошен. Верно, что моя личная жизнь разрушена, моя церковь выглядит как разбомбленный дом, и все же я не ищу психоаналитика и не стремлюсь записаться в группу взаимной поддержки, хотя Бог, как и всегда, не обращает ни малейшего внимания на мои к нему обращения (не прими это за оскорбление, Господи), и поэтому я чувствую себя одиноким. Я признаю даже, что последние пару лет, а лучше сказать, несколько лет я не нахожу более подходящего средства справляться со своим хроническим отчаянием, чем прогулки по Манхэттену. Тем не менее мысли, которыми я хочу с вами поделиться, имеют под собой некоторое реальное основание, и хотя вы, может быть, найдете некоторые из них тревожными, я все же молю – предлагаю, рекомендую, советую – да, я советую вам судить о них по их достоинствам, а не по внешним проявлениям, которые могут показаться вам свидетельством психологического упадка ума, к которому вы некогда относились с пониманием, – я хочу сказать, ума, который вы когда-то в некоторой степени уважали».
Это подойдет, не правда ли, Господи? Таким образом донести до них то, что я хочу сказать? Может быть, это даже немного трогательно. В конце концов, что может быть у них на уме? В порядке убывания: первое: предупреждение; второе: формальное порицание; третье: цензура; четвертое: месяц лечебного отпуска с последующим блестящим назначением в такой отдаленный приход, откуда меня уже никто и никогда не услышит; пятое: принудительная отставка со всеми почестями; шестое: понижение; седьмое: лишение сана. Черт возьми!
Кстати, Господи, что это за «имеющие реальные основания мысли»? Эта фраза сорвалась у меня с языка совершенно случайно. Так что помоги мне немного. При моем сегодняшнем ослаблении внимания мне не нужно оценки девяносто пять. Я могу обойтись двойкой или тройкой. Главное заключается в том, что они встревожатся, независимо от того, что именно я скажу. Нет ничего более потрясающего в Церкви, чем ее доктрины. Именно поэтому они и охраняют их, не щадя живота своего, так ведь? То есть они, не задумываясь, выкинут на стол карточку со словом «ересь». Предполагается, что это должно потрясти Тебя, но вряд ли еретик заслуживает Твоего внимания больше, чем бедолага, которого выселяют из кооперативного дома за то, что он упрямо играет на фортепьяно после десяти часов вечера. Итак, я молю Тебя, Господи, пусть я заслужу лишь порицание. Пусть я хорошо сдам экзамен. Скажи мне что-нибудь. Пошли мне весточку по E-mail.
Однажды слышали, как Ты говорил,
Ты сам есть слово, хотя некоторые
думают, что Ты невыразим устами,
Говорят, что Ты – Слово, и я не сомневаюсь, что
Ты – Последнее Слово.
Ты – наш Господь, Сказитель, сотворивший текст из ничто, во всяком случае, так гласит наша история о Тебе.
Вот твой слуга, преподобный доктор Томас Пембертон, который уже почти и не пастор епископальной церкви Святого Тимофея, обращается к тебе в одном из твоих изобретений, в твоей интонационной системе щелчков и хрипов, гортанных толчков и певучих трелей.
Оставишь ли Ты его своими милостями, эту бедную душу, измученную ностальгией по твоему единственному Единородному Сыну? Этот Пембертон не смог стать детективом и не смог разрешить простейшую головоломку.
Может ли он следовать за Тобой? Богом? Таинством?
* * *
Для того чтобы еще больше уверить вас в том, что я не гений, чьи идеи слишком трудны для того, чтобы их поняла большая часть человечества, позвольте мне поделиться с вами моим личным. Вы увидите, сколь ординарным было начало моей жизни и как я, подобно всем другим, жил бок о бок со страшной историей моего времени. Я очень долго молчал и заговорил только на четвертом или пятом году жизни, язык не повиновался мне, даже когда мне исполнилось девять лет, я все еще говорил очень медленно, словно изъяснялся на чужом наречии, что, как выяснилось впоследствии, было истинной правдой. Хотя по сути все языки мира – это перевод какого-то иного содержания, и я прожил в этом ином содержании семьдесят три года.
Первое мое зрительное воспоминание – мостовая Ульма, по камням которой я ползал, будучи младенцем, при этом я помню, как повисал, едва не выворачивая запястье, пытаясь вырваться из крепко державшей меня папиной руки. Каждый круглый камень, о который я спотыкался, возвращал удар всей своей неотвратимой массой. Я недоумевал, каким образом можно было так аккуратно уложить столь тяжелые камни, ровно, как ряды хлебов в печи булочника? Потом я обнаружил на камнях следы резцов, которыми рабочие изменяли форму камней, делая их похожими друг на друга. Каждый камень имел свою историю, на нем запечатлелась летопись человеческого труда, все камни являли собой бесконечность разнообразных решений, подчиненных одному плану: сделать улицу проходимой. И они добились своего, улица взбиралась вверх по склону холма, разбегаясь бесчисленными лучами от площади с собором, который тоже был сложен из камня. Весь мир был сложен из камня. Телеги и кареты прокатывались мимо меня хотя и с устрашающим громоподобным грохотом, но не причиняя мне никакого вреда, в мое поле зрения попадали сапоги, шелестели дамские юбки, все трудолюбие города зиждилось на этих камнях, которые давным-давно были аккуратно уложены в ровные плотные ряды. В тени большого черного кафедрального собора я испытал чувство ребенка, которому явилось откровение, что он ходит по мыслям давно умерших людей. Так мостовая моей средневековой родины Ульма – не материнская грудь, не до боли любимые игрушки – стала моим первым воспоминанием – дорога, улица, которую я исходил вдоль и поперек.








