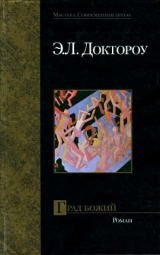
Текст книги "Град Божий"
Автор книги: Эдгар Лоуренс Доктороу
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
Бенно отмахнулся, стряхнул с себя руки Барбанеля и дал знак своим товарищам. Они передали свое сообщение. Пора было уходить.
Молодая женщина обратилась к Барбанелю: Вы можете думать что угодно по поводу нашего предложения, но ваш моральный долг довести его до всех людей, вы обязаны сказать им, что мы можем вывести их отсюда. Вы не имеете никакого права решать за других, даже за этого мальчика, который находится здесь. В нашем отряде есть дети, которые уже умеют стрелять. Люди должны сами выбирать свою судьбу. Но если вы понимаете свой авторитет как привилегию решать за других, то вы такие же негодяи, как нацисты.
О Сара, я помню эти слова так живо, словно они были произнесены вчера. Они открыли люк. Рослый партизан, который за всю встречу не сказал ни слова, и женщина спустились первыми. Прежде чем последовать за ними, Бенно взял доктора Кенига под руку и, отведя его в сторону, что-то сказал, наверное, пароль для дальнейшей связи. Прежде чем уйти, Бенно обратился к раввину Померанцу: Ваши молитвы, надеюсь, уже сотворили много добра, так, может быть, вы задержитесь и попросите Господа Бога спасти ваших людей.
Партизан ушел, крышку люка положили на место. Раввин встал, поправил на голове шляпу, тоже собравшись покинуть чердак. Я молюсь Богу, да будет благословенно Имя Его, не для этого, сказал он, ни к кому в отдельности не обращаясь. Я молюсь для того, чтобы Он не перестал существовать.
Конечно, когда совет собрался на заседание в полном составе, было решено, что у нас нет иного выбора, кроме как оповестить людей о возможности покинуть гетто. Новость эту, естественно, придется распространять с соблюдением всех возможных предосторожностей, не только потому, что существовала опасность со стороны немцев, но и со стороны шпионов, которых немцы внедрили в гетто под видом евреев. Кроме шпионов, были и просто предатели, которыми, например, стали многие полицейские гетто. Так что задачу надо было выполнить как можно тщательнее, шаг за шагом, начав с людей, которые были лично известны членам совета. Это было так характерно для них. Возможно, не соблюдай мы так старательно конспирацию, нам удалось бы спасти гораздо больше людей. Но я беспрекословно принял новое задание; звездный гонец в военной фуражке тайно оповещал отобранных людей о часе, когда им надлежало явиться в совет. Итак, подземная железная дорога, если можно так выразиться, была проложена и довольно долго исправно работала. Партизаны на удивление легко проникали в город. Как сказал тот парень, Бенно, они действительно хорошо знали, что делали. Вывод людей из гетто выполнялся поразительно эффективно. Я не знаю, как именно это делалось, какими силами и средствами, возможно, правила каждый день менялись, это мне неизвестно. Думаю, что до наступления развязки партизаны успели эвакуировать из гетто человек двести пятьдесят.
Совет отдавал предпочтение там, кто мог перенести трудности жизни в лесу. Когда люди уходили, их документы передавали другим, не имевшим документов, лицам того же пола и возраста. Таким образом совет хотел скрыть от немцев, что население гетто уменьшается.
Однажды ночью Барбанель собрал на чердаке совета, в нашей спальне, всех гонцов. Ни я, и никто другой, не может сказать, что вам делать дальше – уходить или оставаться. Мы не знаем, что лучше, а что хуже. Могу сказать только одно: решайте сами. Хотя вы еще дети, обстоятельства сделали вас взрослыми, поэтому вам придется взять на себя ответственность и самим решить свою судьбу.
Вышло так, что из шести мальчиков только двое решили уйти в лес к партизанам. Должен признать, что они сделали правильный выбор. Что касается меня, то при всем моем опыте тайных вылазок в город мне ни разу не приходила в голову мысль не возвращаться в гетто. Вероятно, я мог бы спрятаться; может быть, с помощью ксендза удалось бы найти семью, которая уберегла бы меня от судьбы еврейского ребенка. Я никогда даже не обдумывал это. Сознавал я и то, что доктор Кениг, по понятным причинам, не сможет покинуть гетто. То же касалось и Барбанеля. Совет должен остаться здесь и управлять делами гетто. И поскольку все эти люди не могли уйти, не могла сделать этого и Грета Марголина. Она не оставит Барбанеля, не говоря уже о детях. Настоящих маленьких детях, которых нельзя было держать в партизанском отряде. И я, при всем моем желании научиться стрелять из ружья, убивать немцев, стать похожим на героев партизан, я не смог преодолеть мягкость своего характера, унаследованную от матери и так похожую на нежность медсестры Марголиной, не мог я предать и ускользавшую память моего мертвого отца, который своим жизнелюбием так напоминал мне Иосифа Барбанеля.
Таково было мое решение. Каждый следующий день был все более и более напряженным, немцы проявляли нервозность и страх, и чем ближе был фронт, тем опаснее они становились. Однажды ночью, лежа на своем топчане, я услышал какой-то звук, похожий на раскаты грома. Выглянув в окно, я увидел на горизонте вспышки, на мгновение заставлявшие бледнеть усеянное звездами черное небо. Утром Барбанель сказал, что это артиллерийская канонада и что фронт находится от нас на расстоянии шестидесяти – семидесяти километров.
К этому времени рабочие команды были распущены, перестали дымить трубы военных заводов и немцы расставили часовых по всему периметру гетто. Партизаны были вынуждены прекратить вывод людей.
Конечно, в сложившейся ситуации не могло быть и речи о моих вылазках в город через старый акведук. Однажды, когда я был уже готов к выходу в город, мы с Барбанелем подошли к мельнице и услышали с наружной стороны акведука голоса немецких солдат. «Вот так», – сказал Барбанель и снова замаскировал лаз.
Все мы понимали, что приближается что-то страшное, и вскоре час пробил. В гетто въехали грузовики, набитые немецкими солдатами. Я со всех ног бросился в совет предупредить об опасности. Это была моя последняя миссия. Впрочем, как бы быстро я ни бежал, в этом не было уже никакого смысла. Новость распространилась из громкоговорителей, повторенная тем страшным канцелярским языком, каким в совершенстве владели нацисты. Нам дали пятнадцать минут на то, чтобы собрать пожитки. Солдаты бежали по улицам, врывались в дома и избивали прикладами слишком мешкавших, по их мнению, людей. Запылали первые дома. Все это делалось по распоряжению коменданта Шмица. Я мало что видел, но достаточно было того, что я слышал. Люди кричали, отовсюду доносились плач и стрельба. Всех нас согнали на площадь. Медсестра Марголина несла двух закутанных в пеленки младенцев. Люди жались к доктору Кенигу, умоляя его сделать хоть что-нибудь. Этот несчастный человек с развевающимися серебристыми волосами и высоко поднятой головой стоял на площади, такой же беспомощный, как и все остальные. Я долго не мог разыскать взглядом Барбанеля, но потом увидел, как он идет сквозь толпу, бережно поддерживая какого-то старика.
Нас выгнали из гетто, мы пересекли мост, и по улицам города нас повели к железнодорожному вокзалу. Гражданские литовцы смотрели на нас с тротуаров; некоторые смеялись, некоторые отпускали в наш адрес язвительные замечания. Некоторые же просто шли мимо, словно рядом с ними не происходило ничего особенного. В этой суматохе, то ли на улице, стараясь увернуться от приклада конвоира, то ли на станции, в депо, забираясь в товарный вагон, я потерял свою фуражку с военным околышем. Я не заметил этого до того момента, когда за нами захлопнули двери вагона и мы оказались в кромешной тьме. Я пришел в ярость оттого, что не могу поднять руку и посмотреть, на голове ли моя фуражка, хотя и знал, что ее там нет. Я видел, как некоторые из людей, которых я знал, забирались в тот же вагон, но не знал, здесь ли господин Барбанель, Грета Марголина и мальчики. Состав вздрогнул и тронулся. Люди кричали, пытаясь отыскать своих близких в этом непроглядном мраке, все хотели знать, что происходит, что означает весь этот ужас. Но я молчал, прекрасно понимая, что именно он означает. Мы стояли в качающемся вагоне длинного состава таких же вагонов, набитых живыми мертвецами. Так я перестал быть звездным гонцом.
* * *
Пэм нажимает кнопку домофона. В доме на Парк-авеню новый консьерж – вальяжный молодой испанец.
Когда-то это был мой дом. Десять комнат на верхнем этаже. Странно, но в них никогда не заглядывало солнце.
Привет, пупсик.
У меня мало времени, Пэм. Чего ты хочешь?
Хочу взять одежду.
Слава богу.
Не всю, только блейзер, галстуки и рубашки. Что поместится в сумку.
Я бы хотела, чтобы ты забрал все.
Итак, появился мсье, с которым ты собираешься ковать свою судьбу? Он действительно приезжает?
Это не твое дело.
Я говорю вполне искренне, Триш, он счастливый homme [8]8
человек (фр.).
[Закрыть].
И, конечно, тебе нужны деньги.
Если ты говоришь это от души, то да, дитя мое.
Она ленивым движением достает из шкатулки длинную дамскую сигарету. А она пополнела, Триш. Бедра отяжелели, хотя моя бывшая жена все еще очень элегантна. Придерживает за локоть руку с сигаретой. Голубой дымок струится к потолку на фоне фламандских роз.
Отец говорит, что ты не ответил на его письмо.
Пэм отвечает, идя в спальню: Я отвечу, Триш. В самом деле, отвечу.
Должно быть, между нами действительно была интимная близость, если я не могу ее вспомнить.
* * *
Что мы имеем в виду, говоря… даже если нам удастся ответить на все научные вопросы, мы ни на шаг не приблизимся к решению наших проблем? Мы имеем в виду вот что: если бы даже сам господин Эйнштейн успешно довел до конца все свои теории, если бы вся его блистательная физика триумфально прошла по миру и он не был бы обречен, как Моисей, умереть, не войдя в Землю Обетованную, то не остались бы мы, несмотря на это, там, откуда начали свой путь?
Но, bitte [9]9
Здесь: позвольте (нем.).
[Закрыть], в чем же заключается проблема? Как мы выяснили, она заключается не в природе вселенной, но… тогда в чем? В разуме, который познает самого себя? Самость, которая предполагает, что мир – это все, что есть, но исключает саму себя из этого предположения? Я или моя самость, которая может теоретически доказать существование всего, что есть в мире, за исключением того, кто и что есть она сама в качестве субъекта собственного мышления? Где можно отыскать эту самость? Где она расположена? Можно сказать лишь одно: она, как мы предполагаем, есть не что иное, как способность к речи, некая вычурная синтаксическая форма. Миром она называет грамматическое наблюдение за состоянием дел. Если самость прекратит конструировать предположения, если она перестанет картировать фактические отношения внешнего мира с помощью языка, то каким еще способом мы сможем понять, что мир существует? Однако в то же время не существует мира без различения индивидуального «я», не правда ли? Все мы, все множество самостей, являющихся не более чем фантомными предположениями языка, подчеркиваю, не более, но однако именно мы несем в себе весь опыт мира. Мне хотелось бы найти подходящий образ, может быть этот: зеркала гигантской комнаты смеха, из которой нет выхода? Высказывания отдаются нескончаемым эхом друг друга от стен бездонного резервуара? Нет, это недостаточное сравнение, оно слишком пространственное. Сознание пребывает не в пространстве, и когда оно мыслит самое себя, его глубина несоизмерима с любым числом объективных измерений, которые оно в состоянии постигнуть. Однако все, что существует, существует для нас в виде формул, созданных нашими содержащими мир самостями.
Итак, проблему можно сформулировать следующим образом: имеется солипсическое сознание, без которого мир не существует, однако само оно до самых своих границ заполнено этим миром и, следовательно, не может выйти за его пределы, чтобы наблюдать в нем себя самое. Этим парадоксом я предлагаю постулировать слияние реального мира, который существует независимо от моего восприятия, и мира, который может существовать исключительно в качестве восприятия моего разума. И поскольку я дарю и вам правила устройства этого солипсического царства всего сущего, постольку мы имеем парадокс в трех измерениях того, что можно назвать демократическим солипсизмом: каждый из нас является исключительным, единственным в своем роде правителем мира, зависящим от нашего понимания существования… но никто из нас не может быть различим иначе, чем как субъект сознания других.
По общему признанию, эта странная и, по-видимому, противоречивая идея принадлежит Витгенштейну, который собирался сорвать с философии весь ее бессмысленный метафизический нонсенс.
Правда, я знаю, что вы, американцы, одержимы идеей Бога. Но я своей лингвистической игрой хочу сказать вам нечто очень простое: возможно, самое поэтическое описание нашего измученного человеческого сознания, данного от мира, но не содержащегося в нем, можно отыскать в толковании термина первородный грех.
Как я утверждал в своем «Tractatus Logico-Philosophcus», обсуждая идею бессмертия человеческой души…
6.4312. Разрешается ли загадка тем фактом, что я живу вечно? Не является ли эта вечная жизнь столь же загадочной, как и наша актуальная жизнь? Решение загадки о пространстве и времени находится вне пространства и времени…
6.44. Тайной является не то, каким образом мир есть, а то, что он вообще есть…
6.52. Мы чувствуем, что даже если будут получены ответы на все научные вопросы, то проблема жизни останется вовсе не тронутой. Конечно, тогда не останется больше вопросов, и в этом-то и будет заключаться ответ.
В скобках прошу вас учесть, что эта работа была написана очень молодым человеком в окопах австрийской армии во время Первой мировой войны, когда я вызывался на самые опасные боевые задания, надеясь быть убитым. Страницы, на которых я писал, были покрыты грязью, а карандаш в моей руке дрожал. Огни осветительных ракет и вспышки снарядных разрывов позволяли мне видеть, что я писал. Под огнем я испытывал животный страх, но, дрожа от него, я определил мужество – и принял для себя такое определение – как убеждение, что истинное творение мира, душа, миром сотворенная, в конечном итоге не может быть разрушена никакими внешними обстоятельствами.
* * *
Биография автора
Маленький мальчик Эверетт появился на свет
в похожей на кирпич больнице
на пересечении Иден-авеню и Моррис-авеню в Бронксе,
районе Нью-Йорка,
в году 19…
Я был криклив и упрям – первая из многих неприятностей,
доставленных мною моей матери Рут,
решительной женщине и одаренной пианистке,
которая много раньше влюбилась
в мечтателя —
это был ее первый опыт близкого общения
с несносной породой мужчин,
с пылким курсантом военно-морского
училища на Гарлем-Ривер, а именно, с моим отцом Беном,
который однажды во время Первой войны перемахнул
через забор
и вломился в курсантскую столовую, где моя мать
разносила кофе и салаку
сидящим за столами салагам, и, рискуя быть побитым
в своей вызывающе белой
форме,
следил, чтобы никто не смел приставать к официантке.
Это был, конечно же, роман, сумбурный
и отчасти предопределенный —
отец и мать вместе учились в школе.
Как-то раз он увидел, как она
ест мороженое в обществе одного парня. Дело было вечером,
небо, еще светлое, нависало
над темными кронами деревьев Кротонского парка.
Он подошел к парочке, хотя сам и не собирался
приглашать девушку на свидание, и, приняв
угрожающую позу, заявил,
что задаст кавалеру трепку, если тот попробует
обидеть мою будущую мать Рут.
Отец безнадежно испортил свидание своим наглым,
собственническим отношением.
Случилось это в Бронксе, в начале столетия,
когда улицы были еще широкими и новыми, а в парках росли
молодые зеленые деревья.
Улицы были застроены красными кирпичными,
облицованными по углам гранитом
домами с чистенькими маленькими двориками —
предел мечтаний для семей иммигрантов, сумевших вырваться
из трущоб Нижнего Ист-Сайда. Это галантное
ухаживание моего отца Бена
не имело, естественно, осознанной цели
отдать свои гены,
хотя, конечно, Рут вышла за него замуж,
и он отдал-таки свои гены
моему брату Рональду, появившемуся на свет в 19… году,
и мне – восемь с половиной лет спустя,
в год Великой депрессии, когда немногие семьи
могли позволить себе иметь детей,
и уж меньше всех Бен и Рут,
а ведь у них, как я теперь понимаю, в середине
или в конце двадцатых родился еще
и мертвый ребенок,
может быть, мой брат,
а может быть, и сестра, которая гуляла бы со мной в парке,
проникнутая чувством ответственности,
унаследованным от матери,
водила бы меня к фонтанчику, если бы я захотел пить.
Все же это была сестра, как призналась мне мать,
когда я был уже взрослым,
дочь, желанная для Рут дочь,
которая скрасила бы одиночество,
от которого страдала мать, живя среди самцов.
Я рассказываю об этих сугубо личных вещах
только для того, чтобы точно
очертить место и время моего появления на свет и
утвердить свое, пусть и призрачное, право говорить от лица века,
быть скрытым наблюдателем,
далеким до поры от великих и ужасных исторических потрясений,
ибо для каждого из нас когда-нибудь
приходит Время, не так ли?
Однако сейчас я могу признать, что мне трудно вообразить отца
молодым, горячим, отважным и упрямым.
Детство принадлежало только мне или моему
брату, это была наша собственность,
к которой отец не имел ни малейшего отношения,
в моей памяти отец навсегда остался
серьезным солидным человеком, сидящим в кресле возле радиоприемника,
слушающим сводки с фронтов Второй мировой войны
и одновременно читающим такие же сводки
в вечерней газете, которую он держал,
словно полог армейской палатки.
Отец умер сорок лет назад,
и я с болью могу признать, что чем дальше в прошлое уходит его смерть,
тем более расплывчатым становится он в моей памяти.
Личность исчезает или становится более сложной,
мы остаемся наедине с твердо установленным, но невидимым фактом:
в памяти живет дух, лишившийся подверженного слабостям характера,
хотя сам человек тоже был им подвержен; какие-то вещи он делал правильно, какие-то нет,
но теперь он существует только как голая душа, которая выстрадала жизнь
и растворилась в ней.
Но я храню и оберегаю в своем воображении его образ
вопреки печальной правде лишенной облика души,
и это служит мне слабым утешением,
ибо сверкающая и переливающаяся яркими красками жизнь
не может вечно сохраняться образами памяти
во всей своей богатой уникальности.
Он играл в теннис в белых парусиновых брюках.
У меня есть фотография,
сделанная старой портативной «лейкой» того времени,
объектив которой,
похожий на мехи аккордеона,
выдвигался вперед по двум направляющим штырям.
Рука ловко согнута в локте,
тело устремлено вперед,
белая рубашка с длинными рукавами,
темные волосы, темные усы,
вся фигура у дальней стороны сетки,
кадр почти целиком заполнен полем корта,
общественного корта с покрытием из красной глины.
В углу снимка видна спина неизвестного анонимного соперника,
навечно застывшего в отчаянной погоне за мячом.
Дальний фон – многоквартирные дома Бронкса,
выкрашенные сепией
по моде 1925 года.
Моя мать тоже играла в теннис.
В тридцатые годы они вместе ходили на корты,
а я стоял за проволочной сеткой и канючил,
дожидаясь своей очереди.
Она похоронена рядом с ним на кладбище
Бет-Эль в Нью-Джерси.
Но, пережив отца на тридцать семь лет,
мать навеки запечатлелась в моей памяти.
Последний раз она встречала свой день рождения
в отделении интенсивной терапии, когда ее только что
отключили от аппарата искусственного дыхания.
Поздравляю тебя, мама, сказал я,
тебе сегодня стукнуло девяносто пять.
Она подняла бровь, открыла глаз
и едва заметно улыбнулась —
эта улыбка пыталась задержать уходящую жизнь;
девяносто четыре, поправила она меня.
Это был наш последний разговор.
Но и теперь, через несколько лет
после ее ухода из жизни,
я продолжаю ощущать ее смерть
как непривычную тишину, молчание,
молчание человека, который
всегда должен был что-то сказать по поводу нашего вкуса
и по поводу наших привычек
и при этом всегда утверждал, что говорит только тогда,
когда его об этом просят.
Она сумела овладеть только одним
достижением современной техники,
которую вообще-то недолюбливала и не понимала,
автоответчиком. «Позвони маме» – это все, что она
позволяла себе сказать машине, которая
моим голосом требовала сообщить
имя и номер звонившего.
Мой голос при этом не был похож
на голос живого человека —
это был ясный, четкий безликий голос
говорящей машины, для слуха машины и
предназначенный.
«Позвони маме» – вот что я услышал бы и сегодня,
установи мы телефон в ее могиле.
В 1917 году мой отец закончил прохождение
военно-морской подготовки,
получил звание сигнального офицера и вскоре после этого отбыл в расположение
экспедиционного корпуса в Европе.
Его не успели обмундировать в новую военную форму,
и он был как белая ворона среди ранцев
и обмоток других новобранцев.
Потом, совершенно непостижимым образом,
а может, это только кажется, что непостижимым,
ему изменили звание, причем сделано
это было не Аннаполисом [10]10
Аннаполис – военно-морская академия.
[Закрыть],
а местным командованием.
Отца направили в окопы
служить военно-морским наблюдателем
по связи с флотом.
Все правильно, ведь связь и была
его специальностью, как она была специальностью
всех мужчин в нашем роду,
начиная с деда,
который прибыл в Америку в 1887 году и
стал печатником.
Конечно, отец понимал,
что световая сигнализация и сигнальные флажки
годятся только для флота,
но в окопах столь же бесполезными оказались
телефон и телеграф, на которых
держится связь в сухопутных войсках.
Ведь каждой атаке немцев предшествовала
артиллерийская подготовка,
сметавшая кабели и провода,
так старательно подведенные
к штабам батальонов,
и если для того, чтобы поднять в воздух
телеграфные линии, протянутые
вдоль шоссейных и железных дорог
к артиллерийским позициям и
в полевые госпитали, от полков
к штабам дивизий,
достаточно дернуть за оструганный,
пропитанный креозотом сосновый стержень,
и последует выстрел, и тысячефунтовый
снаряд тяжелой гаубицы,
как копье Ахилла,
врежется в провода и
полетит дальше, таща за собой,
словно хвост кометы,
раскаленные провода,
оставив любого генерала
в таком же неведении об обстановке,
как самого последнего пехотинца,
скрючившегося на дне
окопа в своей жалкой форме,
и только рев разрывов будет
непроницаемо закодированным войной
ответом на вопрос генерала
о том, что же происходит в действительности.
Мой наблюдательный отец сразу ухватил
эту особенность и со смехом
рассказывал мне,
что не надо быть Эйнштейном,
чтобы понять, что война —
это такое же врожденное свойство человеческого ума,
как твердость – свойство древесных клеток дуба.
Оправдав надежды своего морского командования,
он оделся в китель цвета хаки
и каску убитого лейтенанта, который
делил с ним блиндаж, и когда
в воздухе повисли свист и грохот,
а земля вздыбилась,
поднимаясь и оседая,
как волны самого тяжелого из морей,
он принял на себя командование уцелевшими
солдатами сигнальной роты;
они упрямо разматывали
свои гигантские деревянные катушки,
заменяя разорванные на куски провода новыми, или
запускали с поднятых рук почтовых голубей, которые
каким-то чудом возвращались обратно,
больше похожие на комья окровавленных перьев.
Отец создал в своей роте команды
посыльных по два человека,
в задачу которых входила доставка
разведывательных данных в штаб
и передача штабных приказов войскам.
Посыльные – единственное, что могло
действительно работать на войне, хотя сведения, которые
они доставляли, могли запаздывать на час и больше.
Американский генерал Першинг очень долго
сохранял свои армии свежими
под своим непосредственным командованием,
но в 1917 году дела у союзников
пошли из рук вон плохо,
а количество убитых в британской и французской армиях достигло
четырех миллионов человек,
большинство из которых
умерли послушными, молодыми, ошеломленными,
согласно своим чинам и званиям.
В это время части Второй американской армии,
в которой мой отец служил
военно-морским наблюдателем,
были переданы французскому командованию
на южном участке обширного театра военных действий,
протянувшегося полосой разрушений от бельгийского побережья Северного моря
до швейцарской границы у Бернвезена.
Я рисую в воображении
своего отца в состоянии войны,
в состоянии, в котором и французы, и немцы,
и американцы занимались только тем, что
испытывали на прочность здравый смысл
и все человеческие чувства.
Вспышки сигнальных ракет
осыпали ночное небо
светящимся горчичным порошком,
снаряды, издавая противное шипение,
вспыхивали, словно молнии,
вырывающиеся из земли,
а когда наступило солнечное утро,
окутанное едким белым туманом,
все поняли, что немецкая пехота
перешла наконец в решительное наступление.
За тучами взметенной пыли и песка
раздавались шаги.
И то были шаги Смерти,
шедшей к молодым солдатам в окопах.
Отец вдруг понял, что из всей
сигнальной роты, к которой он был прикреплен
наблюдателем и командиром которой он стал, подчинившись
воинскому пылу, в живых остался
он один.
Человек, находившийся рядом с ним,
воздел к небу руки и
упал на колени в последней молитве.
Все застигнутые наступлением на ничейной земле
бросились назад в окопы.
Сейчас я не могу утверждать этого
определенно, но в те годы, когда
я жил дома с родителями, а его старший сын
Рональд
был на войне,
отец часто водил нас на стадион.
Игроки метались по зеленому полю.
Мы сидели, греясь в лучах солнца,
я ел из пакета жареные орешки, а он
курил сигару.
Он молчал среди толпы, которая
неистовствовала на трибунах, и это
обращало на себя внимание.
Мне нравилась зеленая трава поля,
белая разметка и звуки ударов
по мячу, которые гулким эхом
разносились над стадионом еще долго после того, как
мяч уже был в воздухе.
Но отцу больше нравилась игра один на один, когда
более умелый
переигрывал противника, не важно какого.
Он любил нападающих, например Хирша из «Крейзи Легз»,
который своими финтами, увертками и обводами умел
поднимать с мест всех зрителей стадиона,
кто кроме него умел так обходить соперников,
высоко поднимая ноги, совершая
головокружительные прыжки и ни на минуту
не упуская мяч, который
он с поистине комической интеллигентностью
мог удерживать неправдоподобно долго.
Я не могу утверждать этого наверняка,
но мне кажется, что в эти моменты
отец вспоминал свои собственные перебежки под огнем,
когда от его умения зависело,
останется он жив или нет,
и искал успокоения от своих страшных воспоминаний в эстетической
абстракции футбола с его разметкой и правилами,
которые не допускали тяжких травм
или непредсказуемых последствий.
Как бы то ни было, он принес войскам
приказ отступить, но его давно
опередили – солдаты бежали с передовой той самой дорогой,
которой пришел к окопам отец.
В окопах лежали сложенные кучами мертвецы,
словно утешавшие друг друга
в неизбывной скорби по своим ранам,
другие мертвецы,
с вырванными взрывом внутренностями,
стояли с примкнутыми штыками в полной
готовности отразить атаку.
Отец продвигался по траншее в поисках кого-нибудь,
кому можно было бы передать приказ,
но находил только крыс, шнырявших в дерьме и грязи
среди кусков галет и оторванных конечностей.
При его приближении они разлетались
в разные стороны,
словно маленькие серые снаряды.
Он споткнулся о труп молодого солдата,
лежавшего с дулом ружья во рту,
голова застыла в блестящей луже грязи
и окровавленного мозга.
Отец остановился и опустился на колени,
впервые с тех пор, как прибыл во Францию,
оказавшись рядом с тем, кого можно оплакать.
Парень не смог выдержать
беспрерывную, в течение многих часов канонаду, которую
сам отец, постоянно занятый делом, едва слышал.
Но теперь истина открылась ему во всей своей наготе, словно
он был наследником мертвого парня.
Чудовищный грохот, механический,
но нотками человеческого голоса,
громоподобный рев колоссальной, бесстыдно жестокой,
грубой и мстительной ярости, который показался
ему воплощением первобытной,
первородной речи, когда в окопе
его накрыл танк;
покрытые грязью гусеницы
бешено вращались в воздухе
над его головой, и в этом скрежещущем чавкающем
реве края окопа начали осыпаться,
а из темноты на его голову густо посыпались
капли машинного масла.
Теперь, друзья, я знаю, что это
Древняя История, такая же древняя,
как и наши учителя в средней школе, к которым
мы относимся с такой же снисходительностью.
Я твердо это знаю.
Мне ведомо, что кости Первой мировой войны
впечатаны в тектонические плиты под тяжестью других костей, захороненных выше.
Пляжи Европы усеяны покрытыми песком костями,
и крестьяне Европы
лемехами своих плугов вытаскивают из земли
позвоночные столбы убитых.
Реки Европы светятся по ночам
от свободных радикалов кальция в их водах,
археологи из университетских городов Европы
находят под плитами мостовых черепа в касках.
Но послушайте же, что я вам скажу.
Вся история существует только для того,
чтобы сейчас можно было налить пиво в ваши кружки.
Она дарит грустной даме в конце стойки ее пачку «Мальборо»,
придает зеркалу, в котором отражаются бутылки,
его тусклость, и не случайно она освещает нас синим светом неона,
внушая нам чувство иллюзорной свободы.
Сколько лет было тогда отцу —
двадцать четыре, двадцать пять?
Вот он, человек, беззаветно любящий море, бредет,
утопая в окопной грязи,
молодой человек, защищающий чужую страну,
вестовой, зарывшийся в землю, все, что он
сделал, непостижимым образом отрицает
дары его юности, и армия гуннов
наступает на него со всех сторон.
Нельзя сказать, что отец был политическим младенцем – от
своего отца, моего деда Исаака, печатника, он узнал
о сладких ценностях гражданской религии —
социализма.
Он понимал, что немецкие солдаты, которые убьют его,
как только он зашевелится, гораздо ближе к нему
в том, что они приобретают и теряют, чем
к своим же генералам и правителям, которые
погнали их на войну.
Он понимал, что общество имеет
вертикальную, а не горизонтальную структуру и что
за какое-то историческое мгновение до того,
как разразилась война, не художники и интеллектуалы
в кафе Парижа, Вены и Берлина, писавшие
на полотняных салфетках
свои эстетские манифесты,
зажав дымящиеся «Голуаз» и «Нэйви Кат»
между указательными и большими пальцами, но люди,
работавшие на заводах и
вгрызавшиеся в глубины шахт
за жалкие гроши, и школьные учителя, продавцы
больших магазинов и кондукторы трамваев
предположили, что они не французы, не немцы и не итальянцы, но
представители всемирного рабочего класса, который
перепахал все границы и был
порабощен капитализмом и его
монархическими придатками, и что его
националистическая идеология есть
дерьмо чистой воды.
Увы, двадцать восьмого июля наступило отрезвление,
когда серб Принцип застрелил
Габсбургского эрцгерцога Франца Фердинанда,








