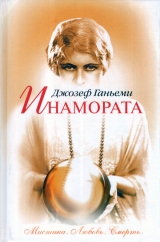
Текст книги "Инамората"
Автор книги: Джозеф Ганьеми
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
И тут меня осенило.
Мне понадобилось почти все утро, чтобы уговорить Мину выпустить голубя. Я пытался убедить ее, что меланхолия птицы вызвана именно заточением. Мина же опасалась, что у голубя могут быть внутренние повреждения – результат преодоления оболочки, разделяющей мир Уолтера и наш собственный. «А что если у него сломано крыло?» – волновалась она и говорила, что никогда не простит себе, если мы освободим птицу только затем, чтобы она немедленно пала жертвой одного из соседских котов.
Я ухватился за этот ее довод и постарался обернуть его в свою пользу.
– Я отнесу его на площадь, – заявил я, сам удивляясь, насколько складно я вру, – и выпущу среди других голубей.
Несмотря на предостережение мужа, что голуби разносят заразу, Мина просунула палец в клетку и погладила перья птицы.
– Вы думаете, они его примут?
Я заверил Мину, что пернатые соплеменники примут голубя с распростертыми объятиями и ему будут гарантированы все права и привилегии, каких он заслуживает.
– Вам все шутки шутить, – возмутилась Мина.
Интересно, какие еще мои проступки она имела в виду? Я извинился и потом молча смотрел, как она прощается со своим новоявленным любимцем.
Через двадцать минут я шагал по площади Риттенхаус с малайской клеткой в одной руке и одолженным биноклем в другой. Я раздобыл его, солгав, что хочу-де издали понаблюдать за птицей после того, как выпущу ее на волю, чтобы убедиться, что другие голуби не обидят его. На самом деле я не собирался выпускать голубя в парке. У меня были совсем другие планы.
Я пересек площадь и взял курс на отель «Бельвю».
На первый взгляд не так-то просто пронести незаметно голубя в первоклассный отель, но следует учитывать царящее там в дневное время столпотворение. Никто и бровью не повел, пока я пересекал вестибюль, я удостоился одного-единственного вопроса: когда уже почти добрался до сада на крыше, мальчишка-лифтер полюбопытствовал, как зовут мою птичку.
– Понятия не имею, – признался я чистосердечно, а сам подумал: «Надеюсь, не Икар».
В саду на крыше день казался совсем иным: шумным и лазурным, с небом этакого воскресного оттенка – словно отель специально заказывал хорошую погоду для своих состоятельных постояльцев. Сильный ветер удерживал внутри большинство посетителей, так что весь сад был в моем распоряжении. Я отнес клетку в дальний угол, стараясь не думать о том, что я нахожусь на высоте двадцати этажей над улицами города. Но трудно было отвести взгляд от головокружительной картины. Краем глаза я все же заметил, как солнце отражается в излучине реки и как сотни дроздов разом взмыли со шпиля собора. В конце концов я уже не мог оторвать взгляд от раскрывавшейся панорамы.
Боязнь высоты – странная штука. Тончайшее стекло может побороть ее, превратив сжимающую мошонку панораму в картину, состоящую из укороченных углов и неестественной перспективы. Но окна, которое бы смягчило впечатление и приукрасило иллюзию, не было, и высота казалась безбрежной, пугающей, холодной и яростной, так что я с трудом удерживался от паники. Труднее всего было переводить взгляд с предмета на предмет. Когда я попытался отыскать взглядом статую Уильяма Пенна на крыше Городского совета, в желудке моем что-то перевернулось, и мне пришлось схватиться за балюстраду, поскольку ноги мои сами собой подкосились. Чтобы успокоить нервы, я стал смотреть вдаль: на недостроенный мост через реку Делавэр и рыжевато-коричневые пересохшие берега южного Нью-Джерси. Я старался дышать медленно, подождал, когда отступит паника, а потом наклонился к клетке. Я открыл дверцу и взял в руки птицу – осторожно, словно рождественскую игрушку, и так же осторожно вынул ее из клетки. Потом я выпрямился и молча помолился о том, чтобы у птицы не оказалось сломано крыло; затем я подбросил голубя в небо.
Он выпорхнул из моих рук. Ветер попытался было отшвырнуть его назад ко мне; но голубь расправил крылья, замахал ими, и на несколько мгновений неловко застыл в воздухе. Наконец он словно вспомнил, как надо летать, перестал махать крыльями и заскользил вниз, вмиг превратившись в прекрасный бумажный самолетик, парящий в широком воздушном каньоне.
Я выхватил из кожаного чехла бинокль, отыскал голубя – он уже был достаточно далеко – и стал следить за его захватывающим полетом мимо пряжки на ботинке Уильяма Пенна. Он летел легко, и я понял, что мои догадки оправдались: это был не голубь-побирушка, не грязная крыса с крыльями, а настоящий почтовый голубь. И он летел к дому.
Мне было весело наблюдать за ним. И в то же время я испытывал разочарование, поскольку втайне надеялся, что птица вернется на какой-нибудь шесток по соседству. Но я догадывался, что голубю предстоял долгий полет. Именно поэтому я постарался подстраховаться и выпустил птицу с самой высокой точки в центре города (если не считать треуголку Уильяма Пенна). Теперь с моего наблюдательного пункта я ясно видел, как глупая птица сломя голову направляется в сторону Коннектикута, а то и дальше – в Канаду.
Однако тут случилось непредвиденное. Птица, которая в окулярах моего бинокля казалась теперь не больше клочка конфетти, вдруг повернула назад. На миг я потерял ее в солнечных лучах. Я опустил бинокль и поднес ладонь к глазам. Вот она парит над фабрикой Кенсингтона и жилыми кварталами. Неужели он решил вернуться ко мне? Неужели в крошечном мозгу птицы я вдруг подменил ее прежнего хозяина?
Но едва я задался этим вопросом, как голубь вдруг резко нырнул вниз и исчез из виду в нескольких кварталах от Маркет-стрит. Я снова приник к биноклю и осмотрел крыши, где он пропал, но не нашел никаких голубятен – только ряды труб и цистерны для холодной воды.
Но я не пал духом. Теперь я знал – с точностью до нескольких кварталов, – где живет владелец голубя.
10
Поскольку я не был ни филадельфийцем, ни Пинкертоном, мне понадобилось изрядное время, чтобы в районе четырех кварталов, пользующихся в городе мрачной славой, вычислить нужный мне адрес.
Пересечение Пятой улицы и Рейс-стрит. Отель «Либерти».
Поиски этого места сами по себе были комедией следственных проб и ошибок, но все же скажу в свою защиту, что действовал не хуже полицейского-новобранца, который учится «прочесывать» свой район. Я быстро уяснил себе, что хозяева салунов, владельцы сигарных лавок и швейцары – никудышные информаторы, их реакция на мои расспросы («Не знаете ли вы, не держит ли кто в окрестностях голубей?») – либо безразличие, либо раздражение.
Я попытался расспросить полицейского на улице, но он лишь наставительно посоветовал держаться подальше от Чайна-тауна, когда стемнеет, чтобы не стать очередной белой жертвой территориальной войны между «Хип Сингами» и «Пятью братьями». На Арч-стрит я подошел к парню, скучавшему в билетной кассе «Трокадеро» (в тот день был дневной концерт: Вивьен Лоуренс, Эдит Харт и хор из тридцати пяти «Вампир герлз»), но обнаружил, что он ни бельмеса не понимает по-английски. Я подступился было с расспросами к ворчливому пьянчужке-попрошайке, стоявшему у дешевого магазина, но тот посоветовал мне позабыть про уличных голубей, а лучше поискать Голубя мира. Я попытался подкупить мальчишек, разносивших газеты, и заговаривал с парнями с помятыми физиономиями, что слонялись без дела у Галилейской миссии.[40]40
Галилейская миссия – благотворительная организация в Филадельфии.
[Закрыть] Я задавал мои вопросы в школах для парикмахеров и ломбардах, в сомнительного вида ресторанчиках, где все еще можно было пообедать за пять центов, и в аптеках, продававших пиявки по четыре за четвертак. Потратив без толку почти целый день, я пришел в такое отчаяние, что стал подумывать, а не почистить ли мне зубы у одного из местных нелегальных дантистов («УБЕДИТЕСЬ, что Вы попали в настоящую клинику, – гласила вывеска в одном из переулков. – ОСТОРОЖНО – вокруг полно МОШЕННИКОВ, выдающих себя за зубных врачей») просто для того, чтобы переброситься парой фраз с кем-нибудь, кто не сразу отмахнется от моих вопросов.
Но наконец, как написал бы в своих мемуарах Пинкертон, в моем расследовании произошел перелом. И случилось это благодаря посыльному в форме «Вестерн Юнион». Я присел на край тротуара, чтобы дать отдых своим стертым ногам, а этот паренек шествовал мимо – в золотой кепчонке набекрень и с сигаретой, прилипшей к нижней губе.
– Спички есть?
– Не курю.
Парень вздохнул и стал рыться в многочисленных карманах. Не найдя спичек, он засунул сигарету за ухо и покосился на меня, сидевшего на бордюре на краю тротуара.
– Все хорошо, приятель?
– Порядок.
– Ты что, перебрал?
– Нет.
– Точно? А выглядишь, будто тебя вот-вот стошнит.
Мой желудок слегка подпрыгнул, словно скумбрия, лежащая на горячих камнях. Я подумал, стоило ли мне есть завтрак.
– Ага, кажется, догадываюсь, чего тебе надо, – оживился парень. – Я тут недалеко знаю одно местечко, где можно пропустить стаканчик и прийти в чувство.
– Ты ведь тут на постоянной работе, малыш?
– Всем надо деньгу зашибать, – отвечал он, пожимая тощими плечами, упрятанными в форму не по росту. На вид ему было не больше шестнадцати. – Ты паршиво выглядишь, словно тебя пыльным мешком по голове стукнули. Хочешь, присоветую неплохую гостиницу?
– Нет, спасибо.
– Я тут знаю шикарное местечко как раз за углом, – сообщил он. – Ты иди заселяйся, а я пришлю тебе девчонку погорячее, чтобы ты не заскучал.
Я потер виски.
– У меня от твоего трепа голова разболелась.
– Или ты предпочитаешь китайских куколок?
– Отвяжись.
– Да ладно, – не унимался он, – скажи-ка старине Чолли, каких пташек ты любишь. Я им только свистну – они живо объявятся.
«Пташки». Если бы я не был так вымотан, я бы, возможно, рассмеялся.
– Какие пташки? – повторил я за ним, а потом буркнул: – Голуби?
– Чего-чего?
Я встал, пошевелил пальцами в ботинках и тут же скривился от боли: ноги были стерты в кровь. Не надо было мне садиться.
– Мне не нужна девчонка, парень, – сказал я, – но, возможно, ты и смог бы помочь мне найти то, что я ищу.
Он оживился и вытянул вперед руку.
– Это будет стоить денег.
– А не хочешь сначала услышать, что мне надо?
Он покачал головой.
– Будь это что-то обычное, ты бы сразу спросил. Так что бабки вперед.
Я вытащил из бумажника мятый доллар и сунул ему в нагрудный карман, но не слишком глубоко: пусть помнит, что я в любой момент могу забрать его назад, а потом задал свой вопрос:
– Скажи, не держит ли кто в округе голубей?
Мальчишка изобразил на физиономии понимание.
– Ага, две тысячи китайцев.
– Нет, я ищу почтовых, – пояснил я, – которых держат в клетке на крыше, чтобы обмениваться письмами с приятелями. Такая у некоторых людей причуда.
Он насупился, обдумывая мой вопрос. Это был расчетливый маленький мошенник, я его сразу раскусил. Паренек надолго задумался, и я испугался, что так и не получу ответа, а он просто придумает какую-нибудь небылицу, чтобы вытянуть из меня деньги. Но тут, к моему удивлению, паренек назвал имя и сообщил ряд подробностей, которые убедили меня, что он говорил правду.
– Был тут парень по имени Эрни, – начал он, – жил в отеле «Либерти». Управляющий разрешил ему держать голубей на крыше. Не спрашивайте меня почему. Эти твари загадили все вокруг.
– А фамилию этого Эрни ты знаешь?
Он покачал головой.
– Не-а, давно его не видел. Я ему посылки носил.
– Какие посылки?
Он смерил меня взглядом, намекая, что я задаю вопросы, за которые еще не заплатил, и, вскинув брови, ответил:
– Птичий корм.
Я понял, что не смогу больше ничего из него вытянуть, дал ему еще два доллара и заковылял на стертых ногах к перекрестку Восьмой улицы и Рейс-стрит.
«Либерти» оказался четырехэтажным клоповником с извивающимися пожарными лестницами и мрачными окнами, над которыми красовалась надпись: «Отель».
Социальный реформатор сказал бы, что в его вестибюле царил запах отчаяния – так в благородном обществе называют запах мочи. Я подошел к стойке и пролистал покореженную от сырости регистрационную книгу, где были отметки о посещениях постоянных клиентов: «Мистер и миссис Джон Смит» (таковых я насчитал одиннадцать), а рядом «Президент и миссис Калвин Кулидж», «Чарли Чаплин и Пола Негри» и даже «Папа Пий XI», верно разыскивавший в этих местах Марию Магдалину.
– Какого черта вам тут надо? – прокаркал голос из-за стойки. Я замер. Управляющий вышел, шаркая, из задней комнаты, словно тролль, выскочивший из-под моста в сказке о трех козлах. Коротенький и бесформенный, перетянутый посередине грязным поясом, старик принес с собой запах туалета, который, видимо, только что покинул.
– Я ищу вашего постояльца, его зовут Эрни.
– Эрни? – Глазки старика сузились, чтобы скрыть блеск узнавания прежде, чем я успею его заметить. – Никогда о таком не слыхал.
– Вы уверены? Забавный парень, который держит голубей на крыше?
– Кто его разыскивает?
– Его двоюродный брат. – Я еще не привык врать, и при этих словах дрожь пробежала у меня по спине. Видимо, соврал я неловко.
– Никогда не поверю, – заявил старик. – Проваливай-ка подобру-поздорову, сынок.
– Разве ваши постояльцы не принимают гостей?
– Только после предупреждения.
Я стал терять терпение.
– Так пойдите и предупредите.
– Вы что думаете, здесь «Вальдорф-Астория»? – Он полез за платком, чтобы вытереть каплю под носом, и между вялыми сморканиями заявил мне: – Все равно Эрни нет дома.
– Плохо, – сказал я, – у меня для него подарок.
Я сунул руку в карман пальто и извлек початую бутылку «шипучки», которую хранил несколько дней, и с мелодичным бульканьем водрузил ее на стойку. Этот звук прозвучал для старика как любимая мелодия.
– Хотите я уступлю ее вам в обмен на небольшую услугу.
– Комната 128, – сказал он, протянув руки к бутылке. Я отодвинул ее на безопасное расстояние и выставил свои условия:
– Я хочу дождаться его в комнате.
Старик не сводил глаз с бутылки. Рот его раскрылся, обнажив единственный уцелевший зуб. Он вздохнул, и остатки воли к сопротивлению покинули его, как вода протекающую батарею.
– Он уже две недели не платит за комнату, – проворчал он, отыскивая запасной ключ. Нашел его, выбрался из-за стойки и махнул мне, чтобы я следовал за ним.
Старенький лифт давно приказал долго жить, и нам пришлось подниматься по лестнице, что было испытанием для меня, а для старика тем более. Он вел меня наверх коридорами, по которым гуляли сквозняки и которые по мере нашего подъема становились все более и более сырыми. Обои, казалось, были покрыты венерической сыпью, и я поспешил сунуть руки в карманы, чтобы не подцепить никакой заразы. В нос бил запах немытой посуды, сигаретного дыма и кошек, откуда-то из-за закрытой двери раздавался натужный кашель больного эмфиземой легких. На каком-то этапе этого путешествия по кругам ада управляющий сообщил мне, что человека, к которому я пришел, зовут Эрнест Стонлоу.
Номер этого самого Стонлоу был на четвертом этаже, в конце длинного коридора, освещавшегося лишь тусклым светом, проникавшим через грязное окно, которое выходило на пожарную лестницу и из которого открывался весьма вдохновляющий вид на кирпичную стену напротив. Цифры номера на двери Стонлоу давным-давно куда-то исчезли, но след от них еще различался на крашеной поверхности.
Управляющий четыре раза постучал в дверь и, когда ответа не последовало, отпер ее и пропустил меня внутрь. Похоже, ему не терпелось вернуться назад к бутылке, поскольку он торопливо откланялся, пригрозив напоследок:
– И без фокусов тут! У меня отличная память на лица.
Я заверил его, что не имею намерения «фокусничать». Старик хмыкнул, подтянул штаны и зашаркал прочь, оставив меня в одиночестве в чужом номере.
Я поднял жалюзи, чтобы впустить свет в обставленную по-спартански комнату: голый матрас, плитка, умывальник с обитым фарфоровым тазом и висящий рядом на стене ремень для заточки бритвы. На пыльном бюро лежали всякие вещички, которые можно было принять за содержимое мужских карманов: сорок центов мелочью, замусоленная кроличья лапа, пачка «Честерфилда». Стены пожелтели, видимо, сигаретный дым в комнате не выветривался. Я попенял себе, что не поинтересовался у управляющего, как долго Стонлоу живет в отеле. Осматривая его номер, я с трудом мог представить себе, что кто-то выдержит здесь больше нескольких дней, уж слишком мрачной и неприветливой была эта комната. Но, похоже, Стонлоу прожил здесь достаточно долго, раз успел сдружиться с управляющим и получить от него разрешение держать голубятню на крыше. Но где тогда его книги о разведении голубей? Где дневники, в которых ведется учет писем, полученных от таких же любителей птиц? Аскетичность комнаты казалась более чем странной, даже подозрительной, через двадцать минут, когда я закончил осмотр, я знал о Стонлоу не больше, чем до прихода сюда. Я уже стал сомневаться, что такой человек вообще существует. Или же меня просто хотели заставить в это поверить?
Я завалился на кровать, и пружины заскрипели подо мной. Я прождал еще четверть часа. В лучиках света кружилась пыль, вылетавшая из пегого ковра. Мне вспомнился отвратительный шотландец, преподававший нам анатомию в медицинской школе. Он с упоением объяснял нам состав обыкновенной домашней пыли: «Кожа и волосы, парни, – говорил он, сверкая румяными щеками. – Кожа и волосы». И теперь, наблюдая, как крошечные частички медленно кружатся в солнечном луче, я неожиданно подумал: «А вдруг это все, что остаюсь от Стонлоу?..»
Почему я битый час провел в праздных размышлениях и не удосужился заглянуть под кровать прежде, чем меня что-то резко – словно удар гонга – подтолкнуло к этому?
Потому что у меня не было опыта. И потому, что я был в чужой комнате. Вот мне и не пришло в голову порыться в бюро Стонлоу или посмотреть под кровать; так и маленький ребенок не догадывается, что можно поискать игрушку, которую от него спрятали.
Теперь, когда я дерзнул совершить этот… проступок, как бы назвал его мой отец, я совершил его с тем же усердием, с каким тот же самый ребенок спустя несколько лет станет искать рождественские подарки. Бюро Стонлоу сулило самые многообещающие находки, но на всякий случай я для начала встал на колени и глянул под кровать.
И там я обнаружил то, что Стонлоу явно прятал от посторонних глаз.
Среди клубков пыли, за парой старых рабочих ботинок, лежал маленький портфель из потрескавшейся кожи. Я вытащил его и услышал, как внутри позвякивают какие-то металлические детали, но удержался от очевидного (но неверного) заключения, что нашел бритвенный прибор. Благодаря своей буйной фантазии я решил поначалу, что Стонлоу собирал реликвии времен Гражданской войны и я держу в руках полевой хирургический саквояж.
Когда я открыл портфель, оттуда, подобно змее, выскочила длинная резиновая трубка. Я не испугался, а лишь смутился. Насколько мне было известно, военные хирурги пользовались кожаными жгутами.
Порывшись, я само собой обнаружил шприцы, пустые ампулы гидрохлорида морфия и испачканную кровью марлю. Там же мне попалась на глаза одна вещь, которая сразу показалась мне важнее остального содержимого.
Фотография Мины, но моложе, чем сейчас. На ней была крестьянская блузка с довольно низким вырезом. Длинные волосы ниспадали соблазнительными кольцами на обнаженные плечи. Если бы не едва различимые очертания растений, вполне можно было предположить, что фотографию делали на небесах, и вообразить на заднем плане кучевые облака и блаженное сияние. Словно портрет святого на карточке. Пресвятая Дева.
Я осторожно держал фотографию Мины за единственный не погнувшийся уголок и понимал, что, сидя вот так на корточках на полу в угасающем свете дня, держу в руках последний оплот веры отчаявшегося человека.
Именно в этой позе застал меня Эрнест Стонлоу, когда, пьяно покачиваясь, внезапно появился в дверях.
– Кто вы, черт побери? – прорычал он.
Я узнал его. Это был тот самый человек, которого я заметил, прогуливая несколько дней назад терьера Кроули. Тогда он прятался в переулке у дома номер 2013 по Спрюс-стрит, и я принял его за бродягу. Две вещи спасли меня от кулаков разъяренного хозяина: во-первых, разрушительное действие губительного пристрастия Стонлоу, которое сожрало всю его плоть, превратив в скелет в одежде с чужого плеча; во-вторых, то, что, когда он нетвердой походкой стал приближаться ко мне, я успел вскочить на ноги и крикнуть: «Меня послал Уолтер!»
Не знаю, почему, но это было первое, что пришло мне на ум. А если это сам Стонлоу послал за мной? При других обстоятельствах я бы задумался над этим, но сейчас мне важно было отразить его атаку.
И это сработало. Стонлоу дернул головой, словно дрозд, и повторил имя:
– Уолтер?..
Я заметил легкий акцент, славянское произношение гласных, что соответствовало его внешности – или тому, что от нее осталось, что еще не успел уничтожить морфий. Его волосы, прежде жесткие и темные, стали хрупкими и поседели, так что трудно было определить его возраст. Тридцать пять, предположил я, хотя ему вполне можно было дать и пятьдесят. Он достиг той стадии истощения, когда от человека остается один остов: череп, насаженный на конец старого помела, – чучело, готовое для публичного сожжения на костре. Если Стонлоу и был рожден бойцом, времена его битвы уже давно миновали.
– Кто вы? – проговорил он с трудом, притулившись к дверному косяку.
– Меня зовут Финч, – отвечал я. – Я из журнала «Сайентифик американ». Мы исследуем спиритические способности Мины Кроули.
– Мина? – переспросил он. В его устах ее имя прозвучало как молитва.
– Верно.
Я протянул ему фотографию:
– Вы знаете ее?
Он издал звук, который должен был означать смех.
– Да, я знаю ее, – сказал он, скорчив гримасу. – Она была моей женой.
Они встретились двенадцать лет назад. Тогда Мине было всего восемнадцать, а Стонлоу – двадцать. Она была студенткой в Брин Мор, а он работал там же помощником садовника. Их пора ухаживания была короткой и состояла в основном из посещений профсоюзных митингов и участия в маршах протеста. Женитьба их была столь же недолгой и в конце концов разделила участь множества подобных неудавшихся социальных экспериментов.
Это все обрывками поведал мне Стонлоу, забившись в угол на своей кровати в ожидании еще одной ночи, полной галлюцинаций и дрожи, которые сопровождают наркотическую ломку. Он ввел последнюю порцию морфина два дня назад и весь день рыскал по окрестностям в поисках своего обычного поставщика, но тот, как оказалось, перестал платить дань за покровительство местному воротиле, чем обеспечил себе бесплатный билет в Моко, известную также как тюрьма Мойаменсинг.
И вот Стонлоу едва добрел до «Либерти», где ему оставалось последнее средство наркомана – «колоться пустой иглой». Я думал, что он попросит меня уйти или хотя бы отвернуться, но он этого не сделал. Видимо, тяга была слишком велика. Или, может, по какой-то причине он хотел, чтобы я увидел, каким он стал. Стонлоу зажег сигарету и оставил ее свисать в углу рта. Потом закатал рукав и пустым шприцем принялся колоть кожу с внутренней стороны худого предплечья. Я с замиранием сердца следил, как он ищет местечко на исколотой руке, среди засохших следов вчерашних уколов, а потом колет себя с пуантилистической меткостью мастера татуировок. Закончив, Стонлоу закрыл глаза, и на лице его появилось выражение блаженного ожидания. Такое же выражение я замечал на лице Мины, когда она впадала в гипнотический транс. Видимо, страсть морфинистов в чем-то сродни нашим сеансам, когда мы рассаживаемся вокруг стола, чтобы пощекотать себе нервы загадочным ритуалом, и ждем, когда тьма выпустит на волю своего дракона.
Вдруг Стонлоу насторожился, словно услышал в отдалении какие-то звуки. Он прислушался. Внезапно глубокие морщины словно растаяли и рот приоткрылся. Я покосился на забытый шприц в его руке, а потом вгляделся в его разгладившееся лицо. Неужели его блаженство было таким же, как если бы он кололся полным шприцем?
Он не спал, но сигарета выпала изо рта и лежала, тлея, на груди. Когда я потянулся, чтобы убрать ее, он поблагодарил меня, не открывая глаз. Я знал, что если хочу еще задать вопросы, то мне надо поторопиться. Поэтому я наклонился и тихо спросил его, как завершился их брак с Миной.
– Кроули.
– Она ушла от вас к нему?
– Он забрал ее, – пробормотал Стонлоу, а потом издал какой-то булькающий звук, будто полоскал горло; казалось, чувства клокотали у него в груди. – Забрал и ее… и мальчика…
Я чуть отпрянул.
– Мальчика?
– …был мальчик…
– Что значит «был мальчик»?
Нет ответа.
– Стонлоу?
Он отключился, казалось, отлив уносил его в море. Я попытался вытянуть его на берег.
– Стонлоу!
Я шлепнул его.
Так мы разговаривали, если это можно назвать разговором, еще с полчаса, за это время мне удалось вытянуть из него, что же произошло – по крайней мере, по мнению Стонлоу. Беременность. Осложнения. Больница…
И тут в этой мрачной истории, покручивая вощеный ус, появлялся Кроули. В голосе Стонлоу зазвучала злоба, когда он стал рассказывать мне о том, как ему сообщили, что «состояние жены ухудшилось» и началось внезапное «кровотечение». Кроули уверял, что он сделал все возможное, чтобы спасти ребенка, сына Стонлоу.
Потом гнев утих и сменился раскаянием. Стонлоу рассказывал о выздоровлении Мины столь же равнодушно, как школьник, отвечающий домашнее задание: как она впала в глубокую депрессию, как с горя поддалась наглым ухаживаниям Кроули и как в конце концов спутала благодарность с любовью, приписав свое естественное выздоровление почти мистическим целительным способностям Кроули.
Теперь глаза Стонлоу приоткрылись, превратившись в две черные щелочки – два одинаковых шва. Дракон выбросил его из волн, и он лежал, съежившись на кровати, словно выловленный из моря утопленник.
– Мина, – произнес он, будто увидел ее перед собой.
Я спросил, когда он последний раз видел ее. Его ответ удивил меня.
– На прошлой неделе. – Он нахмурился, словно был не уверен в своем ответе, и вяло пожал плечами. – А может, это было в прошлом месяце.
– Чего она хотела?
– Ничего.
– Я не понимаю – она разве не сказала?
– Она никогда не поднимается.
– Вы хотите сказать, что она приходила и раньше?
Он ответил слабым кивком.
– Она оставляет передачи на стойке внизу. Продукты. Кое-что из одежды…
Он дернул за рубашку, которая была на нем. Она была мятая, пропахшая его кислым потом, но видно было, что она отлично сшита; в моем гардеробе все рубашки были похуже. И тут я заметил запонки: двойные кадуцеи, крылатые жезлы, перевитые змеями.
– Ваши запонки, – сказал я, – они принадлежали Кроули?
Он злорадно хмыкнул.
– Почему вы не заложили их?
– Они еще могут пригодиться.
– Пригодиться?
Стонлоу просветил меня в моем неведении.
– Они помогают мне выдавать себя за врача.
Его замысел был прост: одетый в дорогой костюм Кроули, с выставленными напоказ золотыми запонками, Стонлоу отправлялся на электричке в пригород, где уверял местных аптекарей, что он остановившийся проездом литовский врач, специалист по легочным заболеваниям, и просил отпустить ему микстуру от кашля и кое-какие патентованные лекарства. Количество морфия, кокаина и героина в этих лекарствах было минимальным – всегда не больше четверти грана на унцию, как предписано Актом Харрисона, – поэтому к этой уловке Стонлоу прибегал лишь в крайних случаях. Но в последнее время он настолько исхудал, что не мог провести даже самых доверчивых аптекарей. Что возвращало нас к моему изначальному вопросу: если запонки ему больше были ни к чему, отчего он не заложил их?
Но Стонлоу дал понять, что не желает отвечать на этот вопрос, тогда я задал другой:
– А Мина знает, в каком вы состоянии?
– Нет.
– И вы не пытались встретиться с ней?
– Чего ради?.. Она влюблена…
Он равнодушно махнул в сторону окна, ладонь болталась в запястье, словно плохо приклеенная.
– Как-то раз я был у голубей на крыше, случайно посмотрел вниз и увидел, как она садилась в такси. Я окрикнул ее. Она подняла голову. Она была такая… – Нужное слово застряло у него в горле. – Красивая. Она даже похорошела. Я подумал, что она, наверное, очень счастлива.
– Не думаю.
Хотя я и в самом деле так считал, жестоко было говорить это. Но я этого не понимал: я был слишком молод и неискушен в дипломатии разрывов. Стонлоу посмотрел на меня испытующе, а потом со злобой: он злился на меня за то, что я в последнюю минуту вселил в него надежду, и на себя за то, что страстно хотел поверить мне.
Он отвернулся.
– Зачем вы пришли?
Он уже спрашивал об этом, когда обнаружил меня в своей комнате, и тогда я рассказал ему о сеансах Мины, о зашифрованных посланиях его бывшего шурина и о голубе. Теперь, когда он вновь повторил свой вопрос, я понял, что Стонлоу ждет от меня другого: он хочет услышать правду.
И я честно сказал ему:
– Я ищу сообщника Мины.
Он обернулся.
– Так вы думаете, что нашли его?
Я посмотрел на Стонлоу, на его череп, обтянутый воскового оттенка кожей, и покачал головой.
– Нет.
– Значит, поищите хорошенько и обязательно найдете.
– Так вы не верите, что она разговаривает с мертвыми?
– Если бы я верил, то давно бы перерезал себе глотку, – сказал он, кивая в сторону острой бритвы на умывальнике. – Нет, у нее должен быть помощник, «сообщник», как вы выразились. Возможно, любовник, а может, и нет. – Он криво улыбнулся. – Возможно, это вы.
Он заговорил бессвязно, свет угасал в его глазах так же быстро, как в гостиничном номере. Я посмотрел на мои наручные часы, было без четверти пять. Я еще хотел задать Стонлоу сотни вопросов: какие у него были отношения с шурином, с Уолтером и, в первую очередь, почему он дал жене развод. Но я понимал, что если хочу еще увидеть его голубей на крыше, то расспросы придется отложить.
Я поднялся со стула, включил единственную лампу в комнате, чтобы хоть как-то отогнать сгущающиеся сумерки, и укутал его плечи старым одеялом из конского волоса. У Стонлоу зуб на зуб не попадал.
– Можно мне подняться на крышу?
Он вяло помотал головой.
– Чувствуйте себя как дома. Птицы все погибли. Я пытался прогнать их, но они снова прилетали.
Я подошел к окну, поднял, преодолев сопротивление старых противовесов, нижнюю раму и вылез на пожарную лестницу. Я карабкался вверх по ржавой лестнице и изо всех сил старался не смотреть вниз. Я вылез на крышу. Здесь меня ожидал лунный пейзаж – покрытое толем черное пространство, посреди которого, словно приземистый космический корабль из романов Верна, высилась цистерна для холодной воды. За цистерной я обнаружил голубятню – полуразрушенную конструкцию из досок и металлической сетки. Я открыл сломанную дверцу, заглянул внутрь и увидел останки стаи Стонлоу: лежащие навзничь крошечные скелеты, с клочками серых перьев. Посреди этой ужасной картины на боку лежала новая жертва – голубь Мины.
Не знаю, как он проник в заброшенную голубятню. Я с трудом пролез через спутанную сетку и склонился над голубем. Презрев предостережения Кроули об угрозе заразиться и преодолевая отвращение, я протянул руку и дотронулся до голубя, посланца Уолтера. Птица была холодной и недвижимой, словно камень, покрытый войлоком, казалось, она была мертва уже несколько дней.








