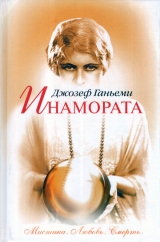
Текст книги "Инамората"
Автор книги: Джозеф Ганьеми
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Джозеф Ганьеми
ИНАМОРАТА
Инамората(англ.) – возлюбленная, любимая. Заимствовано из итальянского, где innamorata буквально означает: «вдохновленная любовью».
Посвящается Стейси и еще двум недоверчивым скептикам – Джону Коэну и Говарду Сандерсу.
Часть первая
ПУТЕШЕСТВИЕ К ПРИВИДЕНИЯМ
1
– Загипнотизируй ее.
Я покосился на девушку, которую Халлидей подталкивал ко мне, словно девственницу для жертвоприношения. Это была тонкая, как сигарета, длинноногая второкурсница из Рэдклиффа[2]2
Колледж Рэдклифф – престижный частный колледж высшей ступени гуманитарного направления для девушек в г. Кембридже, штат Массачусетс. Основан в 1879 г.
[Закрыть] с черным пучком на голове. Брови ее были подведены, что придавало ей удивленный вид. Девица близоруко рассматривала меня, словно лицо мое было для нее головоломкой, которая распадалась на отдельные детали и никак не желала складываться в единую картинку.
Я обернулся к Халлидею.
– Прости, не понял?
– Загипнотизируй ее, Финч, – повторил он. – Всем известно, ты мастак по этой части.
– Ты ошибаешься.
– Ах, вот как? Может, спросим тогда сестренку Дики Ходжсона?
Халлидей глянул на меня с вызовом. Сукин сын понимал, что подцепил меня на крючок. Я отыскал взглядом ближайший выход – он был в противоположном конце Эмерсон-холла – и прикинул, есть ли у меня шансы улизнуть, пока Халлидей не собрал толпу. Несколько лет назад я, может быть, и рискнул, но после введения сухого закона на закрытых рождественских вечеринках психологического факультета стало просто не протолкнуться. Путь к свободе мне преграждала танцующая фокстрот толпа подвыпивших кандидатов в докторанты. Что ж, Халлидей загнал меня в угол. Но пусть не думает, что так легко со мной справился.
– Я не могу ее загипнотизировать, Вик.
– Почему?
– Во-первых, она пьяна.
– Вовсе нет! – Девица топнула об пол ногой в атласной туфельке. Я метнул в ее сторону негодующий взгляд, но, увы, слишком поздно. Несколько наших сокурсников услышали шум и, почувствовав приближение скандала, направились в нашу сторону. Халлидей тоже не терял времени даром и постарался развить успех.
– Сюда, леди и джентльмены! – выкрикивал он, словно зазывала на карнавале. – Наш местный доктор Калигари[3]3
Доктор Калигари – гипнотизер, персонаж фильма «Кабинет доктора Калигари» (1919) немецкого режиссера Роберта Вине (1881–1938).
[Закрыть] милостиво согласился продемонстрировать свои грандиозные мнемонические способности!
Кто-то выключил граммофон. Танцевальный шлягер оркестра Чарлза Дорнбергера «Ты разбиваешь мое сердце кусок за куском» оборвался на середине, и теперь слышен был лишь ропот возбужденной толпы. Взоры всех присутствующих обратились к нам. У меня перехватило дыхание, а рот наполнился слюной. Казалось, что ожил преследовавший меня кошмар. Хорошо еще, что в этой версии мне посчастливилось остаться в штанах. Одному Богу известно, что творилось в этот миг в головке подружки Халлидея. На меня вдруг накатила волна необъяснимой жалости к бедняжке, которую я даже не знал, как зовут.
Я было повернулся, чтобы подбодрить девушку, но увидел, что она требовательно смотрит на меня: руки скрещены на груди, ножка нервно стучит по ковру. Она метнула на меня испепеляющий взгляд и спросила:
– Ну так чего мы ждем?
– Полагаю… карманных часов.
Еще одна уловка. Мне хватило одной-единственной свечки с именинного пирога, чтобы заставить сестричку Дики Ходжсона взвыть, как гончая при звуке пожарной сирены. Начались отчаянные поиски, я дал всем равные шансы. В послевоенную пору наручные часы перестали считать чем-то недостойным мужчины, по крайней мере, так думали мои товарищи по колледжу. В то же время былые обитатели жилетных карманов разделили судьбу пенсне и моноклей. И я надеялся втайне, что ни у кого их не отыщется.
– Вот!
Я отвесил низкий поклон. Часы переходили в толпе из рук в руки, пока наконец не достигли меня. Странная штуковина, тяжеленькая, похожая на золоченую репу, ее вид в моей руке вызывал в воображении картину освещенного тусклыми свечами кабинета и образ некоего ценителя алкоголя, рассказывающего о том, как вмешательство какого-то предка сыграло решающую роль в покупке Луизианы.[4]4
В 1803 г. США выкупили территорию нынешнего штата Луизиана у наполеоновской Франции.
[Закрыть] Я открыл золотую крышечку и прочел выгравированную надпись: «Правда расположена в центре круга». Возможно, для владельца часов это и так. Я же, хоть и стоял, окруженный толпой зевак, чувствовал лишь смущение и неловкость.
– Сцена в полном твоем распоряжении, – объявил Халлидей.
Я вздохнул и посмотрел на мою строптивую ассистентку.
– Будьте любезны для начала сообщить нам ваше имя.
– Веда, – произнесла она с вызовом.
– Итак, Веда, – начал я, – пожалуйста, сделайте несколько глубоких вдохов и расслабьтесь… Вот так… Правильно… Когда почувствуете, что готовы, сосредоточьте свое внимание на этих часах…
Я стал раскачивать часы словно маятник взад-вперед, взад-вперед перед весьма скептической физиономией Веды.
Поначалу девушка сопротивлялась, но потом стала следить за движением часов. Я опасался, что она слишком пьяна и не сможет сконцентрировать внимание. Требуется серьезная дисциплина ума для того, чтобы оградить себя от ненужных мыслей. Однако враждебность, которую девица испытывала ко мне, похоже, подействовала на нее успокаивающе, и спустя какое-то время веки ее отяжелели. Веда легко погрузилась в состояние транса, для чего мне достаточно было произнести лишь пару ободряющих фраз. Впрочем, чтобы развлечь зрителей, я таки устроил небольшое представление: сверлил девушку мрачным, зловещим взглядом и пытался выставить себя этаким Мефистофелем, что не так-то просто, когда тебе всего двадцать три и ты еще бреешься через день. Наконец девица Халлидея достигла переходного состояния между бодрствованием и покоем, и я понял, что ее сдерживающие рефлексы почти отключились.
К сожалению, не только мне было известно об этом.
– Посмотрите, леди и джентльмены, – начал Халлидей, – вот как сильные мужи подчиняют себе восприимчивый женский мозг.
В толпе послышались аплодисменты. Какой-то весельчак пронзительно свистнул. Я метнул в сторону наглеца убийственный взгляд и призвал к тишине. Девица Халлидея стояла, покачиваясь, будто дым от погашенной свечи. На губах ее блуждала счастливая улыбка, словно ей привиделся приятный сон. Настала пора испытать ее восприимчивость к внушению.
– Ты слышишь меня, Веда?
– М-м-м.
Девушка произнесла это так протяжно, словно я угостил ее чем-то сладким. У меня мурашки побежали по коже. Я был напуган и в то же время, признаюсь, немного возбужден. Поборов желание немедленно вывести Веду из транса, я превратил свой мозг в кинокамеру, которая фиксировала постепенное нарастание возбуждения у моей ассистентки: как слегка припухли ее губы под слоем губной помады, как покрылись гусиной кожей руки, как при каждом еле заметном вдохе раздувались ее ноздри. Вот она вздрогнула, словно от сквозняка. Я стоял так близко, что мог заметить, что под шелковым платьем нет стягивающего грудь корсета.
Из-под моего локтя вынырнул Халлидей.
– Забавно, – прошептал он, оглядывая девушку с ног до головы, – из нашей Веды вышла бы потрясающая Саломея…
– Забудь об этом.
– Ты прав, мы придумаем что-нибудь получше, – произнес он. – Что-нибудь действительно незабываемое… такое, о чем она на самом деле мечтала.
– Ничего не выйдет.
– Что не выйдет?
– Я не могу заставлять ее под гипнозом делать то, чего она не хочет.
– Потому что это запрещено кодексом чести гипнотизеров?
– Скорее механизмом действия подсознания.
Халлидей выслушал мой отказ с кислой миной. Как и многие в те годы, он попал под влияние бихевиористов, таких как Д. Б. Уотсон,[5]5
Джон Бродес Уотсон (1878–1958) – американский психолог, основоположник бихевиоризма.
[Закрыть] который рассматривал человеческое сознание как побочный эффект сверхраздражения нервной системы и поэтому не считал его достойным научного исследования. Впрочем, Халлидей, слава Богу, понимал, что он полный профан в вопросах бессознательного. Я видел, как он прикидывает в уме, верить мне или нет. Но я на самом деле сказал правду. Вопреки расхожему мнению почти невозможно заставить человека под гипнозом делать что-то против его воли. Я это не у Фрейда вычитал, а, подобно большинству гипнотизеров-самоучек, этаких самозваных Свенгали,[6]6
Свенгали – зловещий гипнотизер, герой романа «Трильби» (1894) английского писателя Джорджа Дюморье (1834—96).
[Закрыть] дошел своим умом после многочисленных проб и ошибок, да еще мне помогла заказанная по почте брошюрка «Объяснение гипноза».
Халлидей, прищурившись, покосился на меня. Он не мог смириться с моим отказом.
– В таком случае отчего бы нам не проверить вашу гипотезу, доктор?
Не успел я и рта раскрыть, а он уже обратился к зрителям, призывая высказывать свои предложения. Происходящее все больше напоминало плохое шоу. Посыпались предложения: от дурацкого «Пусть она проглотит золотую рыбку» до садистского «Пусть представит, что у нее выпали все волосы». Кто-то предложил дать девушке стакан воды и внушить, что это шампанское. Сказать по правде, идея показалась мне достаточно забавной, учитывая, что предложивший ее сжимал в руке бокал разбавленного спирта, который какой-то мошенник продал ему как джин.
Выждав пару минут, Халлидей покачал головой – ни одно из предложений не пришлось ему по вкусу. Опасаясь, что зрители утратят к нам интерес, он схватил меня за локоть и зашептал в самое ухо:
– Бога ради, Финч, я-то считал, что все евреи семи пядей во лбу. Придумай же что-нибудь, пока мы окончательно не опозорились!
Вот оно. Еврей. Я и раньше подозревал, что вопрос о моей национальности будоражит умы многих в нашем университете, но прежде у меня не было доказательств. Однако Халлидей ошибался: Финч, это сокращение от Финночиаро – на самом деле я вырос в итальянской католической семье. Краска прилила к лицу. Я покраснел. Кулаки сами собой сжались. Я почувствовал, что коктейль из адреналина и выпитого алкоголя взывает к отмщению…
А потом вдруг возмущение сменилось целительным покоем. Словно наркотический дурман остудил мою кровь и придал мне уверенности. Я посмотрел на загипнотизированную девушку, ожидавшую моих приказаний, потом обернулся к Халлидею:
– Так ты желаешь чего-нибудь позабавнее?
– Да, и постарайся успеть до наступления Нового года, старик.
– Что-то, чего бы ей и в голову не пришло делать наяву…
– Вот-вот, а иначе какой от твоего гипноза толк. – Халлидей подмигнул зрителям.
– Ладно, – кивнул я, повернулся к девице Халлидея и приказал: – Поцелуй меня!
Толпа замерла, словно все разом вдохнули и затаили дыхание, ожидая реакции Веды. Поначалу показалось, что девушка ничего не слышала, но спустя несколько мгновений на лице ее появилась слабая улыбка. Мое сердце забилось как сумасшедшее, когда Веда обвила руками мою шею. Все происходило словно само собой, подобно тому, как сила гравитации несет вниз с горы сани. Миг – и мы уже целуемся, или, скорее, она целует меня: жадно, открыв рот и издавая короткие звуки, которые я не могу назвать иначе как животными. Я бы хотел сказать, что краем глаза заметил, как побледнел Халлидей. Но это было бы неправдой. На самом деле я был поглощен поцелуем и не замечал ничего, кроме одобрительного свиста толпы.
Но тут кто-то крикнул:
– Крысы!
Зверьки мчались по восточному ковру. Две дюжины взрослых тварей шмыгали между кожаными башмаками и дамскими туфельками. Они были лысые, как монахи-трапписты, их маленькие розовые черепа были обриты для стереотаксической операции. Я сам брил их: я был им и парикмахером, и душеприказчиком. Я услышал писк и догадался, что один из моих подопечных нашел свою смерть под каблуком Луиса. Оттолкнув Веду в сторону, я ринулся в толпу. Стоял страшный гвалт, но крики перекрывал зычный смех какого-то шутника. Я ползал на четвереньках среди леса ног в брюках и в шелковых чулках, стараясь сгрести в охапку как можно больше крыс. Но, когда мне наконец удалось окружить горстку мечущихся животных, кто-то стукнул меня по голове, и я рухнул на ковер, оглушенный ударом. Очки отлетели в сторону. Крысы разбежались по углам и одна за одной нашли свой конец под ногами топочущего стада девиц и философов.
Час спустя в ожидании решения своей участи я сидел на неудобном стуле перед кабинетом заведующего кафедрой психологии доктора Уильяма Маклафлина, с которым прежде знаком не был. Наше знакомство состоялось в самых неблагоприятных обстоятельствах: посреди ночи, после разыгравшейся трагедии, в результате которой погибли или пропали без вести почти тридцать крыс, утрата которых грозила сорвать эксперимент, проводившийся на факультете, – все это только усугубляло мое положение. Сказать по чести, я всерьез опасался, что разговор не ограничится распеканиями и меня уволят.
В отчаянии я смотрел в окно. Там, на улице, мелкий снежок скреб по мощенным кирпичом дорожкам Гарвардского двора, предвещая очередной налет северо-западного ветра. Зима уже вступила в свои права и каждое воскресное утро доставляла к нашим дверям вместо газеты по снежному сугробу. Вслед за снегом пришли лютые холода, ледяной ветер заставлял слезиться глаза несчастных отверженных, которые, как и я сам, вынуждены были жить на окраине Кембриджа. Чтобы хоть как-то спастись от обморожения, я хранил в памяти список всех мест, где можно погреться в радиусе трех миль, и знал, как добраться до них самым коротким путем. Этой ночью мне предстояло возвращаться домой без пальто, поскольку в сутолоке после вечеринки кто-то прихватил его, оставив лишь перчатки и кашне. Я пытался утешить себя тем, что все равно собирался покупать новое, хотя по-прежнему не знал, на какие средства. От чека, присланного отцом, у меня осталось всего доллар тридцать центов, вот уже три вечера я ужинал, намазывая на хлеб кетчуп. Я понимал, что, если потеряю работу, которая состояла в уходе за лабораторными крысами, мне останется лишь поудобнее устроиться в одном из уличных сугробов и заснуть навечно. Я смутно припоминал, что в медицинской школе (куда я попал благодаря любезности одного из наших самых неприятных профессоров) нас учили, что переохлаждение один из наиболее безболезненных способов самоубийства…
– Он готов принять тебя, Финч…
Из кабинета Маклафлина появился пристыженный Халлидей, казалось, он стал на несколько дюймов ниже, и спеси в нем тоже поубавилось. Столкнувшись со мной в дверях, Халлидей так двинул меня плечом, что я ударился о косяк, наскочил на дверную ручку и скривился от боли.
– Мне очень жаль, – пробормотал Халлидей, но по его виду трудно было в это поверить.
Маклафлин стоял у окна и смотрел на снег. Учитывая неурочный час, я предполагал увидеть его в халате и пижаме и был весьма удивлен, застав облаченным словно для похода в церковь: в дорогом шерстяном костюме из ткани в рубчик, в рубашке со строгим французским воротничком и манжетах с запонками. Сказать по чести, я бы предпочел пижаму. С тяжелым сердцем представил я, как старик вставал с постели и искал в ящиках нужные запонки.
– Садитесь, мистер Финч, – произнес Маклафлин, не оборачиваясь.
Я поспешил занять ближайшее кресло по другую сторону великолепного стола из красного дерева. Профессор по-прежнему не обращал на меня внимания, словно избрал проверенную тактику рассерженных родителей, которые хотят дать своему отпрыску Время Подумать над тем или иным поступком. Тишина становилась все тяжелее, ее нарушало лишь бульканье в батарее да изредка – урчание у меня в животе. Я осмотрелся и с удивлением обнаружил на книжных полках среди обычного набора книг по социальной психологии (включая и труды самого хозяина в последнем, третьем переиздании) несколько работ по оккультизму, таких как «На пороге невидимого» и «Современный спиритуализм». А на стене среди дипломов Гарварда и Оксфорда (аттестат о присуждении докторской степени от 1889 года) я заметил и почетную грамоту Американского общества исследователей психических явлений. Но я не успел как следует изучить написанный каллиграфическим почерком текст, поскольку Маклафлин решил наконец прервать молчание и приступил к моему допросу.
– Не могли бы вы, мистер Финч, – начал он, и я уловил в его голосе британский акцент, – поделиться со мной своими соображениями о том, как лабораторные крысы профессора Шнайдера смогли сбежать из подвала?
– Полагаю, это была чья-то неудачная шутка.
– Не ваша.
– Конечно, нет, – возразил я и поспешно добавил: – Сэр.
– Понятно.
Он по-прежнему не удостаивал меня взгляда. Снова повисло неловкое молчание.
– Я не большой сторонник сухого закона. Сказать по чести, я не понимаю, что плохого, если человек пропустит по рюмочке после трудового дня… или в конце семестра, что, видимо, имело место в данном случае. Конечно, лучше, если это будет шерри. – Маклафлин наконец-то отвернулся от окна. – Хотя мне говорили, что студенты-выпускники отдают предпочтение коктейлю из древесного спирта или технических растворителей, не так ли, мистер Финч?
Я подался вперед, готовясь отразить обвинения.
– Я не имею никакого отношения к контрабандному джину. А что касается крыс профессора Шнайдера, я убежден, что закрыл лабораторию после шестичасового кормления. Видимо, кто-то украл ключи из кабинета или у вахтера. Дело это нехитрое…
Маклафлин жестом прервал меня. Он расстегнул пиджак и заложил большие пальцы в жилетные карманы, эта поза была мне знакома по карикатуре в нелегальной студенческой газете. Теперь я воочию мог убедиться, что карикатурист сумел превосходно передать выражение лица своего персонажа: бледная ирландская кожа, копна седых волос, благородные черты лица, которое с годами немного сморщилось, словно старая бумага. Но вот глаза неизвестному художнику не удались, на самом деле они были голубыми как у младенца, и в них светилось детское любопытство. С полминуты эти глаза с пристрастием, не мигая, изучали меня сквозь стекла очков, чтобы решить мою судьбу. Наконец Маклафлин заговорил:
– Полагаю, что факультет поступает неразумно, тратя ваши таланты на заботу о лабораторных крысах.
Ну вот.
– Пожалуйста, профессор, позвольте мне объяснить… – В моем голосе зазвучали нотки отчаяния.
– Никаких объяснений не требуется, Финч.
– Но мне необходима эта работа, – взмолился я. – Если вы меня уволите, мне придется покинуть Гарвард – я и так едва свожу концы с концами. Я не какой-нибудь Халлидей, у меня нет папаши-сенатора.
Маклафлин заинтересовался.
– А чем он занимается?
– Кто? – не понял я.
– Ваш отец.
Мое замешательство было красноречивее моего ответа:
– Он торгует овощами в Норд-Энде.
– А я-то думал, он парикмахер.
– Почему вы так решили?
Маклафлин опустился в кресло у стола и пояснил:
– Ведь вас перевели к нам из медицинского колледжа…
Он раскрыл лежавшую перед ним папку, сверился с документами и продолжил:
– Там вы были на отличном счету, полагаю, ваш переход к нам был вызван причинами личного характера: видимо, медицина никогда не была пределом ваших мечтаний. В этом нет, конечно, ничего предосудительного. Не вы первый, кто по настоянию родителей выбирает стезю, которая не соответствует его устремлениям. Я и сам отец, и мне понятно желание родителей видеть своих детей лучше устроенными в этой жизни. Вот я и спросил себя, какой торговец или лавочник посчитает врачебную практику вершиной жизненной карьеры, и вспомнил, что среди итальянцев-иммигрантов медицинские советы и знахарство часто являются обязанностью местного парикмахера.
Он захлопнул мою папку и продолжил:
– Иными словами, Финч, я сделал неверный вывод из имевшихся в моем распоряжении фактов.
На самом деле профессор был недалек от истины. Перед тем как эмигрировать в Америку, мой отец год изучал медицину в Университете Болоньи и с тех пор всегда держал справочник по анатомии у себя под прилавком на случай, если понадобится его неофициальная консультация. Слова Маклафлина, несомненно, произвели на меня впечатление, хоть я и не всегда успевал следить за ходом его рассуждений.
– Но как вы догадались, что я итальянец?
Теперь смутился Маклафлин.
– Мне казалось, это само собой разумеющимся. У вас же средиземноморские черты лица.
Я не смог сдержать удивленного смешка. Маклафлин вопросительно посмотрел на меня, но я лишь покачал головой, давая понять, что объяснять все слишком долго, и задал последний остававшийся у меня вопрос:
– А почему вы решили, что мой отец не врач?
– Судя по моему опыту, Финч, – проговорил Маклафлин осторожно, – сыновьям врачей нет нужды хвататься за любую работу, чтобы заработать на обучение.
Несмотря на его сочувственный взгляд, я покраснел до корней волос.
– Вообще-то дела у него идут нормально, – попытался я защитить своего отца, – пожалуй, я был неправ, представив его простым зеленщиком, скорее, он занимается импортом овощей.
– Ну конечно.
– Понимаете, просто он недоволен. Он спал и видел, что его сын станет врачом. Я пытался втолковать ему, что психология сулит не меньше прибыли, чем медицина, объяснял, что люди вроде Брилла и Ватсона гребут деньги лопатой на Мэдисон-авеню…
– Совершенно верно.
– Во всяком случае, я уверен, что, когда он поостынет, все наладится и мне не надо будет из кожи вон лезть, подрабатывая здесь и там.
– Несомненно. Но пока суд да дело… – Маклафлин повернулся на стуле и стал искать что-то в стопке журналов, лежавших на батарее. – Пожалуй, я мог бы предложить вам работу более соответствующую вашим способностям, чтобы вы могли заниматься одним-единственным делом и не разрываться на части.
Обернувшись вновь ко мне, Маклафлин протянул через стол какой-то журнал.
– Вы знакомы с «Сайентифик американ»? – спросил он.
Это было мягко сказано: «Сайентифик американ» был главным чтением моего детства, с тех пор как я проглотил Верна и Уэллса. Там всегда было полно статей о достижениях рентгенологии и картинок с изображениями дирижаблей и мощных локомотивов. Глянцевые страницы журнала питали мое романтическое воображение, и лет в двенадцать я на какое-то время вбил себе в голову, что хочу стать инженером (а временами – воздухоплавателем). Но отец положил конец моим мечтаниям. Он считал, что инженер ничем не лучше торговца. Не думаю, что он встречал настоящего инженера, в лучшем случае продал ему яблоко, когда тот спешил на работу, но это не мешало отцу презрительно относиться к этой профессии. Слесари, вот кем были l'ingegneri для моего отца. Чокнутые изобретатели, неспособные прокормить собственных детей. Поэтому он изгнал «Сайентифик американ» из нашего дома, чтобы этот журнальчик не сбивал с толку его единственного сына, который и без того грозил вырасти лоботрясом.
– Откройте на странице 389, – велел Маклафлин.
Я уже лет десять не держал в руках «Сайентифик американ», и, листая страницы последнего номера – от ноября 1922 года, – с удовлетворением отмечал, что журнал почти не изменился. Здесь были сенсационные статьи о «Самом большом плавучем аэродроме» и «О передаче отпечатков пальцев по радио», а также короткие новости из области гражданского строительства и информация о последних запатентованных изобретениях. Я приободрился, почувствовав, что даже бумага пахнет по-старому: клеем и типографской краской.
Я нашел страницу, которую указал Маклафлин, и прочел под заголовком «Честное предложение для парапсихологов» объявление следующего содержания:
$ 5000 за настоящее спиритическое явление
В качестве своего вклада в развитие парапсихических исследований «Сайентифик американ» выделяет сумму в $ 5000, которая будет вручена тому, кто продемонстрирует убедительные доказательства спиритического контакта… «Сайентифик американ» заплатит $ 2500 тому, кто первым предъявит фотографическое свидетельство парапсихического явления на суд авторитетного жюри и $ 2500 кандидату, который предоставит иные видимые доказательства спиритического контакта. Чисто психические явления, такие как телепатия или слуховые галлюцинации, к рассмотрению не принимаются. Конкурс не затрагивает психологические или религиозные аспекты, а учитывает лишь подлинность и достоверность предъявляемых доказательств.
– Да это же уйма денег! – присвистнул я.
– Верно, – кивнул Маклафлин, – и поэтому редакция «Сайентифик американ» обратилась ко мне с просьбой возглавить комитет, который будет испытывать кандидатов. Не трудно догадаться, что подобная сумма неизбежно привлечет всякого рода сомнительных личностей.
И кто их за это осудит? Будь у меня две с половиной тысячи долларов, я бы зажил по-человечески, да еще бы автомобиль купил – причем не какую-нибудь подержанную колымагу, а новенький спортивный «пирс-эрроу» с бархатными сиденьями и электрическим стартером. Обладатель подобного авто всегда будет желанным гостем на фривольных вечеринках, столь порицаемых нашим факультетским капелланом. Жаль только, что я весьма скептически отношусь к паранормальным явлениям, а то бы мигом одолжил где-нибудь спиритическую доску и сам примкнул к конкурсантам. Но, может, я хоть как-то могу подзаработать на этом деле?
– Вы что-то говорили о работе? Маклафлин кивнул.
– Мне нужен помощник. Как раз такой, как вы.
– Боюсь, я не совсем понимаю, какие мои способности вы имеете в виду.
– Профессор Блэктон сказал мне, что вы из тех, кто умеет управляться с паяльником. Это верно, Финч?
– Полагаю, что да, – признал я. – Я смастерил реостат для его будущих экспериментов. Что-то касающееся четкости визуального восприятия при различном освещении.
– Отлично.
– Но вы наверняка найдете сотню студентов-выпускников на инженерном факультете, которые справятся не хуже.
– Вы что, пытаетесь отговорить меня взять вас на работу, Финч? – Маклафлин удивленно вскинул брови.
– Нет.
– Хорошо, потому что я уже принял решение.
Маклафлин склонился над столом и сквозь прицепленные на нос очки посмотрел на какие-то цифры, записанные на факультетском бланке.
– Итак. В большинстве случаев вы будете заняты лишь несколько часов в неделю, но порой ваши обязанности потребуют всего вашего времени. Зарплата остается одинаковой при любых условиях, при этом вам будет позволено пропускать некоторые занятия. Надеюсь, этого достаточно, чтобы убедить вас не покидать Гарвард, – верно, Финч?
Я не знал, что ответить. В конце концов я просто кивнул.
– Отлично.
Мы обсудили кое-какие административные вопросы, и, не успел я опомниться, как беседа была окончена. Мы пожали друг другу руки. Провожая меня до двери, Маклафлин неожиданно спросил:
– Могу я задать вам личный вопрос, Финч?
За пятнадцать долларов в неделю он был волен интересоваться даже тем, как часто я мастурбирую, и я бы не скрыл от него правду.
– Вы были воспитаны в религиозной семье?
– Мои родители католики.
– Истовые?
– Я был служкой у алтаря.
– Вот как.
Мне показалось, что Маклафлин придает слишком большое значение моему ответу, и поспешил добавить:
– Не по своей воле.
– Само собой разумеется! – кивнул он, словно его позабавил мой ответ, и задал новый, не менее странный вопрос.
– Скажите, а вы по-прежнему регулярно посещаете службы?
– Я не переступал порога церкви с похорон моей матери.
– Понятно.
Мы достигли двери кабинета и остановились по разные стороны порога. Маклафлин поблагодарил меня за то, что я не отказался отвечать на столь личные вопросы, еще раз пожал мне руку и пожелал спокойной ночи. Он почти закрыл дверь, но все же решил сказать напоследок:
– Вам следует подумать о своих отношениях с церковью, Финч. На следующей неделе, когда мы будем на Манхэттене, я, если будет время, обязательно свожу вас в собор Святого Патрика. Там совершенно удивительное освещение.
С этими словами он закрыл дверь, оставив меня оторопело стоять на пороге: за всю нашу беседу он ни словом не обмолвился о предстоящей поездке в Нью-Йорк!
2
Путешествие по железной дороге от Бостона до Манхэттена заняло семь часов. Все это время Маклафлин дремал, проверял семинарские отчеты, разбирал почту и совершенно не обращал на меня внимания. Меня это вполне устраивало: уж лучше молчание, чем семь часов вымученной беседы. Возможно, кого-то и задело бы нарочитое небрежение Маклафлина, но меня оно, наоборот, ободряло: значит, он рассчитывает на продолжительное сотрудничество и полагает, что у нас еще будет достаточно времени лучше узнать друг друга. Впрочем, и мне было чем заняться в поездке, Маклафлин снабдил меня кипой журнальных статей и выдержек из книг, которые мне необходимо было прочитать. Что-то вроде краткого курса истории спиритизма.
Некоторые статьи были мне знакомы. Меня, словно сороку, привлекало любое яркое проявление Необычного – прежде всего это касалось гипнотизма. (Психоаналитик, несомненно, объяснил бы мой интерес к тайным знаниям желанием компенсировать детское чувство беспомощности и неловкости, но я вижу в нем лишь невинное, пусть и несколько навязчивое, любопытство.) Так что я уже был наслышан о печально знаменитых сестрах Фокс из Гайдсвилля, штат Нью-Йорк. В 1848 году они обнаружили спиритические постукивания, что положило начало движению спиритов, которое к 1888 году достигло столь значительного размаха, что смогло пережить признание сестер в том, что все их опыты были лишь детскими шалостями, а загадочные постукивания, которые они приписывали духам, на самом деле издавали сами пальцами ног. Но в толстенном досье, которым снабдил меня Маклафлин, я нашел и сведения, которые прежде мне были неизвестны. Я прочел о том, как спиритизм, перебравшись через океан, быстро укоренился на богатой предрассудками европейской почве и принес новые плоды в виде кружка Голайер в Англии и Эвзапии Палладино в Италии. Я узнал, что это движение породило дюжину религиозных учений – от оккультистской теософии до христианской науки об исцелении верой. Я прочел об ослаблении движения на рубеже веков, а также, хотя это мне и так было известно, что спиритизм вновь привлек к себе внимание общества. В подтверждение чего Маклафлин снабдил меня отчетом Королевской психиатрической клиники Эдинбурга за 1920 год, в котором главный врач Джордж М. Робертсон писал: «Те, кто понес тяжелые утраты во время войны, но сохранял самообладание в пору массовых бедствий… тяжелее справляются со своим горем в мирные дни, хотя прошло уже немало времени. Многие из них пытаются обрести утешение в спиритизме».
Я считал этот возродившийся интерес к спиритическим сеансам – «путешествий к духам», как мы их называли, – очередным поветрием, попыткой найти применение карточному столику после того, как вам надоел маджонг. Что ни год появлялись новые увлечения – от новомодного танцевального помешательства, называемого «фокстрот», до последней студенческой «шуточки» – глотания золотых рыбок. Я давно отказался от попыток угнаться за Новейшим и Величайшим, поскольку не успевал я овладеть новым танцем, как переменчивая публика, словно стайка рыбешек, устремлялась к новым соблазнам. Но, чем больше я читал о возрождении спиритизма, тем больше убеждался, что это не модная причуда, а скорее проявление серьезного голода, потребности, которая то ослабевает, то вновь возрастает, но никогда не исчезает совсем. Чем яснее я это сознавал, тем понятнее был мне интерес, с которым относились к этому явлению социологи.








