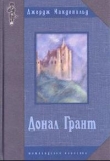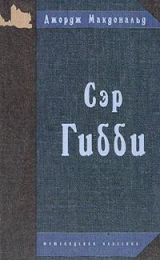
Текст книги "Сэр Гибби"
Автор книги: Джордж МакДональд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 39 страниц)
Потянув за верёвку, свешивающуюся через отверстие в двери, Гибби приподнял засов и вошёл.
На низком трёхногом табурете сидела женщина, обернувшаяся, чтобы посмотреть, кто пришёл. Гибби увидел сероватое лицо с простыми, хорошими чертами и ясными серыми глазами. Густые волосы над низким лбом были наполовину седыми, и большая их часть скрывалась под белыми оборчатым чепцом. Чистый капот и передник из синего ситца покрывали голубую фланелевую юбку, синие чулки и крепкие башмаки завершали её наряд. На коленях у женщины лежала книга. Каждый день, управившись по хозяйству и прибрав в доме, она садилась, чтобы, по её собственному выражению, побыть в покое и утешиться.
Увидев Гибби, женщина тут же поднялась. Явись к ней сам архангел Гавриил, чтобы позвать к Престолу благодати, она и то не могла бы посмотреть на него внимательнее и приветливее, чем смотрела сейчас на незваного гостя. Ростом она была довольно невысока, но держалась прямо и легко.
– Бедный ты, бедный, – сказала она с материнской жалостью в голосе. – И как это тебя занесло на такую высоту? Ты хоть знаешь, что здесь кроме нас никого нет? Тебе чего? Да у меня и нет ничего.
В ответ малыш не издал ни звука, а лишь широко улыбнулся одной из своих чарующих улыбок. Она стояла и смотрела на него – не просто молча, но как будто не в силах выговорить ни слова. Она сама была матерью. Если женщина относится по–матерински только к своим детям, она ещё не мать, а просто женщина, родившая детей. Сейчас же перед Гибби стояла одна из Божьих матерей.
Одиночество, тишина и многолетняя дружба с просторами и простотой дикой природы пробуждают в человеке глубокую, поистине удивительную зоркость.
Как именно она будет проявляться, зависит от того, какое воспитание и образование получил этот человек; и в некоторых людях эта прозорливость принимает подчас весьма причудливые формы, нисколько не утрачивая при этом ни своей мудрости, ни правдивости.
Как раз перед тем, как Гибби постучался и вошёл в дом, Джанет читала и перечитывала Господни слова: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Сердце её было ещё полно этими словами, когда она подняла глаза и увидела Гибби. На одно мгновение яркое, детское воображение природного кельта подсказало ей, что перед ней стоит Сам Господь. Какая–нибудь другая женщина могла бы ошибиться ещё сильнее, увидев перед собой всего–навсего оборванного ребёнка. И раньше, лёжа ночами возле мужа и слушая вой ветра за окошком, – или когда Роберт уходил с овцами на гору, а Джанет оставалась одна на огромной, пустынной горе – она невольно думала, что, быть может, Господь тоже иногда спускается с неба где–нибудь неподалёку, чтобы навестить двух Своих овец, забравшихся так высоко на гору, и напомнить им, что Он нисколько не забыл о них и не потерял из виду среди холмов и долин. И вот перед ней стоял мальчуган – и был то Сам Господь или нет, он явно был голоден. Что ж! Кто знает – может статься, Господь и вправду страдает от голода в каждом из голодных малышей сего мира?
Итак, Гибби неподвижно стоял посреди хижины, безоблачно улыбаясь, ни о чём не прося, ни на что не намекая и лишь изливая свет своих бесшабашных, но спокойных глаз на пожилое, задумчивое лицо глядящей на него женщины и чувствуя себя в безопасности рядом с её материнской нежностью и жалостью.
Чем дольше Джанет смотрела на него, тем больше чувствовала непонятное, радостное благоговение; оно как будто спустилось свыше, обволакивая её мягкими складками. Она невольно склонила голову и, подойдя к малышу, за руку подвела его к своему табурету. Усадив маленького гостя, Джанет выдвинула на середину комнаты выскобленный добела стол, достала из каменной ниши в стене тарелку с овсяными лепёшками, вынула деревянную миску, ушла с ней в хлев, скрывавшийся за побелённой дверью, вернулась, неся в миске молоко напополам со сливками и поставила всё это на стол. Затем она пододвинула стул и сказала: – Вот, милый мой, садись–ка и поешь. Будь ты Сам Господь Бог – а может, ты и есть Он; кто знает, вон ты весь какой истрёпанный да нищий! – лучше мне нечего тебе предложить. Так что вот тебе всё, что есть. Разве только яичко ещё принести, – тут же, спохватившись, прибавила она, повернулась и вышла.
Вскоре она вернулась, с довольным видом неся в руке два яйца, которые тут же зарыла в горячий торфяной пепел и оставила там печься, пока Гибби за обе щёки уплетал пухлые лепёшки, сладкие и сытные, и пил такое молоко, какого ни один городской мальчишка не в силах себе даже и представить. Это и впрямь была пища под стать небесным ангелам; да и Сам Господь был бы рад утолить ею Свой голод после долгого дня за верстаком с топором, рубанком и пилой – такая она была добрая и простая. Джанет вновь присела на свой низенький трёхногий табурет и взяла в руки вязание, чтобы малыш не чувствовал себя неловко и не думал, что она смотрит, как он ест, или ждёт не дождётся, когда он насытится. То и дело она вскидывала глаза на незнакомого мальчугана, постучавшего к ней в дверь, но он не говорил ни слова, и в ней всё больше и больше росло ощущение таинственности и чуда.
Тут послышался шум и царапание когтистых лап, засов подскочил, и в следующую секунду в хижину влетел пастуший пёс – великолепный, породистый колли, – держа в зубах крошечного, длинноногого, полумёртвого ягнёнка, которого он тут же опустил на колени хозяйке. Это был поздний ягнёнок; его мать недавно продали фермеру с долины, но она сбежала от новых хозяев и, несмотря на огромное расстояние, пробралась назад на гору, чтобы её сыночек мог увидеть свет на том же месте, где родилась когда–то она сама. Через минуту за дверью послышалось её встревоженное «б–бе–е». Она толкнула носом дверь, протрусила по комнате и встала рядом с Джанет, задумчиво разглядывая последствия своих материнских амбиций. Вымя её было полно молока, но ягнёнок был слишком слаб, чтобы сосать. Джанет поднялась, подошла к боковой стене и откинула какую–то крышку. Можно было подумать, что она открывает старый сундук для белья, но на самом деле это была кровать. Отвернув краешек стёганого покрывала, Джанет положила ягнёнка на кровать и бережно покрыла тёплым одеялом. Потом она вынула деревянную миску, похожую на большое блюдце, подоила туда овцу и отнесла блюдце к кровати. Однако как именно ей удалось напоить ягнёнка, Гибби так и не увидел, хотя его шустрые глаза и любящее сердце готовы были вместить в себя каждое её движение.
Тем временем, пёс, совершив свой долг по отношению к новорожденному ягнёнку и, скорее всего, уже позабыв о нём, уселся на хвост, поднял свои смелые, доверчивые глаза и уставился на маленького оборвыша, сидящего на месте хозяина и насыщающегося туком земли. Оскар был настоящим джентльменом и никогда не учился в школе, а посему не знал, что лохмотья являются важным признаком низкого общественного положения и заслуживают, чтобы их как следует облаяли. Гибби был странником и пришельцем, и поэтому Оскар приветствовал его со всем страннолюбием, на которое только был способен, и то и дело лизал маленькие загорелые пятки гостя, которые забрели уже так далеко.
Как любое дикое существо, Гибби ел быстро и прикончил всё, что ему предложили, ещё до того, как Джанет закончила кормить ягнёнка. С сердцем, полным самой нежной благодарности, он поднялся и выскочил из хижины, даже не думая, что это может быть истолковано как грубость. Когда Джанет, наконец, обернулась, она увидела, что Оскар сидит и смотрит на пустой стул.
– А паренёк–то куда делся? – спросила она у пса, но тот в ответ лишь тихонько проскулил, то ли с сожалением, то ли о чём–то спрашивая её саму.
Может быть, подобно Исаву, он всего–навсего вопрошал, не осталось ли и ему какого благословения, а может, как и она, просто не знал, что думать об исчезнувшем мальчугане. Джанет поспешила к двери, но шустрые ноги Гибби, окрепшие от проглоченной еды и отдохнувшие до самых кончиков пальцев, уже унесли его ещё выше по горе, туда, где она уже не могла его видеть. С задумчивым видом Джанет вернулась к столу и так же задумчиво убрала тарелку с миской. В обычный день она снова уселась бы за свою Библию, но из–за своей щедрости к незнакомцу ей снова пришлось поставить на огонь чугунную сковороду, чтобы напечь новых лепёшек к приходу мужа. Дело было нехитрое: надо было лишь добавить в овсянку воды, замесить да поставить сковороду на огонь, но у Джанет ещё не прошёл зимний ревматизм, болели суставы, и поэтому испечь ещё дюжину лепёшек было для неё самой трудной и тяжкой жертвой сегодняшнего гостеприимства. Многим людям совсем нетрудно отдать то, что у них есть; но жертва усталости и боли никогда не бывает лёгкой. К тому же, как раз боль и усталость являются той подлинной солью, которой приправляются все жертвы. Мысль о том, что муки больше нет и не будет до следующей субботы, когда младший сын должен принести с мельницы очередной мешок, нисколько её не обеспокоила.
Когда лепёшки были испечены, Джанет убрала всё по местам и подмела очаг.
Затем она подоила овцу, отправила её попастись на скудную травку, а сама снова взяла Библию и уселась почитать. Ягнёнок лежал на полу возле её ног, высовывая головёнку из фланелевых складок её новой юбки, и каждый раз, когда взгляд её перебегал с книги на новорождённого малыша, она почему–то чувствовала, что этот ягнёнок был тем самым мальчуганом, что ел её хлеб и пил её молоко. Она почитала ещё немного, и всё вдруг снова переменилось: ей показалось, что ягнёнок – это Сам Господь, одновременно и агнец, и пастырь, пришедший просить у неё приюта и пищи. Тогда, благочестиво испугавшись, что воображение может затуманить для неё реальность, Джанет встала на колени и обратилась к Другу Марфы, Марии и Лазаря, прося Его придти и вечерять с нею, как Он и обещал.
Джанет много лет не была в церкви; уже давно она не могла так далеко ходить. У неё не было ни одной книги, кроме самой лучшей, и никто не помогал ей понять её, кроме Всевышнего, так что вера её была простой, крепкой, настоящей и обнимающей всё вокруг. Каждый день она читала и перечитывала великое Евангелие – то есть, ту простую благую весть, что записали для нас Матфей, Марк, Лука и Иоанн, – и со временем стала одной из самых благородных женщин в Божьем Царствии, одной из тех, что наследуют землю и потихоньку созревают, чтобы, наконец, воочию увидеть своего Господа. Ибо учителем её был Сам Господь и разум Христов, живущий в ней.
Из богословия она не знала почти ничего – разве только то, чему научил её Он Сам. Она знала, Кто Он такой. А что касается любого другого богословия, то чем его меньше, тем лучше. Потому что никакое богословие не стоит того, чтобы его изучать, кроме великого Теос Логос, ведь только оно истинно.
Знать Его – значит, знать Бога. Тот, кто слушается Его, – лишь он знает Его и способен Его узнать; тот, кто слушается Его, не может не узнать Его.
Для Джанет Иисус Христос был не предметом так называемых богословских рассуждений, но живым Человеком, Который так или иначе слышал её всякий раз, когда она взывала к Нему, и посылал ей помощь, о которой она просила.
Глава 12
Глашгар
А Гибби карабкался всё выше и выше по горе. Тропинка давно пропала, но когда внутри звучит лишь один призыв «вверх» (а только одно это слово и звенело в голове у Гибби), вряд ли человек станет сомневаться, правильно ли идёт, даже если вокруг не видно ничьих следов. Вообще, чем труднее путь, тем меньше на дороге чужих следов, тем меньше на ней указателей – а часто вокруг нет вообще ничего кроме крутых скал. Гибби подымался всё выше. Гора постепенно становилась круче и пустыннее, и вскоре малыш уже не мог думать ни о чём постороннем, и всё его внимание сосредоточилось на подъёме. Однажды он вдруг обнаружил, что совершенно потерял свою речку, и не мог вспомнить, когда и где это произошло. Под ним повсюду простирались лишь красные гранитные скалы, засыпанные мелкими камнями и обломками, не выдержавшими дружного натиска воздуха, ветра, ручьёв, дождя, света, жары и холода. Вершина горы Глашгар возвышалась всего на три тысячи футов, но склоны её были круче и неприступнее, чем у остальных гор, и даже по сравнению со своими могучими соседями она казалась небывало внушительной и массивной.
Пока Гибби карабкался вверх, ему ни разу не приходило в голову, что может настать такой момент, когда карабкаться дальше будет просто невозможно. Он полагал, что там наверху тоже есть овсяные лепёшки, молоко, пастушьи псы и овцы. Только стоя на самой вершине, он понял что у земли тоже бывает конец, и эта вершина предстала перед ним последним пределом перед просторной беспредельностью, такой прозрачной и податливой, что человеческая нога никак не могла на ней устоять. Солнце склонялось к двум часам пополудни, когда Гибби, почти не чувствуя усталости, залез на последний уступ, подтянулся на руках и забрался на плоскую, голую верхушку. Он выбежал на её середину с таким видом, как будто собирался с разбега запрыгнуть на небеса, но вдруг остановился и с изумлением, а сперва даже и с разочарованием, увидел, что дальше лезть некуда и теперь, куда бы он ни пошёл, ему придётся идти только вниз. Он ещё ни разу не бывал на самом верху. Раньше ему приходилось укрываться в норах и углублениях. Теперь же весь мир лежал у него под ногами. Наверху было холодно, в тенистых местах лежал снег – усталый изгнанник небес и морей, закованный в морозные цепи и приговорённый лежать на верхушке скалы, – но Гибби ничего не чувствовал. Разгорячённый от усилий (вскарабкаться на последний уступ оказалось довольно трудно), Гибби стоял, полной грудью вдыхая небесный воздух, и всем своим существом чувствовал, что стоит сейчас надо всем миром, возвышается на высочайшем гребне всей земли: маленькое пугало в развевающихся лохмотьях, покоритель вершин, открыватель безграничности, царь необъятных просторов. Только он один знает об этом чуде! Гибби ни разу не слышал слова «поэзия», но сам состоял как раз из того материала, из которого рождаются стихи, и теперь вся дремлющая внутри него поэтичность воспряла и всколыхнулась, как могучий океан, – безмолвный, потому что ничто не преграждает ему путь; молчащий, не способный ни взять тихую ноту, ни властно прогреметь, потому что вокруг него нет пока ни берега, ни скалы человеческой мысли, о которые он мог бы с шумом и плеском разбить свои волны и наконец заговорить.
Гибби уселся на самой вершине, свесив ноги. И тут, в тишине и одиночестве, его сердце стало медленно наполняться из каких–то неведомых источников вечного сознания. Над ним возвышалась необъятная бесконечность, вливающаяся в его глаза парящим голубым куполом, – единственным зримым человеку символом вечности, открывающим нам Небеса. Сердцем и жизнью этого купола было великое и властное солнце, которое уже начало отбрасывать на юг и восток тени бесконечных холмов и горных утёсов, раскинувшихся вокруг. Вниз по холмам и горам деловито бежали речки и ручейки, через все долины спеша навстречу Дауру, который должен был через леса и луга, рощицы и пустыни, скалы и заросшие болотца унести их назад к отцу–океану. За долинами снова вставали горы, за ними – другие горы, за теми – ещё; каждая вершина была окутана своей собственной тайной, и над всеми ними раскинулась глубокая завеса небесного залива. Гибби сидел, смотрел, мечтал и снова смотрел. Огромный город, который раньше составлял для него всю вселенную, затерялся и пропал где–то в неразличимой дали, как никому не нужная вещь. А он, потерявший этот город, забрался на самый высший престол мира.
Воздух был почти неподвижен. На секунду он встрепенулся, погладил малыша по щеке, как нежный пух на птичьём пёрышке, и снова затих. Тишина разрослась и медленно спустилась к нему, становясь всё глубже и глубже. Наконец она загустела так, что казалось, вот–вот заговорит. Казалось, эта тишина состояла из одной великой мысли – и окутывала Гибби со всех сторон, прижимаясь к нему ближе, чем одежда, ближе чем его собственные руки, его собственное тело.
Как описать неописуемое? Слова слишком ясны и чётки, им трудно верить. Если сказать об этом холодно и трезво, Гибби пережил нечто такое, чего не испытывал ещё никогда. Ещё одно звено цепи легло на ворот времени и души; что–то стронулось внутри него, что–то изменилось. Позже, когда Гибби понял, кто такой Бог, научился думать о Нём, желать Его присутствия и верить, что его волю облекает высшая, любящая Воля, – подобно тому, как заботливая куропатка простирает свои крылья над невылупившимися ещё птенцами, – тогда всякий раз, когда к нему приходила мысль о Боге, она являлась в обличии той тишины, которая встретила его на Глашгаре.
Гибби сидел, не сводя глаз с одной из горных вершин, которая притянула его взгляд, потому что была выше всех остальных. Вскоре он увидел, что на ней появилось облачко и начало медленно расти и сгущаться. Оно росло, разрасталось, спускалось вниз, покрывая собой склоны, и скоро вся гора оказалась окутанной в серые покровы туч. Внезапно в самом тёмном месте тучи расступились, открывая глазам Гибби круглый просвет, и в нём он снова увидел знакомую горную макушку. В следующее мгновение этот просвет перерезала ярко–голубая молния, и в ослепительном свете Гибби увидел (или ему только показалось, но потом он всегда вспоминал это именно так), как огромный обломок вершины катится с горы вниз. Тучи стремительно сомкнулись, и просвет задёрнулся. Потом Гибби всё время вспоминал, что в ту же минуту земля, горы, луга и ручьи бесследно исчезли; он не видел больше ничего, кроме скалы, на которой сидел, и туч, спрятавших от него небо и землю. Тут молния снова рассекла небосвод. Гибби не увидел её саму, но тучи вдруг вспыхнули огненным светом, за ним последовал оглушительный треск, перекатившийся в жуткий рёв и грохот грома. Страшный шум окружал его со всех сторон. Казалось, он стоит в самом сердце бури, и мощные волны воздуха, от грома откатившиеся во все стороны, с рёвом ринулись прямо на него и чуть не сбили с ног. Гибби вцепился в скалу руками и ногами. Ветер трепал тучи, а те извивались, сворачивались, вздымались, закручивались гигантскими столбами, и казалось, что гром рождается прямо из их огненного чрева. Может быть, это и был тот самый голос, сгустившийся из тишины? Может, невидимое Присутствие вот так обрело форму и властно заявило о себе? Гибби ещё предстояло узнать, что подчас из тишины рождается Голос ещё глубже, чем голос бури, – и когда он звучит, тишина не нарушается, а становится ещё тише.
Гибби не расстроился и не отчаялся. Он не чувствовал за собой никакой вины, почти не знал страха, и душа его наполнилась благоговейным восторгом. Гора Синай была ему не страшна, и в громе он услышал не больше гнева, чем в лае собаки, обнаружившей его у себя в конуре. Гибби никогда не думал, что на небесах может быть какое–то Существо, настолько праведное, что греховность его детей, так и не научившихся быть детьми, вызывает у него даже не жалость, а, скорее, неудовольствие. Он продолжал сидеть на горе, спокойный, исполненный благоговейного трепета; но почему–то мне кажется, что пока буря ревела, бушевала и носилась вокруг него, лоб его был чист, глаза широко распахнуты, а рот то и дело растягивался в улыбку. Конечно! Ведь тут, рядом с ним, было самое сердце, самый источник бури. С верхушки неприкрытой скалы со всех сторон бурными потоками лилась вода, как будто вырываясь из её недр, а не извергаясь из нависшей над нею тёмной тучи. Наконец буря, как опьяняющее зелье, ударила Гибби в голову, захватила всю его душу. Он вскочил на ноги и заплясал, широко раскидывая руки в стороны, как будто сам был творцом бури. Но вскоре неистовство начало успокаиваться и прекратилось так же внезапно, как и началось, – как будто птица, в панике бившаяся крыльями об землю, вдруг оправилась, тут же взмыла ввысь и улетела. Солнце засияло с чистой высоты, и в голубой бездне не осталось ни облачка – кроме одного, с подветренной стороны. Оно раскинулось, как знамя в опустевшем воздухе, и уплывало вдаль, как предвестник грядущей бури, а на его щите засиял кусочек многоцветной радуги.
Теперь, когда ярость улеглась, проснулись и другие голоса бури, и в них зазвучала радость. Как душа, благодарная за то, что страдания отступили, обнаруживает, что жгучая боль пробудила в ней голос новой любви, веры и надежды, так и сейчас с горы начали подниматься голоса многих вод, рождённых мрачными тучами. Солнце продолжало своё шествие по небосклону. Буря не коснулась его, и сейчас оно уже довольно далеко склонилось к западу. Скоро сумерки в сером плаще начнут догонять его с востока, так же неумолимо, как скорбь следует за счастьем. Гибби, промокший и замёрзший, стал подумывать о том домишке, где его так ласково приняли, о дружелюбном лице хозяйки и о том, как нежно она ухаживала за ягнёнком. Дело было совсем не в том, что Гибби проголодался. Он вообще не думал, что хозяйка снова будет его угощать, потому что до сих пор ему ещё не доводилось есть из одних и тех же щедрых рук целых два раза в день. Он просто хотел найти на горе какую–нибудь сухую нору или расселину и переночевать поблизости от гостеприимного домика. Поэтому он поднялся и зашагал вниз, но никак не мог отыскать прежнего пути. Со всех сторон Гибби натыкался на отвесные скалы, с которых мог бы спуститься только ползучий змей; бурные потоки и залитые водой места не давали ему пройти. Уже начало смеркаться, а он всё ещё потерянно бродил по горным утёсам.
Наконец он отыскал тот самый ручей, который, как ему казалось, утром привёл его на вершину, и решительно побежал вдоль по течению, выискивая взглядом дружелюбную хижину. Но первым признаком человеческого жилья, попавшимся ему на пути, были высокие стены, окружавшие то поместье, в чьи ворота он заглядывал рано утром. Значит, крестьянский домик остался далеко позади, но ферма была совсем неподалёку, так что лучше всего будет снова отыскать тот самый амбар, где он так славно переночевал. Сделать это оказалось нетрудно, хотя было уже довольно темно. Гибби обогнул стену, подбежал к давешним воротам, перебрался через ручеёк, потом отыскал ручей побольше и бежал вниз по течению до тех пор, пока не приметил знакомый склон, покрытый клевером. Он поднялся по холму и снова увидел строгие очертания стогов, возвышающихся между ним и небом. Ещё минута, и он уже опять пролез в кошачью дверцу и оглядывался по сторонам в тёмном амбаре. К счастью, куча соломы всё ещё лежала на прежнем месте. Гибби с разбега прыгнул в самую середину, как крот, зарылся поглубже, свернулся калачиком и представил себе, что лежит в самой сердцевине той горы, на верхушке которой он сидел сегодня во время бури, и слушает, как наверху грохочет буйный грозовой ветер. От этих мыслей сон пришёл к нему ещё быстрее, чем обычно, и вскоре Гибби, посапывая, затих и спал намного спокойнее, чем Ариэль в расщелине старой сосны, куда заточила его злая колдунья Сикоракса.