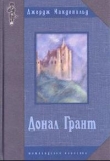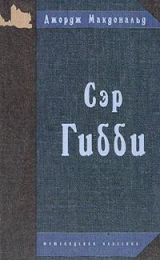
Текст книги "Сэр Гибби"
Автор книги: Джордж МакДональд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 39 страниц)
Тогда Донал как младший из сыновей достал с полки большую Библию, положил её перед отцом, зажёг фитилёк железной лампы, висящей на стене и своей формой напоминающей о древних годах, когда по этой земле ходили римляне. Роберт надел очки, взял книгу и отыскал отрывок, который им предстояло прочитать на этой неделе. Читал он не очень хорошо. К тому же, было темно, и даже в своих очках Роберт видел довольно плохо, так что нередко он терял то место, где читал. Однако это никогда его не смущало, потому что он прекрасно знал сущность того, что читал, и посему, не делая идола из буквы Писания, частенько вставлял своё, сходное по смыслу слово и, не останавливаясь, продолжал читать дальше. Его детям это напоминало то время, когда он сажал их на колени и рассказывал им библейские истории, стараясь заменить длинные и трудные слова своими, попонятнее и попроще, а потому они не удивлялись, что отец и сейчас поступает так же. К тому же слова, которые он вставлял в повествование, были самыми простыми выражениями обыкновенного крестьянина–шотландца, и потому не только не мешали слушателям, но и помогали им ещё лучше понять услышанное. Слово Христово есть дух и жизнь, и там, где сердце горит Его любовью, язык будет бесстрашно следовать за этим духом и этой жизнью – и не ошибётся.
Сегодня им выпало читать о том, как Господь исцелил прокажённого. Роберт дочитал до того места, когда Иисус «простёр руку», снова потерял своё место, но без запинки продолжал говорить по памяти: – Иисус умилосердившись, простёр руку… схватил его и говорит: «Да конечно, хочу – очистись!»
За чтением последовала молитва, очень серьёзная и искренняя. Только в эти минуты, когда Роберт стоял перед Богом вот так, рядом с женой и окружённый детьми, он мог говорить вслух о том, что было у него на сердце. Но и тогда он не смог бы ясно выразить своих мыслей и, наверное, потерялся бы в трясине своего неоформленного, беспорядочного сознания, если бы, подобно ступенькам, его не поддерживали твёрдые камни чётких богословских формул и фраз, благодаря которым он мог не только хоть как–то высказать то, что думал, но и лучше понять свои собственные чувства. Эти формулы и фразы, пожалуй, шокировали бы любого искреннего и набожного христианина, воспитанного в иной традиции. Самому Роберту они не приносили никакого вреда, потому что он видел в них только хорошее, а остальное, честно говоря, почти не понимал. В этих фразах он понимал только те слова, которые выражали его вечное стремление вознести своё сердце к Господу, а он всей душой желал только этого.
К тому времени, когда молитва завершилась, Гибби снова заснул. Он не имел ни малейшего представления о том, чем занято его семейство, но тихие звуки молитвы убаюкали его – как это часто случается несмотря на то, что намерения молящихся изначально бывают совсем иными. Когда он проснулся от саднивших ран, в домике было темно. Старики крепко спали. Рядом с ним лежало что–то мохнатое, и Гибби, без малейшего страха протянув руку и ощупав его в темноте, сразу понял, что это собака. Тогда он снова заснул, почувствовав себя ещё счастливее, чем раньше, если такое вообще было возможно. И пока все обитатели домика спали, старшие братья и сёстры всё ещё шагали по лунным тропинкам приречной долины. Вышли они все вместе, но постепенно каждый свернул на свою дорогу, и теперь они шли по шести разным тропинкам, с каждым шагом приближаясь к работе, которая ожидала их на новой неделе.
Глава 23
Новые уроки
При первой же возможности Донал расспросил Фергюса о том, какую роль он сыграл в том, что случилось с Гибби. Его вопросы показались Фергюсу неслыханной наглостью, и он тут же взвился на дыбы. Да какое право имеет этот несчастный пастух, наёмный работник его отца, требовать от него отчёта в его поступках? Так он Доналу и сказал, почти не смягчая выражений. Донал помолчал и ответил:
– Знаешь что, Фергюс, ты всегда относился ко мне по–хорошему, и я многим тебе обязан. Но было бы нечестно и дальше брать у тебя книги и спрашивать обо всём, чего я в них не понимаю, и при этом презирать тебя за жестокость и несправедливость. Скажи, за что вы так наказали этого мальчугана? Даже твоя тётушка говорит, что он ничего у неё не взял и не сделал ничего плохого, а только помогал!
– Чего ж он тогда молчал и не защищался, а? Чего упрямился? – воскликнул Фергюс. – Он и рта не открыл, не сказал, как его зовут и откуда он взялся! Я не мог и слова из него вытрясти! А выпорол его Ангус МакФольп по приказу самого лэрда. Я здесь вообще не при чём.
О тех тумаках, которыми он сам наградил Гибби, Фергюс умолчал; да, пожалуй, они действительно были пустячными по сравнению с ударами плётки и не стоили того, чтобы о них упоминать, разве только честности ради.
– Что ж, вот я вырасту, и тогда Ангусу придётся иметь дело со мной! – пробормотал Донал сквозь стиснутые зубы. – Но ты–то как мог так поступить, Фергюс? Ведь этот парнишка просто немой! Он за всю свою жизнь ни слова не сказал!
Эти слова укололи Фергюса в самое сердце, потому что он был не лишён жалости и великодушия. Если человек не научился осознанно и решительно вставать на сторону добра против зла, живущего в своём собственном сердце, если не научился трезвиться, чтобы не обмануть себя самого, он может совершить очень и очень много такого, за что потом придётся горько раскаиваться! Пусть эти слова покажутся заезженной и всем известной истиной, но какой бы избитой она ни была, это не облегчит вам мучений сожаления и раскаяния, если однажды вы вдруг осознаете, что c вами случилось то же самое. Однако из всего, что я знаю о дальнейшей судьбе Фергюса, можно заключить, что сейчас, вместо того, чтобы попросить прощения и загладить свою вину, он направил все свои внутренние усилия на то, чтобы попытаться оправдать себя и свои действия перед самим собой. В любом случае, гордыня помешала ему признаться перед Доналом в том, что он совершил ошибку. Он был слишком оскорблён обличением из уст человека, которого считал неизмеримо ниже себя, чтобы поступить по совести и покаяться. И вообще, что такого страшного произошло? Этот маленький негодяй – обыкновенный бродяга, и если на этот раз его и впрямь не за что было пороть, всё равно он наверняка уже сотню раз заслужил (и ещё столько же раз заслужит), чтобы его высекли.
Так Фергюс рассуждал сам с собой. К Доналу же вернулось прежнее ощущение, что его пичуга – какое–то высшее, неземное существо, явившееся из другого мира, лучшего и более благородного, чем наш. Читатель помнит, что он был природным кельтом, и душа его была распахнута для любого дуновения любви и благоговейного страха. Донал был одной крови с несмысленными галатами, и, подобно им, его легко было прельстить. Но сердце его радостно приветствовало истинный свет и не только любило всё доброе и благое, но и тянулось к добру, изо всех сил стараясь ему уподобиться.
Фергюс тоже был, по большей части, кельтом, но его сильно портило низменное стремление всё время быть на виду. Он любил не добро и благо, а людскую похвалу. Он умел видеть и различать благородство и милость в других и сам хотел стать благородным, но, скорее, ради того, чтобы люди превозносили его за милосердие и доброту. Посему на деле его представление о доброте было весьма слабым, а представление о благородстве – довольно жалким. К действию его побуждало лишь желание заслужить одобрение за свои поступки. Ему было нужно, чтобы другие одобряли мнения, которых он придерживался, планы, которые он строил, доктрины, которые он исповедовал.
Он хотел, чтобы люди восхищались его стихами, неуверенно хромающими по стопам Байрона, и его красноречием, которым он собирался однажды потрясти тысячи прихожан. Пока в нём не наблюдалось ничего по–настоящему оригинального, ничего, что избавило бы его от этого скудного обезьяньего подражательства, в котором он мнил себя поэтом. Фергюс обладал одним неоценимым даром – умением лучше других видеть и ценить некоторые формы прекрасного. Но даже этот дар превратился в насмешку, когда его оседлало глупое желание, убогое, как фальшивый, мишурный король, – желание видеть, что другие восхищаются им уже за то, что он восхищается красотой. Кроме того, эту свою восприимчивость он считал особым умением, особой способностью, не понимая, что, в лучшем случае, она всего лишь позволит ему с удовольствием делать то или иное дело и, может быть, добиться в нём успеха.
Некоторые скажут, что это жестоко: сотворить человека так, чтобы в нём жили амбициозные стремления к таким вещам, которых он не в силах достичь. Я же отвечу, что амбиция – это оборотная, злая тень благородного устремления. Не было ещё такого человека, который следовал бы за истиной (а у благородного устремления иного пути нет) и в конце концов пожаловался бы на то, что его сотворили не так, как следовало. Человек сотворён так, что больше всего он способен желать именно того, на что предназначен. Конечно, при этом нельзя забывать, что стремиться он должен именно к своему предназначению, а не к его тени. Человек сотворён для истины, и пока он устремляется за ложью, в его существе не проявится ничего, кроме страха, недовольства и болезненности души, которые сами по себе предупреждают его, что он на неверном пути. Если он скажет: «Мне не нужно то, что вы называете предназначением, оно для меня лишь тень. Я хочу того, что вы зовёте тенью», – ответить можно только одно: он никогда, даже в вечности, не завладеет тем, чего желает. Ведь разве можно удержать в руках тень?
После страшных утренних событий что–то внутри Джиневры безвозвратно переменилось. Она никогда не чувствовала себя уютно и спокойно в присутствии отца. Теперь же между ними как будто встала невидимая стена, и её не могли разрушить никакие попытки дочери вновь полюбить отца. Лэрд был слишком недалёк и холоден, чтобы заметить, что каждый раз, когда он неожиданно окликал дочь по имени, на лице её мелькал испуг. А когда она сосредоточенно пыталась отогнать недобрые мысли, которые упорно приходили ей в голову, он принимал её сдержанность за угрюмое упрямство.
Фергюс снова отправился в университет, но на этот раз вместо дружеского расположения к Доналу он увозил с собой ледяную неприязнь. Донал продолжал пасти скотину, дубасить Рогатку и читать всё, что подвернётся под руку: к сожалению, от Фергюса ему больше ничего не перепадало. Год назад перед отъездом Фергюс побеспокоился о том, чтобы у Донала не было недостатка, по крайней мере, в книгах. На этот раз он предоставил пастуху самому о себе позаботиться. Он был мелочным из–за собственной гордыни и мстительным из–за собственного тщеславия. Уж он–то покажет Доналу, что значит лишиться его благосклонности! Однако Донал не особенно от этого пострадал. Ему было грустно только из–за того, что он лишился былой дружбы. Ему удалось взять у кого–то на время томик Бёрнса, а для крепкого духа это пища получше, чем Байрон или даже Скотт. Благодаря внутренней чистоте, присущей Доналу от рождения, ему не принесли вреда ни скабрезные словечки, ни грубые или пошлые мысли, на которые он иногда натыкался. Но сам могучий поток жизни поэта, время от времени перемежавшийся глубокими озёрами, в которых отражались звёзды, его безудержная ненависть к лицемерию и фарисейству, его щедрость и мучительная совестливость, минуты греха и покаяния – всё это пробудило в сердце Донала множество ответных чувств. К счастью, в той же самой книге он обнаружил вполне приличную биографию поэта и, читая её вместе со стихами, понемногу узнавал, где и как Бёрнс особенно сильно оступался, и, несмотря на свою молодость, начал довольно ясно понимать, какие опасности подстерегают великого человека, который так и не научился смирять свой дух и, как ребёнок, живёт, подчиняясь минутному настроению, полностью отдаваясь на милость – кого? – или чего?
Кроме того, читая Бёрнса, Донал увидел, на что способен его родной язык. Ибо хотя он и был кельтом по крови, по рождению и воспитанию, по–гэльски говорить он не умел. Этот язык, когда–то принадлежавший и бардам, и воинам, мягкий, как журчание ручьёв, сбегающих с суровых скал, и дикий, как ветер, свистящий в кронах высоких сосен, уже так далеко ушёл из его родных краёв, что после него остались лишь редкие и мелкие лужицы стариковских воспоминаний, и Доналу так и не посчастливилось его выучить. Вместо этого его родным языком стал шотландский, издревле отпочковавшийся от английского, сухой и грубоватый, но всё ещё прекрасный даже в таком почтенном возрасте. Человек, любящий древнюю речь или хотя бы говор того местечка, где вырос он сам, тем самым обретает некую власть над сердцами людей, которой не дал бы ему даже самый утончённый, самый безупречный язык; и чем дальше этот язык отошёл от изначального источника людского смеха и слёз, тем бесплоднее и бессильнее он становится. Но сейчас даже древний шотландский начал быстро отступать и исчезать под натиском убогого и несамостоятельного английского наших дней; и хотя со времён Шекспира слов в английском стало побольше, звучит он гораздо скуднее, чем в те годы, когда на нём говорили с раскатистой шотландской напевностью.
О мой родной язык, ты благ и чист, как пламень,
И музыкой своей ты слух мне усладил,
Будь сердце у меня, как сталь иль твёрдый камень,
Ты всё равно бы в нём гордыню растопил!
Умение пользоваться таким языком для своих целей неоценимо важно, особенно для поэта. Он говорил на нём в детстве, когда смотрел на весь мир свежими, неосквернёнными глазами. Да и сам по себе этот язык похож на детский лепет, а детская речь всегда близка к детскому взгляду на мир – а значит, к тому, как смотрит на мир поэт. Теперь, когда в Донале медленно просыпалась поэтическая натура, постепенно захватывая всё его существо, ему было особенно важно увидеть, какие чудеса творил гениальный шотландец со своим приземлённым и уютным родным языком. Ибо только на этом языке вся жившая в нём поэзия могла найти себе подобающее выражение и, вдобавок, сослужить великую службу самому поэту, выявив в нём самое лучшее и подтолкнув его к новым свершениям (к чему, собственно, и призвана прежде всего настоящая поэзия).
Некоторые полагают, что стихи пишутся лишь для того, чтобы их публиковали. Люди стесняются говорить об этом вслух, но не стесняются действовать именно с такой убеждённостью в душе. Но думать так глупо и гибельно для всякой истинной поэзии. На самом деле она предназначена прежде всего для того, чтобы помочь своему создателю встать на путь истины и идти по нему. Поможет она другим людям или нет, пока неважно; в любом случае, этот вопрос должен возникать только потом, если он вообще появится. Для человека, внутри которого рождаются стихи, это бесценный дар, а для остального мира его поэзия обретает ценность лишь по мере того, как она помогает самому поэту становиться всё лучше и лучше. Правда, сами по себе, эти стихи могут оказаться совершенно никчёмными и, если их напечатают, принесут больше вреда, нежели пользы. Спросите у любого из тех несчастных, кому выпала незавидная доля редактора какого–нибудь журнала, и он подтвердит мои слова. В мире каждый день появляется несметное множество виршей, которые сполна вознаграждают вдохновение своего автора, но совершенно непригодны для того, чтобы декламировать их вслух.
Сам Донал не написал пока ни одного четверостишия. Иногда у него в голове вдруг появлялась отдельная строчка или пара строк, которые тут же начинали зудеть и гудеть, как заблудившаяся пчела, потерявшая родной улей (причём, обычно это были какие–нибудь забавные проклятия в адрес Рогатки), но больше он ни о чём таком не думал.
Тем временем Гибби спал, просыпался и опять засыпал в маленьком домике близ вершины Глашгара, и блаженные ночи чередовались с чудесными днями. На следующее утро после своего появления первое, что он увидел, разлепив глаза, было лицо Джанет, с улыбкой склонившееся к его изголовью и сиявшее не столько благодушием, сколько радостным восхищением. Муж её уже ушёл, сама она собиралась уже пойти подоить корову, как вдруг испугалась, что, пока её не будет, малыш снова исчезнет, как в прошлый раз. Но свет, пролившийся из его глаз, исходил из того же источника, что и радость в её взгляде, и все опасения Джанет тут же растаяли. Если он так любит её, то наверняка не сможет её оставить! Она покормила его овсянкой с молоком и пошла к своей корове.
Когда она вернулась, в домике была чистота и порядок. Пол был выметен, плошки перемыты и аккуратно расставлены по полкам, а сам Гибби сидел на стуле и внимательно разглядывал старый башмак Роберта, пытаясь сообразить, нельзя ли его починить. Поскольку все её домашние дела оказались сделанными, Джанет, не мешкая, приступила к шитью подходящего наряда для своего найдёныша. Она уже придумала, как его сделать, фасон был самый простой, и шить было совсем нетрудно. Она достала синюю ситцевую юбку, сузила её возле пояса и подвязала поверх просторной рубашки, которая пока была единственным одеянием Гибби. Подол юбки доставал малышу до самых пяток. Тогда Джанет разрезала её до середины спереди и сзади, сделала два небольших шва, и получилась прекрасная пара широких штанов, похожих на матросские, аккуратных и удобных. Гибби они ужасно понравились. Правда, в них не было карманов, но ведь у него не было ровным счётом ничего, чтобы он мог туда положить, так что в отсутствии карманов можно было увидеть даже определённое преимущество. Вообще, в его прежней одежде тоже никогда не бывало карманов, потому что перед тем, как брюки или куртка попадали к Гибби, предыдущие владельцы успевали окончательно их износить.
Джанет подумала было о том, чтобы заодно сшить Гибби и шапочку, но потом критическим взглядом посмотрела на его вихры, торчавшие во все стороны, как разлохмаченная соломенная крыша, и про себя заключила: «Должно быть, некоторым мужчинам Господь тоже дал волосы вместо покрывала, как женщинам!» Поэтому, отложив иголку, она взялась за свой Новый Завет.
Пока она молча читала Евангелие, Гибби стоял рядом и восхищённо смотрел в книгу, полагая, что в ней тоже есть множество чудных баллад вроде тех, что читал ему Донал. Его живое присутствие, неустанное внимание и пытливый взгляд стесняли Джанет. Чтобы свободно поклоняться и разговаривать с Богом, человек должен быть либо совсем один, либо среди братьев, тоже пришедших поклониться Богу. Для самой Джанет чтение Библии и поклонение часто сливались воедино, и она не отделяла одного от другого. Поэтому она подняла глаза с книги и спросила:
– Ты читать умеешь, сынок?
Гибби покачал головой.
– Тогда садись, я тебе почитаю.
Гибби радостно повиновался, думая, что услышит ещё одну древнюю шотландскую легенду о любви и смелых рыцарских подвигах. Но вместо этого Джанет прочла ему одну из самых славных и ужасных, полных любви и печали глав в конце Евангелия от Иоанна, где душа встречает жуткое и тёмное облако человеческой скорби, насквозь пронизанное неземным сиянием вечного, сущего, непобедимого света. Не знаю, что именно подействовало на Гибби сильнее всего. Может быть, его душа откликнулась на сам тон любимого голоса или на истину, слишком звучную и потому не различимую для человеческого уха и явившуюся Гибби в виде неясного трепета, дальнего звука струны, одним концом привязанной к его сердцу, а другим уходящей в неизвестность. Может быть, то и дело повторяющееся имя напомнило ему о предсмертных словах бедного Самбо. Так или иначе, когда Джанет снова оторвалась от книги и взглянула на него, по щекам мальчугана катились слёзы. Однако по выражению его лица, она поняла, что разумом он не ухватил почти ничего. Тогда она перелистнула Библию, открыла притчу о блудном сыне и прочла её. Даже там было множество слов и фраз, которых Гибби не понимал, но он всё же уловил общий смысл этой удивительной истории. Ведь когда–то у Гибби тоже был отец, и каждый вечер он обретал пристанище на его груди. Там, где за толкование принимается любовь, самый убогий образ может послужить тропинкой для глубочайшей истины. Гибби не понял, как низко пал ушедший из дома сын. Но по мере того, как блудный отрок шаг за шагом проходил весь свой путь от свиной кормушки до самых объятий отца, выражение лица Гибби постепенно менялось, и наконец он разразился – нет, не слезами, ибо слёзы были ему почти незнакомы – а ликующим смехом торжества и победы. Он захлопал в ладоши и в порыве дикого восторга, как аист, встал на одну ногу, как будто хотел касаться земли лишь одной подошвой, и вся его фигурка устремилась вверх, к небесам.
Джанет была вполне удовлетворена своим экспериментом. Большинство её соотечественниц (и почти все соотечественники) упрекнули бы Гибби за то, что он смеётся, но Джанет знала, что и у неё внутри порою подымается такой безудержный восторг, что выплеснуть его можно только неукротимым взрывом святого, радостного смеха, который связывает её сердце с сердцем Бога ещё проще и лучше, чем любые слёзы, вызванные глубинными движениями души. Лишь сердце, пока не уверенное в своём Боге, боится смеяться в Его присутствии.
Так Гибби сделал первый шаг в той науке, которая одна достойна изучения и требует, чтобы ученик объединил и отдал ей все усилия своего сердца, души, крепости и разумения. С тех пор он не оставлял своего учения. Я не могу сказать, каким образом его сознание крепло и набиралось сил и как происходило медленное, постепенное возмужание его ума, пока он не расцвёл, наконец, удивительным цветком, венчающим всякое человеческое разумение, – познанием Бога. Я не могу сказать, что это была за дверь, через которую Господь вошёл в его дом и навсегда сотворил там Свою обитель. Я даже не могу сказать, каким Гибби видел Его в своих мыслях, ведь Он может принять любой человеческий облик. Я знаю только, что Он не являлся Гибби в нечеловеческих образах земного богословия, когда тот взирал на него тем «внутренним взором, что есть блаженство уединения».
К счастью, Джанет совершенно не представляла себе всей его невежественности. Она и подумать не могла, что он не знает того, что обычно говорят об Иисусе Христе. Она полагала, что Гибби не хуже неё самой знает главные события Его земной жизни и понимает, зачем Он пришёл на землю и зачем умер, – в той мере, как этому учат во всех церквах и воскресных школах. Поэтому она ни разу не пыталась ничего ему объяснять. Да оно и хорошо, потому что в этом случае ей пришлось бы прибегнуть к таким понятиям и выражениям, которые просто–напросто подменяют то, что непонятно нам именно из–за своего величия и истинности, тем, что нам понятно (поскольку связано с нашими низменными побуждениями и само по себе низко и ложно). Все свои представления о Боге Гибби получил из уст воплощённого Богословия, Божьего Слова, и если какой–то богослов не удовлетворится таким учением, то истинному ученику Христа следует повернуться к нему спиной, а лицом обратиться к Самому Господу.
Итак, обучая его только тому, что она любила, а не тому, чему её когда–то учили, Джанет читала Гибби про Иисуса, разговаривала с ним об Иисусе, вместе с ним мечтала об Иисусе до тех пор, пока вся его душа не наполнилась этим Человеком, Его делами, Его словами и мыслями, самой Его жизнью. Сам Гибби не думал о том, чтобы наблюдать, как это происходит, и ничего об этом не знал. Иисус Христос жил в нём и безраздельно владел всем его существом. Вскоре, почти сам того не замечая, Гибби уже начал пытаться жить так, как жил на земле его Господь.
Джанет было приятно его учить, а Гибби было приятно у неё учиться. Под её заботливой опекой Гибби избежал тысячи мучений, которые подстерегают любого усердного ученика, когда так называемый учитель пытается навязать ему коряво выраженные и как следует не понятые им самим переживания, незрелые выводы и пошлые фантазии, выдавая их за мысли и волю вечного Отца человеческих душ. В таких учениях содержится ровно столько истины, чтобы те, кто находится пока на самых низких ступенях своего развития, принимали их без отвращения. Но лжи в них столько, что, если бы не Святой Дух, эти учения способны были бы полностью погубить тех, чья душа с детской доверчивостью тянется к свету. Сколько в мире таких покалеченных душ! А ведь некоторые из них были доведены даже до сумасшествия и погибли! Джанет же смотрела только на Иисуса и, как человек узнаёт своего друга, так и она – только несравненно лучше – знала Того, Кто был для неё не просто другом, но Кем–то несравненно большим: её Господом и Богом.
Быть может, читатели, привыкшие судить об истинности вещей и событий, исходя лишь из собственных понятий о том, что бывает, а чего нет, скажут, что я чересчур преувеличиваю, вознося обыкновенную шотландскую крестьянку на такие высоты духа. Позвольте мне задать им один вопрос, чтобы они ясно могли увидеть, что такое и в самом деле возможно. Ведь если Христос действительно является Господом каждого мужчины, каждой женщины и ребёнка, чему ж тут удивляться, если простое доверчивое сердце, способное услышать и понять истину и полностью открывшее себя Ему и Его прикосновению, научится по–настоящему Его понимать? На самом деле, иначе и быть не может!
Да разве был бы Он Господом сердец, если бы подобные вещи оставались невозможными и невероятными? А что касается женщин, взгляните сами: ведь послания свыше всегда приходили прежде всего к обыкновенным крестьянкам! Разве высшее Божье откровение не было дано Елизавете и Марии, матерям Иоанна и Иисуса? Подумайте сами, что может быть естественнее! Слово Божье пришло к женщинам, воспитанным в тихом достоинстве сельской жизни и знакомым с дыханием самой земли. Жили они просто и скромно, без отвлечений и раздражений, спокойно и неспешно размышляя над жизнью, и к этому размышлению их неизменно призывало постоянное осознание святого Присутствия. Ведь где бы ни жил человек со смиренной, вдумчивой натурой, в нём непременно, как в собственной обители, поселяется Божий Дух. Святые жёны живут везде, но в городе пророчицу найти труднее, чем в деревне, среди холмов и полей.
Узнай Джанет о полной невежественности Гибби во всех богословских вопросах, трудно сказать, что именно она сочла бы – или не сочла бы? не знаю – своим долгом ему рассказать. Но поскольку она давным–давно перестала беспокоиться о том, что люди называют «Божьим планом спасения», у неё не было ни малейшего желания тревожить этим планом сердце Гибби. Ей было достаточно видеть, что он следует за своим Господом. Ходя в свете, она понимала сам свет, и ей не нужна была никакая система, истинная ли, ложная ли, чтобы объяснить себе его природу. Она жила словом, исходящим из уст Божьих. Мне кажется, что, как только жизнь начинает задумываться о себе, это признак того, что она начала умирать.
Вряд ли нашлась бы душа, которая была бы свободнее от зла, глупости и человеческой хитрости, чем душа маленького сэра Гибби, куда, как в чистый сосуд, можно было перелить воду жизни, скопившуюся в сердце Джанет Грант. Только настоящая душа – это даже не сосуд. Ведь когда Бог наполняет её водой жизни, эта вода размягчает сердце и ищет себе дорогу дальше, стремясь всё глубже и глубже, пока не достигнет внутреннего родника жизни, текущего прямо с вечных гор, и тогда у человека из чрева начинают течь реки живой воды в жизнь вечную.