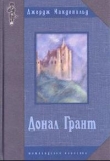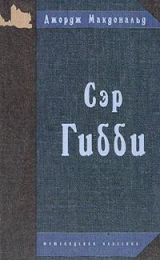
Текст книги "Сэр Гибби"
Автор книги: Джордж МакДональд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 39 страниц)
ДЖОРДЖ МАКДОНАЛЬД
СЭР ГИББИ

Глава 1
Потерянная серёжка
– А ну–ка вылезай из канавы, прохвост! – жёстким, почти что мужским голосом прокричала женщина, стоявшая на обочине дороги в узком, грязном переулочке, пролегавшем под прямым углом к главной городской улице, которая сама была не чище и ненамного шире. Женщина была одета в тёмную юбку и набивной бумажный капот. Задник одного из её башмаков был стоптан, и на чулке виднелась огромная дыра. Если бы она потрудилась расчесать и пригладить свои волосы, миру открылись бы серебристо–седые нити, тут и там проглядывавшие из тёмных кудрей. Но сейчас из–под чепчика, сделанного из чёрной шёлковой сетки с зелёными бантиками, неряшливо свисали лишь две–три неприбранные пряди, и впечатление было такое, что их хозяйка не снимала чепчик даже на ночь. В молодости её лицо было, пожалуй, даже красивым, но теперь всё оно, как татуировкой, было испещрено тёмно–сизыми точками, и трудно было сказать, проступает этот цвет из–под кожи или наоборот. Над её прямым, правильной формы носом на мир решительно, даже почти свирепо смотрели чёрные глаза. Да, видимо житейские тяготы крепко к ней прицепились. Она так и не сумела над ними подняться, и теперь, по всей очевидности, они поработили её окончательно. Ярдах в тридцати от неё, на дальней стороне улицы, как раз напротив входа в переулок, копошился мальчик, на вид лет шести, а на самом деле восьми. Он сидел на коленках перед водосточной канавой и обеими руками шарил по её серо–грязному дну. Услышав оклик, он прекратил свои поиски, поднял голову, выжидательно посмотрел на женщину, но с колен не поднялся. У него были действительно примечательные глаза, глубокой синевы, с поразительно длинными ресницами. Ещё более примечательным было их выражение. В этом взгляде немедленно угадывалась некая подкупающая доверчивость, но тут же таился целый ворох всего другого, что было бы просто невозможно разгадать без помощи всего лица, рассеянная выразительность которого так ясно сосредоточилась в глазах, что казалось, они вот–вот заговорят. За этим странным выражением таилось нечто такое, что заставляло удивиться и задуматься. Лицо, как и глаза, было чудесным – не слишком чистым и не слишком правильно очерченным – и позволяло надеяться на то, что позднее в нём чётко проявится характер. Более же всего оно поражало тем, что как будто светилось изнутри. Вихры, торчавшие во все стороны наподобие круглой меховой шапки, были бы золотисто–рыжего цвета, если бы солнце не сделало из них нечто вроде волосяного сена. Упираясь голыми коленками в край канавы и стряхивая налипшую грязь с мокрых ладошек, это странное существо безмолвно посмотрело на кричавшую женщину. Но в следующее же мгновение мальчик снова уткнулся в канаву и начал разгребать руками грязь.
Женщина потемнела от гнева и шагнула было вперёд, но резкий, требовательный звук дверного колокольчика заставил её немедленно повернуться и вслед за только что вошедшим покупателем войти в свою лавку, откуда она, собственно, и появилась. Над входом висела небольшая, почти квадратная вывеска, гласившая свинцовыми буквами на чёрном фоне: «Имеется лицензия на продажу и распитие пива, крепких напитков и табака». Никакой другой вывески не было. «Коли мой виски по вкусу, так и нечего язык трепать да спрашивать, как меня зовут», – говаривала миссис Кроул. К вечеру покупателей прибавлялось, а к полуночи в её заведении всегда было полным полно народу. Вечерами она неотлучно была возле стойки и поворачивала пружинку колокольчика так, чтобы тот не возвещал о каждом новоприбывшем. Сейчас же колокольчик помогал ей вовремя отвлекаться от прочих домашних хлопот.
– Этих мальчишек хлебом не корми, дай только в грязи повозиться! Да он там уже полчаса копается! – бормотала она себе под нос, наливая из чёрной бутылки в рюмку немного виски для бледнолицего пьяницы, томившегося по другую сторону стойки и не дождавшегося даже до полудня без того, чтобы не пропустить стаканчик. – Моя бы воля, – продолжала она, ставя на место бутылку и не удостаивая ни единым словом своего клиента, который вышел под тот же пронзительно–резкий звон, что пять минут назад возвестил его появление, – моя бы воля, задала бы я Гибби хорошую нахлобучку, хоть отца ради, – честный он человек, дай ему Бог здоровья! Глянь, что за манеру взял, в грязи ковыряться!
Тем временем всё внимание мальчика было поглощено поисками. Мимо проезжали кареты, проходили люди, но он даже не поднимал головы, а медленно полз дальше вдоль канавы, всё так же шаря по дну сквозь ленивый, почти неподвижный поток.
На улице стояло серое ноябрьское утро. Каждый день начинался и кончался туманом, но нередко между этими наплывами серокаменный город озарялся таким же золотым солнечным светом, какой на юге наливает спелым соком лиловые грозди винограда. Сегодня туманная дымка задержалась дольше, чем обычно, и на какое–то время даже сгустилась вместо того, чтобы рассеяться. Наконец она начала редеть, и солнце, как медленно распускающийся на небесах цветок, проглянуло сквозь облако, растапливая его по краям.
Солнечный луч упал на мостовую между крышами домов и осветил канаву. Он лежал на воде такой чистый, что даже соприкасаясь с грязью, изгонял саму тень скверны, пытавшейся смешаться со светом. Вдруг мальчик плюхнулся на четвереньки и, как коршун на добычу, кинулся на что–то мелькнувшее в водостоке. Он нашёл то, что так долго искал. Он вскочил на ноги и выпрыгнул на солнце, одновременно пытаясь стереть со своей находки грязь, обтирая её о свои штаны – вернее то, что служило ему штанами. Ниже колен от них остались лишь лохмотья, а выше колен – только ветхий остов брюк, которые раньше носил мальчик раза в три пошире размером (для кого эти брюки были сшиты с самого начала, сказать я и вовсе не берусь). Бегал он босиком, только коленки сверкали. Но хотя и ноги его, и руки были красные, грязные и огрубевшие, форма у них была вполне благородная, даже изящная.
Солнечные лучи подобно лестнице Иакова пронизывали туманный воздух, и мальчуган, выпрыгнувший на солнце, теперь стоял у подножья этой лестницы и был похож на маленького блудного ангела, который ужасно хочет вернуться домой, но боится, что не одолеет крутого подъёма из–за плачевного состояния своих крыльев. На самом деле он просто хотел хорошенько рассмотреть то, что нашёл в водосточной трубе. Он поднял находку ближе к свету и с восторгом посмотрел на неё. Это была маленькая серёжка с гранёной бусинкой цвета аметиста. В солнечном свете она выглядела просто волшебно. Мальчуган заплясал от счастья. Он потёр серёжку об рукав, пососал, чтобы окончательно очистить от всех воспоминаний о канаве, снова протянул её вверх, к солнцу и несколько блаженных минут безмолвно любовался её сверканием. Одно движение руки – и серёжка исчезла где–то в складках его лохмотьев (не скажу, что в кармане), а он сам стремительно понёсся прочь, шлёпая по мостовой босыми ногами, и жёсткий воротник его курточки бился о вихрастый затылок, угрожая протереть там дыру. Он миновал улицу за улицей. Это был холодный, суровый город, здания его были сложены из гранита, дворики до единого вымощены булыжником, а улицы выложены каменными плитами. Этот город с серыми, крепкими, отполированными стенами не был ни красивым, ни величавым, потому что дома в нём были невысокими, а окна маленькими, но самые лучшие его кварталы всё же производили на гостей некоторое впечатление своей массивностью и импозантной добротностью.
Для мальчугана город был домом, состоявшим из множества комнат, полностью предоставленных в его распоряжение. Здесь были все его дела, все его забавы, вся его жизнь. Он почти не знал, что находится внутри большинства домов, но от этого ему было только радостнее ими владеть, потому что к удовольствию обладания прибавлялась тайна. Дома были шкатулками с драгоценностями, пещерами с россыпями кладов. Из них били родники жизни, а каждая улица походила на ручей, куда эти родники изливали свои потоки.
Наконец мальчишка добрался до какой–то третьесортной улочки и приблизился к двери булочной. Дверь была разделена поперёк на две вращающиеся половинки, скреплявшиеся вместе блестящей медной щеколдой. Однако мальчуган не дерзнул поднять щеколду, а только ухватился за её ручку и приподнялся на цыпочки, чтобы через верхнюю, стеклянную половинку двери заглянуть вовнутрь этой прекрасной лавки. Пол в ней был вымощен свежеотполированной плиткой, сосновый прилавок был выскоблен так, что стал почти таким же белым, как мука. На полках красовалась утренняя выпечка – булки и караваи хлеба, а также целые россыпи пшеничных лепёшек, рогаликов, шотландских булочек (вкуснее не придумаешь!), самого разного печенья, твёрдого и мягкого, и наконец – тёмные круглые слойки с изюмом, известные в округе под названием плюшек. И даже через стекло до мальчишки доносился такой дивный запах, как будто перед его носом зацвело райское древо жизни, о котором, кстати, он никогда не слыхал. Однако в глазах маленького уличного бродяги самыми заманчивыми были маленькие круглые булочки по пенни за штуку, горячие, дымящиеся, только что вынутые из печи – и это позволит нам впервые оценить весьма разумную натуру нашего нового знакомого. Потому что булочки нравились ему по одной простой причине: иногда у него появлялась–таки пенсовая монетка, и эти самые булочки были самыми большими из всего, что можно было купить в лавочке за пенни. Так что каким бы беззаконным оборванцем он ни казался прохожему, желания у него были умеренными, а воображение сдерживалось вполне разумными доводами.
Если вам ни разу не доводилось иметь в кармане одно единственное пенни, а в придачу к нему – могучее чувство голода, вам не понять, с какой увлечённостью этот ребёнок смотрел через стекло на хлебные горы. Потому что никакого пенни у него не было, а голод был. Самый могущественный монарх и самый бесправный мальчишка–беспризорник сходны друг с другом, по меньшей мере, в одном (правда, это сходство далеко не всегда способно пробудить сочувствие в сильных мира сего): время от времени и тот, и другой хочет есть. Ещё никто и никогда не воспевал в стихах чувство голода и не возвеличивал его, восходя от самого обыкновенного приземлённого желания съесть булочку до… – нет, нет, не до того голода который ведёт к богатому купеческому столу (потому что этот путь лежит вовсе не на небеса, а вниз, в подвал, по замшелым каменным ступенькам), а до той нестерпимой жажды, которая по белым мраморным ступеням ведёт нас в Божье Царство. Ибо тот, кто испытывает её, алчет и жаждет праведности, и уже сами муки этого голода – неземное блаженство.
За прилавком сидела жена булочника, дородная, со свежим, румяным лицом, на вид довольно недалёкая, но зато простая и честная женщина. В руках у неё было вязание, и сейчас она если не замечталась, то, по крайней мере, задремала над своей работой, потому что не видела ни торчащих за стеклом вихров, ни пары глаз, которые, как луна, восходящая над горизонтом, смотрели на неё из–за краешка прозрачной половинки двери. В глазах этих не было жадности, а был лишь спокойный, но весьма сильный интерес. Мальчуган не собирался заходить внутрь. Он знал, что ему придётся подождать, и коротал время, рассматривая драгоценные хлебные богатства. Он знал, что Майси, дочка булочника, сейчас в школе и вернётся домой через полчаса.
Утром он увидел, что она идёт мимо вся в слезах, узнал от неё, что стряслось, и немедленно кинулся на помощь. Правда, своими решительными действиями он, сам того не желая, заставил миссис Кроул сильно на него рассердиться, но, в конце концов, с честью выдержал её гнев и завершил своё дело. Теперь же, хотя Гибби пришёл специально для того, чтобы повидать девочку, зрелище в лавке обладало такой всепоглощающей силой, что он не услышал её приближающихся шагов.
– Пусти, – сказала Майси с достоинством, но чуть сердито из–за того, что ей преградили дорогу на самом пороге отцовской лавки.
Мальчуган вздрогнул и повернулся к ней, но вместо того, чтобы отойти в сторону, начал поспешно рыться в каких то таинственных складках своих лохмотьев. На секунду на лице его промелькнуло беспокойство, но тут же исчезло. Он протянул вперёд руку, и на ладони у него весело сверкнула капелька светло–лилового великолепия. Майси просияла и с радостью схватила своё сокровище.
– Какой же ты молодчина, Гибби! – воскликнула она. – Где она была?
Он показал на канаву и отступил от двери, давая девочке пройти.
– Спасибо тебе! – горячо сказала она, нажала на щеколду и вошла в лавку.
– С кем это ты там болтаешь, Майси, а? – сурово спросила её мать, не поднимая глаз от спиц. – Нечего лясы точить со всякими проходимцами.
– Это только малыш Гибби, мам, – ответила девочка уверенным голосом.
– Ну, ладно, – проговорила мать, – Он вроде ничего, получше других.
– И всё равно, незачем тебе с ним язык трепать, – через минуту снова заговорила она, как будто испугавшись, что её снисходительность можно принять за слабость. – Он тебе не компания. Вон у тебя, и отец есть, и мать, и лавка – всё как у людей. Нечего тебе с ним якшаться, беспризорником этаким.
– У Гибби тоже есть отец, а вот матери, говорят, никогда не было, – протянула девочка.
– Тоже мне, отец! – презрительно фыркнув, заметила её мать. – Нашли фигуру! Да скажи я, что у него вообще никакого отца нет, и то не ошибусь. А ты–то, ты–то что с ним балакала?
– А я ему только спасибо сказала. Он мне серёжку нашёл. Я её сегодня утром потеряла, когда в школу шла. Так он её нашёл, принёс и меня дожидался у лавки, чтобы отдать. Говорят, он всё время чего–нибудь находит.
– Он ничего, добрый парнишка, – вздохнула женщина, – особенно если подумаешь, как его воспитывали.
Она поднялась, взяла с полки большой шматок хлеба, состоявший из нескольких спёкшихся вместе булочек, отломила одну и пошла к двери.
– Эй, Гибби! – закричала она, распахнув дверь, – Возьми–ка, поешь!
Но Гибби уже не было. Она поглядела направо и налево, но нигде не было видно ни одного мальчишки, а единственным человеческим украшением улицы был торговец песком, бредущий рядом со своим ослом и тележкой. Жена булочника постояла секунду, потом захлопнула дверь и вернулась к своему вязанию.
Глава 2
Сэр Джордж
Часа два в середине дня солнце жарко припекало улицы города, но в тени даже в это время можно было ощутить холодное дыхание то ли зимы, то ли смерти – короче, чего–то недружелюбного и неприятного для живого человека. Однако босоногий, голорукий, еле одетый Гибби не чувствовал почти никакой разницы между солнцем и тенью. Пожалуй, он ощущал их только как некие музыкальные интервалы жизни, составляющие мелодию существования. Его босые ноги чувствовали булыжники потеплее и похолоднее, и сердце его безотчётно понимало тайну и некий смысл этой смены тепла и холода, но он был почти одинаково рад и яркому, и туманному дню. Рано закалённый тяготами и нищетой, он даже любил эту вечную, добродушную борьбу с силами природы и жизненными обстоятельствами за право существования. Он радовался всему, что попадалось ему на пути, никогда не горевал из–за того, чего у него не было, и жил безмятежно, как животное. Потому что блаженство животных заключено как раз в том, что на своём, более низком уровне, они отражают блаженство тех немногих на земле, кто «не сожалеет ни о прошлом, ни о будущем и не тоскует по несбыточной мечте», но живёт в святой беспечности вечного «сегодня». Гибби ещё не принадлежал к числу этих благословенных людей и был пока немногим лучше весьма счастливого и безмятежного маленького зверька.
Для него весь город был похож на занимательный театр. Многих жителей – даже тех, кто мнил о себе довольно высоко, – он знал гораздо лучше, чем они могли предположить. Причём, он знал о них даже такие вещи, которые они вовсе не собирались показывать ни ему, ни кому другому. Гибби знал всех бродячих торговцев, а также большинство булочников и лавочников, торгующих зеленью, мясом и другим продовольствием. Даже будучи пока всего лишь смышлёным зверьком, он как будто запасался сведениями и знаниями на то время, когда ему надо будет стать кем–то большим и начать размышлять – когда бы это время ни настало. По большей части его нынешний опыт был чудесной подготовкой для будущей проницательности и умения распознавать чужие характеры. Уже сейчас он до тонкостей знал, как поведёт себя с ним тот или иной из его знакомых в той или иной ситуации (конечно, лишь из тех, что ему уже довелось испытать). Когда такой уличный беспризорник вдруг подымается по лестнице творения, обычно он приносит с собой великолепный материал, впоследствии помогающий ему в гуще жизненного водоворота распознавать человеческую природу, человеческую нужду, человеческие устремления и человеческие взаимоотношения, – и распознавать так тонко, что в этом с ним мало кто сравнится. Даже поэт, мудрый благодаря своему великому состраданию ко всему живому, вряд ли сможет понять то или иное человеческое состояние лучше, нежели тот, кто жил и соприкасался с ним долгие годы.
Когда Гибби не смотрел на витрину какой–нибудь лавки и не поворачивался на пятке кругом, чтобы разом охватить взглядом всё вокруг, чаще всего его можно было увидеть бегущим. Ходил он редко. Лёгкий бег вприпрыжку был одним из главных способов его существования. И хотя он без устали пробегал все солнечные часы нынешнего дня, сейчас он снова бежал, подпрыгивая по остывающим улицам, на которых уже сгущалась темнота. Поесть ему много не удалось. Он почти что получил пенсовую булочку, но половинка печенья, отброшенная в сторону раскапризничавшимся карапузом, сослужила ему, пожалуй, даже лучшую службу, чем булочка, и он слегка заморил червячка.
Зеленщица во дворе дома, где жил его отец (этот дом находился на той же самой улице, где он нашёл потерянную серёжку, но гораздо дальше), дала ему маленькую жёлтую репу, которая для Гибби была лакомством не хуже яблока.
Рыбачка, шедшая из Финстоуна с корзиной на спине, разрешила ему взять две полные пригоршни сладких красных водорослей, которыми можно очень неплохо закусить. Кроме того, она дала ему ещё и маленького морского краба, но его Гибби отнёс на берег и отпустил в море, потому что тот был ещё жив. Итак, сегодня ему достались половинка печенья, кругляш репы и немного водорослей вприкуску с запахом свежеиспечённого хлеба. Что ни говори, день выдался довольно скудным. Но если человек обладает той редкой натурой, которая с радостью довольствуется тем, что у неё есть, и умеет извлекать из всего как можно больше пользы, то просто удивительно, как мало ему надо, чтобы жить и процветать. Обычно из всего, что у нас имеется, – будь то глава в Библии или выкопанная из земли репа – мы извлекаем гораздо меньше пользы, чем следовало бы. И просто диву даёшься, когда видишь, что именно те, кому больше всего дано, часто достигают самых убогих результатов, за всю жизнь так и не обретя ни силы, ни характера. И может быть, в Царстве Божьем какой–нибудь католик, полный предрассудков и замученный своими многочисленными священниками, намного опередит того, кто считает себя самым либеральным и свободным прихожанином евангельской церкви.
С такой пищи Гибби было, скажем так, не до жиру, но те скудные крохи, которые ему всё–таки перепадали, превращались у него в прекрасные, маленькие мышцы – маленькие, но твёрдые и здоровые, перевитые жилами, как крепкая плётка. Бедняки, как и богачи, тоже бывают и больными, и здоровыми, а у Гибби здоровье было лучше некуда. Кроме того, он прекрасно чувствовал всё, что происходит вокруг. Он обладал удивительным чутьём и легко находил пропавшие вещи. Глаза его были зоркие и быстрые, они умели молниеносно метаться туда–сюда. Да и нагибаться Гибби почти что не приходилось, таким он был маленьким. Но даже при всех этих преимуществах его способность мигом отыскивать любую потерянную вещь была поразительной, и люди поговаривали, что Гибби просто родился таким вот на редкость удачливым. Наверное, никто не понимал, что даже в те минуты, когда Гибби ничего особого не искал, его зоркие глаза и цепкий умишко не переставали трудиться. Если какой–то предмет отражался в его глазах, это отражение сразу же проникало гораздо глубже и прочно оседало в голове. Однажды ему случилось подобрать кошелёк, оброненный каким–то джентльменом. Приплясывая от радости и озорства, Гибби попытался было незаметно засунуть его обратно в карман прохожего, но тот внезапно схватил его за шиворот. Хорошо, что шедшая сзади женщина видела всё, что произошло, и вступилась за него, а то его непременно сдали бы на руки подошедшему полисмену. Джентльмен так до конца и не поверил в эту историю, такой невероятной она ему показалась. Правда, он всё же дал мальчугану пенни, и тот немедленно потратил его на горячую булочку.
Гибби всегда делал всё возможное, чтобы вернуть потерянные вещи их владельцам. Но эта привычка появилась у него совсем не из–за возвышенных представлений о честности – о ней он вообще не имел никакого понятия, – а по совсем иной причине. Когда Гибби не мог отыскать хозяина своей очередной находки, он просто приносил её отцу, а тот (если за неё вообще можно было выручить хоть какие–то деньги) через какое–то время неизменно обращал её в выпивку.
Пока Гибби вот так вот носился по улицам, как неприкаянный воробей, его отец целый день сидел в одном из тёмных городских дворов и трудился, не покладая рук, насколько ему позволяла разламывающаяся от боли голова и обескровленное, худое тело. Этот двор находился в самом узком конце длинной, кривой, нищенской улочки со зловещим названием Уиддихилл – Висельный холм. Во двор можно было попасть через низкую арку в стене старого дома, на всём облике которого ещё сохранилась смутная печать былого великолепия и старинного благородства. Внутри к одной из стен этого самого дома прилегала внешняя лестница, ведущая на второй этаж, а под лестницей приютился расшатанный, деревянный сарайчик. В этом–то сарайчике и сидел отец Гибби, починяя чужие сапоги и башмаки, пока позволял дневной свет. Чтобы попасть домой, ему надо было подняться сначала по лестнице над сарайчиком, а потом миновать ещё два лестничных пролёта уже внутри дома, потому что спал он на чердаке. Правда, Джордж Гэлбрайт не мог бы сам сказать, как и когда он обычно добирается до своего тюфяка, потому что по вечерам неизменно бывал пьян до бесчувствия. Однако утром он всегда просыпался у себя в постели; при этом голова его обычно гудела, а внутри поднималось смешанное чувство отвращения к выпивке и желания опохмелиться. В течение дня отвращение, увы, бесследно испарялось, а желание выпить никуда не девалось и только усиливалось с наступлением сумерек.
Целый день Джордж Гэлбрайт работал изо всех сил, какие у него только оставались, и работал так усердно и старательно, как будто от этого зависела вся его жизнь, но всё лишь для того, чтобы добыть себе довольно денег на гибельное зелье. Никто и никогда не угощал его выпивкой, да он ни от кого бы и не принял такого угощения. Он был человеком такой врождённой честности, что даже к сорока годам властный демон спиртных паров не смог вытравить из него эту прямоту и правдивость. За ним влачилось последнее облачко былой славы и благородного происхождения, и в его увядшем облике ещё можно было заметить тень прошлого. Со временем любой пьяница непременно превращается в вора, но даже в те моменты, когда жажда по выпивке становилась просто невыносимой, Гэлбрайт пока ещё не опускался до того, чтобы потихоньку выпить забытый кем–то на стойке стакан виски. И до сих пор, несмотря на непрестанную головную боль и ломоту во всём теле, Джордж продолжал трудиться, чтобы выпивать честно, на заработанные деньги. Вот уж воистину странная честность!
Малыш Гибби был его единственным сыном, но он не беспокоился ни о нём самом, ни о его благосостоянии – да Гибби, собственно, и не давал ему никакого повода для беспокойства. Джордж не был жестоким человеком. Доведись ему даже на пьяную голову увидеть, что Гибби голоден, он с радостью поделился бы с ним стаканчиком виски. Если бы он увидел, что тот замерзает, то не думая отдал бы ему свою последнюю рубашку. Но взирая на сына мутными от спирта глазами, он полагал, что у него есть всё необходимое, и поскольку Гибби всегда представал перед ним улыбающимся и довольным, Джорджу просто не приходило в голову, что он как отец совершенно ничего не делает, чтобы хоть как–то обеспечить существование сына. О себе и своих достоинствах он был весьма низкого мнения, что было, в общем справедливо, потому что все его сознательные мысли были устремлены лишь в одну сторону – как бы выпить. Он еле–еле перебивался сам, хвалить его было не за что, и он никак не заботился о своём ребёнке. Лишь в одном отношении – правда, в очень важном – он относился к ближним так, как должно: если уж он чинил вам башмаки, то делал это на совесть и брал за работу совсем немного. Во всём остальном от него было мало пользы и добра.
И всё равно я думаю, что лучше походить на этого пьяного сапожника, чем на многих из наших Мирских Мудрецов или на скаредного, ненасытного ростовщика. Слава Богу, судить нас будет Сын Человеческий! Это к Нему воззовут о милости и пьяницы, и те, кто ещё хуже, ибо Он будет судить по справедливости. Может, для пьяниц даже и лучше, что общество с презрением отвергает их, но неужели не найдётся того, кто взялся бы за них ходатайствовать, защитил бы их и попытался оправдать?
Давайте попробуем понять Джорджа Гэлбрайта. Земное существование было для него безрадостной, тоскливой и холодной пустыней. Он множество раз твердил себе, что непременно исправится, но рано или поздно перед ним всегда вставало манящее видение: он знал, что стоит ему сделать даже самый первый, жадный глоток колдовского напитка, и серое небо разольётся нежно–розовым рассветом, потрескавшаяся от колючего ветра земля подёрнется зелёной дымкой, ветер принесёт на своих крыльях чудную мелодию, и постепенно все несчастья дня бесследно исчезнут, а в ночи запульсируют и запляшут дивные сны. Джордж был необыкновенным человеком. В сердце у него жил поэт – слабый и тщедушный, но способный испытывать бесконечное блаженство. Раньше он время от времени прочитывал хорошую книгу, и тогда всё его существо наполнялось возвышенными, благородными мечтаниями. И даже сейчас та лёгкая материя, из которой ткутся человеческие мечты, пёстрыми лохмотьями развевалась где–то на краю его жизни; ведь ткань не теряет своего цвета, даже если кафтан натянули на огородное пугало.
Когда–то у Джорджа была прекрасная мать, и отец его был человеком довольно развитого ума и общительного характера. Правда, иногда у него случались ужасные запои, но всё остальное время он был абсолютно трезв. Сыну он дал вполне приличное, даже более, чем приличное образование, да и сам Джордж прилежно прочёл и выучил всё, что предлагалось молодым людям в Эльфинстонском колледже, и даже добился кое–какого успеха. Однако о дальнейшем его будущем отец не побеспокоился и даже не сообщил сыну о том, что отчасти из–за собственной упрямой безалаберности, а отчасти из–за коварства других людей, почти всё его имущество было практически утрачено. Справедливости ради заметим, что сам он тоже довольно смутно представлял всю безнадёжность и трагичность того, что произошло.
Его отец был ещё жив, когда Джордж женился на дочери мелкого помещика из соседнего графства, тоже неплохо образованной и обладавшей изумительным природным благородством и изяществом. Он привёз её к себе домой, в старинный городской особняк – в тот самый дом, на чердаке которого сейчас ютились его скромные пожитки, а в сарайчике под лестницей стоял его верстак. Те годы, пока был жив отец, молодые провели здесь в мире и согласии, не жалуясь на особые неудобства, хотя жили довольно бедно. Даже тогда жене Джорджа постоянно приходилось прикладывать значительные усилия, чтобы свести концы с концами. Родственники её отказали им во всякой поддержке, потому что считали её брак оскорблением и насмешкой. Уже тогда её муж встал на скользкую дорожку и начал медленно катиться по наклонной плоскости, но пока она была жива, ей удавалось держать его в рамках приличий. Она умерла сразу после того, как родился Гибби, и тут Джордж начал терять всякое представление о действительности. Ещё через год умер его отец, и после его похорон явились кредиторы, предъявившие права на всё их имущество. Заложенные дома и земли со всей утварью и постройками пришлось продать, и Джордж остался без единого гроша, без умения зарабатывать себе на хлеб и даже уже без надёжной репутации, которая позволила бы ему наняться к кому–нибудь на работу. Для тяжкой, чёрной работы он не подходил по телосложению и, наверное, начал бы просить милостыню или умер бы от голода, если бы один из его собутыльников, весёлый пьяница–сапожник, не научил его своему мастерству.
Джордж был рад заняться делом: отчасти для того, чтобы работой заглушить голос совести и воспоминаний, а отчасти для того, чтобы потом пойти в кабак и вовсе его утопить. Даже это вынужденное занятие было для него полезным, потому что до сих пор он не прилагал себя абсолютно ни к чему, ибо по природе своей был одним из тех мечтателей, которые способны на какое–то время кинуться в водоворот бурной деятельности, но потом быстро остывают и начинают испытывать отвращение к любому напряжению и усилию.
Как Гибби умудрился дожить до восьми лет, навсегда останется неразрешимой загадкой. Наверняка он выжил благодаря милости и щедрости многих добрых женщин, хотя ни одна из них не выказывала к нему постоянного интереса – кроме миссис Кроул, которая не отличалась особой нежностью. Некоторые печально качали головами, наблюдая за тем, как бесприютный мальчуган шныряет по улицам, но на самом деле его отец являл собой гораздо более печальное зрелище, даже в те минуты, когда сидел за верстаком, так усердно работая руками, ногами и коленками, как будто от этого зависело его вечное спасение. Трудно сказать, какие мысли посещали его бедный, усталый разум, но вид у него был несчастный и поникший. Он делал всё возможное, чтобы возродить к жизни почти бесформенный башмак какого–нибудь возчика или уличного попрошайки, но сам быстро утрачивал всякое представление о том, что происходит с ним самим, потому что душу его безраздельно поглотила адская жажда. Ведь у пьяницы выпивки жаждет не столько тело, сколько душа.
Стоило Джорджу усесться с приятелями в заведении миссис Кроул и выпить первую рюмку, как он тут же погружался в мир своих далёких грёз и часами сидел в забытьи, лишь иногда как бы просыпаясь и выныривая на поверхность, на секунду открывая, по каким тропинкам бродит его душа, и разгоняя тупое забвение, часто наводняющее это пьяное преддверие ада. Потому что, наверное, даже обречённые на вечные муки иногда вдруг осознают, где они находятся, – и тогда, должно быть, над проклятым местом их обитания на мгновение нависает страшная тишина. И всё равно, приятели любили Джорджа Гэлбрайта, несмотря на его вечное молчание и почти полную безучастность к их шуткам и весёлым разговорам, потому что вёл он себя неизменно вежливо, всегда был готов делиться тем, что имел, никогда не загадывал, что будет, когда опустеет стоящий перед ним стаканчик, – и вообще, был сердечным, добрым и честным малым. Когда двое или трое из них случайно встречались днём, они непременно вслух удивлялись тому, что молчаливый сапожник каждый вечер приходит посидеть с ними в кабаке, ведь общее веселье так мало занимало его, да он в нём, собственно, и не участвовал. Однако мне кажется, их общество, как и выпивка, было необходимо Джорджу для того, чтобы и дальше избегать неприятных столкновений с совестью и легче ускользать в мир воображения и грёз. Может быть, он знал, что они тоже сражаются с безысходностью, всё глубже увязая у неё в долгу, и так же, как он, пытаются изгнать бесов силою Веельзевула, – и потому видел в них родственные души и чувствовал себя с ними легко и просто?