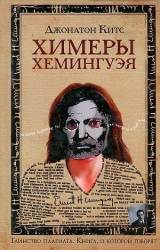
Текст книги "Химеры Хемингуэя"
Автор книги: Джонатон Китс
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Я неплохо устроился. Следующие две недели мы каждый день играли до темноты и разговаривали, зачастую на такие сложные и обширные темы, что, казалось мне тогда, объяснялись они лишь неизменной нашей близостью. Еще мы одновременно читали – часами, оба на диване или один из нас на полу. Я уже долго не читал ничего, кроме «Как пали сильные», и собственный аппетит к литературе поначалу ошеломил меня, но он не шел ни в какое сравнение с прожорливостью, с которой Анастасия глотала всевозможные тома, по мере чтения кратко систематизируя их содержание повсюду на полях. Мы никогда не ели вместе. Будучи восприимчив к метафорам, я объяснял этим ее литературный голод. И предполагал, что она готовится писать новый роман, тот, который мы не обсуждали, – единственная тема, которой мы не касались. Но я думал об этом, когда не думал о ней самой, пытался разглядеть в выбранных ею книгах объединявшую их историю.
У меня ничего не получалось. Я не улавливал принципа. Отнесись я серьезнее к пристальному вниманию, с которым она читала «Как пали сильные», не выброси я его из головы как милое тщеславие, оглядывайся назад чаще, чем заглядывал вперед, в новую книгу, будь я способен увидеть хоть отчасти, что с Анастасией происходит, – я сообразил бы, что общего у вопросов судопроизводства, железной дороги и Эрнеста Хемингуэя. Сомневаюсь. Сомневаюсь, что поверил бы ей тогда, признайся она мне во всем и сразу.
Итак, за отсутствием чужих подозрений она сама расследовала собственное преступление и карала за него в меру способностей. Несмотря на то что голодовка, должно быть, являлась элементом этой кары и я часто замечал, как она перебирает средневековые четки, наверняка самой серьезной карой было само следствие с его трагедийным сюжетом: развязка предрешена – она преступница. То, как она трудилась над следствием, изобличило бы плагиат, даже не будь она в нем виновна. Вы должны оценить качество ее исследования. Что бы вы ни думали об Анастасии Лоуренс, признайте хотя бы это.
Расследование продолжалось пару недель, иногда у моих ног, иной раз у меня на плече или на коленях. Она зачитывала мне отрывки, порой просила меня почитать вслух. Для меня предназначалось это чтение или для нее самой – не могу сказать до сих пор. Думаю, она не слишком четко нас различала. Она считала нашу близость само собой разумеющейся. Мое ощущение, что мы влюбляемся друг в друга, смутило бы ее, как если бы кто-то вдруг спросил, не влюблены ли одна в другую ее правая и левая коленки.
Она, конечно же, ошибалась – как и я. Тогда, признаться, мы еще толком не знали друг друга. Нам не хватало общего кризиса, совместного жертвоприношения, что сплотило бы нас против всего мира. Мы были приятелями, детьми. Она так невинно снимала кольца, чтобы они не мешали в наших играх, и я так невинно верил, что тем самым она дает понять, что готова оставить Саймона ради меня. Наши руки очень близко узнали друг друга за эти недели. Прикосновения говорили нам все, что нужно, – и беседа убредала от последовательности колыбелей, свечей, яслей, бриллиантов и рыб-на-блюде, которые мы передавали друг другу – от пальцев к пальцам – с фигурами бечевки. Мы едва замечали, что делали. С бечевкой или без, мы попали в петлю.
Помню, она спрашивала меня об иудаизме. Я думал, ее вопросы имеют отношение к новому роману, – слишком странного они были свойства. Вопросы, на которые не мог ответить Саймон. Вопросы, которые она предпочитала ему не задавать. Поэтому я и жаждал их, хотя редко был способен рассказать о собственной вере, не сверяясь с книгами, закрытыми в день бар-мицвы и отложенными в сторону – казалось, навсегда.
Ее интересовал антисемитизм во Франции.
– Каково было евреям в те времена, когда Хемингуэй еще жил в Париже?
– Евреев, думаю, он не слишком жаловал. По крайней мере, в своих книгах…
– Он меня не волнует. Я о среднем французе.
– Было дело Дрейфуса. [41]41
Дело Дрейфуса (1894–1906) – процесс по делу о шпионаже и государственной измене, в которых обвинялся офицер французского генерального штаба капитан Альфред Дрейфус (1859–1935), еврей по происхождению. Противники Дрейфуса, стремившиеся обвинить его в государственной измене, в публичных выступлениях нередко использовали антисемитскую риторику. Процесс сыграл огромную роль в общественной жизни Франции того периода.
[Закрыть]Насколько я помню, насчет того, что кого-то обвинили в преступлении, поскольку он еврей. Я могу уточнить…
– Когда ты был там…
– Мне было лет пятнадцать.
– Да, но ты сталкивался с антисемитизмом, из-за которого преступником могли объявить…
– Мне было пятнадцать, я был там с родителями неделю, как турист. И посмотри на меня, на мое лицо. Люди не верят, когда я говорю им, что еврей.
– Пожалуй, ты прав. Значит – никакого антисемитизма? – спросила она, смутно разочарованная во мне. – И ты не знаешь, могли бы тебя в чем-то обвинить или нет?
– Никакого антисемитизма, – ответил я, смутно разочарованный в себе. – Наверное, потому что я никудышный еврей.
– Хочешь сказать, ты грешил? – Теперь она была вся внимание. – По-моему, ты никогда ничего такого не делал.
– Именно. Я не хожу в храм. Я не помню молитв. Мне и в голову не приходило задуматься, существует ли бог. Мне следовало быгрешить. Тогда бы я, возможно, уверовал.
– Во искупление?
– В том числе.
– И что бы ты сделал, Джонатон?
– А что бы я должен был?
– Самое ужасное, на что бы ты решился?
– Да ты наслаждаешься этим.
Она кивнула, выдыхая сигаретный дым мне в лицо.
– Думаю, самое ужасное, на что способен писатель, – это плагиат. Ты бывал плагиатором?
– Все писатели – плагиаторы, Анастасия. Чехов платил людям по пять копеек за анекдот, по десять – за историю, но большинство из нас не настолько честны. Мы принимаем чужие поступки за проделки собственного воображения. Мы крадем у окружающих впечатления, по собственному усмотрению незаконно заимствуем их жизни. Наверное, худшее, что я делаю, – единственное, что я могу делать, – это пишу.
– Ты говоришь в настоящем времени.
– Я ничего не имею в виду. Не имелв виду.
– Но я говорю не о плагиате как метафоре. Я о буквальном воровстве чужих произведений.
– А если сопоставить, выходит вполне невинно: ограбить вора.
– Ты не принимаешь наш разговор всерьез.
– Я бы, возможно, отнесся к божественному порядку серьезно, будь на мне чья-то смерть.
– Для этого тебе нужно кого-то убить?
– Необязательно. Просто поверить, что я мог спасти.
– В жизни бы не подумала, что ты такой альтруист.
– Я не альтруист. Я мог бы позволить умереть, чтобы поверить, будто мог бы поступить иначе.
– Тебя могли бы отлучить?
– По-моему, последним отлученным евреем был Бенедикт Спиноза.
– Значит, лишиться вероисповедания возможно, хотя бы формально.
– Спинозу отлучили в семнадцатом веке.
– Ясно. Теперь для этого надо сменить веру.
– Не уверен, что даже это сработает. Думаю, это что-то несмываемое, как татуировка. Тебе не нравится, что я еврей?
– Не в этом дело. – Она жалобно посмотрела на сигарету, которую только что прикурила от предыдущей. – Как же раскаяться, если не можешь исповедоваться и читать «Отче Наш»?
– Раз в год читать Кол Нидрей. [42]42
Кол Нидрей («Все обеты») – молитва о разрешении от клятв и обетов, которая читается перед еврейским праздником Йом Кипур (День искупления).
[Закрыть]
– И что, этого достаточно?
– Не знаю. Я его вообще никогда не читаю.
– Текста не помнишь?
– Его поют. Повторяют за кантором.
– Его нельзя читать в одиночку?
– По-моему, нет.
– Для этого, кажется, нужен бет-дин. [43]43
Раввинский талмудический суд.
[Закрыть]Возможно, миньян. [44]44
Группа для богослужения, состоящая как минимум из десяти евреев старше тринадцати лет.
[Закрыть]
– Ты много знаешь.
– Пожалуйста, не говори Саймону.
– Я понимаю. – Я представил роман, который она напишет, когда разберется с деталями: историю еврейской писательницы-эмигрантки, доведенной антисемитизмом во Франции до того, что она ради публикации позволила гою украсть ее собственную книгу. Я, правда, не мог взять в толк, почему ей следовало в этом раскаиваться, хотя в контексте романа я понимал, что обращение в католичество придало бы ее исповеди больше остроты. Весьма интригующая история, несмотря на все недочеты, так что мне пришлось сдерживаться, чтобы не написать ее самому. Вместо этого вечером я изучал вопрос перехода в другую веру. Определенно, история была бы выигрышнее, если обращение героини в католичество привело бы ее в никуда, поскольку в дело оказались вовлечены раввины, и она бы очутилась там, откуда начала, и теперь даже ее молитвам не хватало бы законности, чтобы освободить ее от несчастного «я». Но когда назавтра я обрадовал Анастасию известием, что евреи остаются евреями, в какую бы веру ни пытались обратиться и как бы усердно ни старались оставить собственную, она так расстроилась, будто я сказал ей, что ее привычная жизнь закончена, что она была всего лишь фарсом на потеху телезрителям и ей придется вернуться к родителям в Коннектикут.
– Что, если?.. – спросила она, накрутив четки на пальцы, – что, если кто-нибудь переходит из своей религии в иудаизм, Джонатон? Он сможет вернуться?
– Вряд ли тут другие законы. Если новообращенные по своему религиозному статусу приравниваются к урожденным евреям…
– А нельзя признать недействительным?
– Брак? Существует даже развод, – заверил я.
– Нет, не это. Обращение.
– Наверное, это можно как-то уладить. Сомневаюсь, что люди заметят разницу.
– Я не могуэто уладить, Джонатон. Мне нужно в это поверить – иначе как мне вообще во что-то верить? – Она разжала кулаки. Четки выскользнули из пальцев на пол кабинета. Я потянулся за ними, но не успел ухватить, как она стиснула мои руки. – Оставь, – сказала она. – Забудь. Давай просто веселиться, хорошо? Мы же можем? Мы же правда можем просто поиграть? – Когда я притянул ее ближе, она выскользнула. – Не поймаешь! – крикнула она из коридора, босиком выбегая на кухню. Я последовал за ней. Говоря о послеполуденном веселье, она обычно имела в виду домашний бар, который Саймон наполнял из опасений, что иначе она начнет прикладываться к чистящим средствам. Я неизбежно пил вместе с ней, не желая, чтобы у нее вошло в привычку пить в одиночестве. (Мне только однажды пришлось объяснять Мишель, отчего я пьян средь бела дня, и она признала мудрость моего поведения.)
– Что тебе смешать? – спросил я Анастасию.
Она закурила.
– Можешь сделать мне «Бакенбарды Сатаны»?
– Прямые или закрученные?
– Мм?
– Прямые – с «гран-марнье», а закрученные – с апельсиновым «Кюрасао».
– Откуда ты знаешь, Джонатон? Ты все знаешь.
– Так прямые или закрученные?
– Какие тебе больше нравятся. Ты правда знаешь рецепт? Научи меня смешивать коктейли. Этим я и займусь. Стану барменшей. В колледже ты смешивал напитки?
– Только для друзей. Я никогда не знал, о чем болтать на вечеринках. Пока у меня была работа, было что сказать или хотя бы чем себя занять.
– И много девушек просили у тебя «Бакенбарды Сатаны»?
– Ты первая.
– Но ты знаешь рецепт…
– Я должен был быть готов ко всему.
– Научи меня, Джонатон. Пожалуйста, научи меня. Мне надо научиться.
– А где тыуслышала про «Бакенбарды Сатаны»?
– Люди пьют это в романах о двадцатых годах. – Она улыбнулась. – Я нашла это в книге, как и все остальное.
– Я тоже. – Я улыбнулся в ответ и закатал рукава. – А теперь, если собираешься смешивать коктейль, ты должна соответствовать внешне.
– Я не знаю, – сказала она. Она сунула руки в карманы кардигана, прежде моего, а сейчас – верхнего слоя ее костюма.
– Это легко. Просто сними свитер и…
Она покачала головой:
– Я не хочу ничего снимать, Джонатон.
– Только чтобы тебе было удобнее. Во всех этих шмотках ты запросто уронишь бутылку.
– Тебе не нравится, как я одеваюсь. Ты думаешь, я толстая.
– Мне нравится, как ты выглядишь. Просто слишком.
Она уставилась на меня. Крепко обхватила себя руками, неумышленно выдав, как мало ее осталось. Казалось, все ее существо заключалось в этих слоях одеяния, будто они надеты прямо на голые кости. Голодовка. Так она убьет себя, я понял. Я понял, что она убивала себя, и осознал, насколько меня это привлекает. Она задрожала глубоко под своим кардиганом.
– Ты будешь учить меня, Джонатон, или нет?
Я оглядел ее: глаза за очками все еще строгие, но уже что-то жалобное играет в уголках рта. Я впервые заметил, как ввалились ее щеки с нашей встречи почти год назад. Больше не было ямочек, что я видел на моей выставке в «Пигмалионе», когда пытался объяснить ей «Пожизненное предложение». Клянусь, в тот момент я подумал на секунду: не она ли и есть мое «Посмертное предложение», мой смертный приговор?
Такая голодная. Я посмотрел на нее голодным взглядом и открыл бутылку «Кюрасао».
– Я расскажу тебе, что делать, – сказал я. – Сначала выходишь за такого, как Саймон, хотя бы ради алкоголя такого качества.
– Не надо, Джонатон.
– Я серьезно. На него всегда можно рассчитывать в плане правильного спиртного. Он заботится о тебе.
– Пожалуйста, не надо.
Я пожал плечами. Расставил ингредиенты на стойке бара, тяжелой деревянной штуковине, встроенной в стену столовой Саймона, и отправил Анастасию в кухню за апельсиновым соком и льдом.
Столовая обладала типичным безличием Саймона. Как и гостиная, она была обставлена старой французской деревянной мебелью, той, что могла быть у джентльмена, не замечающего, как дед Саймона чистит на улицах его карманы, никогда толком не вникающего, что украдено. К вкусу Саймона невозможно было придраться, хотя невольно удивляло, почему первый в Сан-Франциско дилер современного искусства не украсил свою квартиру ничем современнее belle epoque. Такие хорошенькие вещицы – можно влюбиться уже в одни французские изгибы светлого дерева. Потом вернулась Анастасия, которая в обеих руках тащила апельсиновый сок и все, что забыли на кухне. Нет, Анастасия вовсе не была хорошенькой, и тем более когда постепенно приближалась к гибели. Нет, в своем беспорядке волос и лохмотьев она была просто сногсшибательна.
Она протянула мне сок – пакет оказался легче, нежели я ожидал, – освобождая руки, чтобы закурить. Я вдохнул подержанный ею дым, словно впитывая непостижимую тайну.
– Что теперь? – спросила она. – Я пить хочу.
– Две части сладкого вермута, две части сухого, по две части джина и апельсинового сока, одна часть «Кюрасао» и чуть-чуть горькой настойки, – перечислил я, смешивая ингредиенты в двойном количестве.
– Коктейльные бокалы?
Я кивнул. Она выставила их. Я разлил из серебряного шейкера Саймона.
– Мило, – сказала она и привела меня обратно в кабинет. Села за стол, чтобы не пролить. – По-моему, так должно быть всегда.
– Люди становятся ближе, – ответил я, – а некоторые отношения распадаются.
– Ну, я ничего такого не хочу. У нас есть коктейли и общество друг друга. Мы читаем и играем в игры. Каждый день похож на предыдущий. Мы ничего не ждем, нам нечего страшиться и нечего терять. Обещай, что так будет всегда, Джонатон. Пока мы живы.
– Мы можем рассчитывать на большее, Анастасия.
– Не говори так. Не говори мне о большем.В последний раз это означало, что за мной охотятся папарацци… из-за того, чего я не делала. Саймон спас меня, почти чудом. Хочешь знать, почему я его люблю?
– Нет.
– Вот за это. – Она жестом обвела мироздание, предъявила права на сферу, которая предположительно включала и меня. Уже успела опьянеть? – Он подарил мне этот покой. Я под его защитой. Ты должен это оценить.
– Нет.
– Ты совсем другой. Неудивительно, что ты еще не сделал Мишель предложение. Я люблю Мишель. Я давно бы вышла за нее, не будь она девушкой. Я наверняка буду подружкой невесты на вашей свадьбе. Замужнейподружкой невесты. Я уже замужем. Подумай, разве не смешно? Я даже не знала Мишель, когда она была моего возраста. Готова поспорить, она была прелестна. Она такой и осталась, конечно, и, по-моему, тебе стоит поскорее на ней жениться, потому что она мне немножко завидует.
– Даже если бы я на ней женился, у нее остались бы все причины тебе завидовать.
– Нет, Джонатон. Ты ошибаешься. Ты не понимаешь. – Она допила. Взяла бокал у меня из рук. Болтала дальше, все менее связно. Не помню, что она говорила, но напиток заставлял ее разговаривать, разговор вызывал жажду, а жажда вынуждала пить еще больше. Я не помню ничего, что она говорила в тот день, кроме одного: без вступлений или пояснений она вдруг сказала, что рукопись первого романа Эрнеста Хемингуэя была украдена и никто не знает, что с ней случилось.
После этого я решил, что ее новая книга будет совсем иной, нежели то, что я сначала предположил. Я все равно поместил действие в среду американских эмигрантов в Париже двадцатых, но уже с Хемингуэем в центре событий. Я представил американскую наследницу, эмигранты любят ее исключительно за ее красоту, и эта спортивная девушка вполне отвечает им всем приязнью, но влюбляется в угрюмого темноволосого французского еврея. Естественно, ради его внимания она готова на все. Она спит с ним, возможно, овладевает его языком и принимает его веру, но это лишь отталкивает его. Он влюблен не в нее, а в эмигрантские впечатления, в гений Хемингуэя и его круг. Возжаждав стать частью этого мира или, по крайней мере, казаться таковой своему французу, она соблазняет самого Хемингуэя, крадет рукопись его первого романа и публикует его как свой собственный. Но это провал, неискушенный и незрелый, отвергнутый теми, кто имел какое-то значение, за отсутствие ощущения подлинности.Конечно, Хемингуэй помалкивает, позволяя своей неудаче выпасть на ее имя. Она окончательно теряет француза. У нее не остается ничего, некому даже услышать ее исповедь – она отказалась от собственной религии. Возможно, она совершает самоубийство или, быть может, что-нибудь пооригинальнее. Никак не угадаешь. Я толком никогда не знал, чего ждать от собственных героев, как они поступят, пока они сами не сообразят и не откажутся передумывать. Я писал так, как некоторые живут, читая собственные побуждения в поступках персонажей, которые понятия не имеют о моем существовании, – и мне пришлось разрешить американской наследнице вести себя, как ей вздумается.
Вот только это был не мой роман. Я как-то позабыл об этом, поздно ночью набрасывая сюжет в блокноте за кухонным столом Мишель. Я забыл, что больше не писатель, что придуманная мной история принадлежит Анастасии и весь мир ждет, когда она ее напишет. От меня никто ничего не ждал. Нужно с этим считаться. Я боялся представить, что было бы, начни я новую книгу. Я знал, что никогда не смогу писать, как Анастасия. Она могла делать что угодно – и ее бы простили ради ее искусства. Я наделил ее качеством, однажды по ошибке приписанным мне: способностью творить великую литературу ценой одних лишь чернил и бумаги.
Мишель уже спала, когда я отправился в постель, и все же, когда я лег, ее руки обняли меня – мышеловка захлопнулась. Я разбудил ее, вырываясь.
– Я так счастлива, – сказала она мне на ухо.
– Ты счастлива? Почему?
– Я люблю писателя.
– Кого?
– Тебя, милый. – Она прижалась губами к моему рту. – Я люблю тебя.
Честное слово, это должно было прекратиться. Только я знал, что не прекратится.
xivМы видели их в обществе. Помню, однажды вечером я сопровождал Мишель, а Саймон привел Анастасию на один закрытый прием в честь великого американского художника Халцедони Боулза.
Люди знали Саймона и, разумеется, узнавали его жену. Но рядом с Анастасией они соблюдали определенные неписаные правила, главным из которых было никогда не заговаривать с ней, не обратившись прежде к ее мужу. Никто не знал, откуда взялось это правило и почему, но, то ли из своекорыстия, то ли беспокоясь об Анастасии, Саймон достаточно явно его поощрял, и даже новички в мире искусства догадывались, чего от них ждут. Стэси тихо держалась поблизости, мягким «привет» и сдержанным рукопожатием награждая тех, кого Саймон считал достойным представления. А затем снова пряталась в складки его пиджака, молча глядя через все те же старые роговые очки, которые она упрямо надела, несмотря на шикарный костюм, подаренный ей специально для этого мероприятия, пока муж заканчивал беседу и заговаривал со следующим перспективным клиентом.
Так они и кружили по залу. Анастасия пожала руку директору музея, потом мэру. Были и другие, лица, знакомые по вечерам, проведенным так же, знакомые по свадьбе. Они встретили Кики, которая сообщила Саймону, что его жена прекрасно выглядит, и прошептала Анастасии:
– Тебе придется рассказать мне о своей диете.
– Я просто не ем.
– Твоя жена на редкость остроумна, – сказала Кики Саймону, переходя к разговору с другой парой.
Мишель уже расположила нас лицом к лицу с Халцедони Боулзом.
– Очень приятно, – сказал он, когда она представилась по имени и назвала свою газету.
– Вы не против, если я задам вам пару вопросов?
Пока Халцедони уклонялся от подходящего для цитирования ответа, я наблюдал, как Саймон пробирается с Анастасией через толпу. Каждый держал бокал вина, хотя Саймон ни разу не отпил из своего. Для него это был, как и жена, лишь очередной костыль во время исполнения роли на публике. Кто его упрекнет? Он так хорошо справлялся. Он не смог бы поставить этот спектакль лучше, даже если б сам его сочинил, даже будь его жизнь историей, которой можно манипулировать с такой же легкостью, как переставлять слова. Он не смог бы написать лучшей роли для Анастасии, в чьей походке я различал опьянение, но в чьей улыбке нельзя было разглядеть абсолютно ничего многозначительного. Как бы то ни было, он достаточно крепко ее держал, чтобы не допустить никаких промашек. В умытой, причесанной, наманикюренной, накрашенной, разодетой женщине, приближавшейся ко мне под руку с мужем, я не находил почти ничего от девушки, несколько часов назад сидевшей среди беспорядка на полу кабинета и читавшей мне отрывки «Праздника, который всегда с тобой».
– Мишель и Джонатон, – сказал Саймон, – я надеялся вас тут встретить. – Ни на кого из нас он при этом не смотрел. Он не сводил глаз с Халцедони Боулза.
Мишель представила его художнику.
– Дилер Саймон Стикли, – сказала она.
– А это моя жена Анастасия.
– Польщен, – ответил Халцедони, беря ее за руки. – Я храню вас рядом с кроватью.
– А мы повесили вас в ванной.
– Моя жена, конечно, шутит, – перебил Саймон.
– Вообще-то это всего лишь постер, – призналась Анастасия.
– Эстамп, – поправил Саймон.
– Не важно, он мне нравится. Это пока моя любимая картина в нашей квартире.
– Но, наверное, есть из чего выбирать, – ответил Халцедони.
– У нас обширная коллекция ар нуво, – сказал ему Саймон. – Конечно, моя жена недооценивает эстетическую значимость французской belle epoque. Хотя ни одному из моих художников еще нет сорока, я настаиваю, что их работы, как и ваши, – часть континуума. И работы моей жены тоже. Если кому и стоит воздать должное прошлому, так в первую очередь ей, с ее способностью перерабатывать историю.
– Ваше исследование впечатляет, – сказал Халцедони Анастасии.
– Но что забавно, – упорствовал Саймон, – действие в ее книге вращается вокруг Первой мировой войны без единого упоминания «прекрасной эпохи». И это мне не кажется достоверным в данной исторической обстановке. Вот если бы история действительно была написана в то время, в ней были бы такие подробности. Впрочем, полагаю, дело тут в натуре художника. Приходится игнорировать очевидное, закрывать глаза на факты и все выстраивать по собственным законам.
– Вы давно женаты? – спросил Халцедони Анастасию.
– Почти полгода, – ответил Саймон, – и, не поймите меня превратно, моя жена многому у меня научилась. Я открываю ей такие вещи, которых она иначе никогда бы не увидела. До нашей встречи она была очень хорошей студенткой, изучала литературу, но слишком мало знала о мире. Думаю, она согласится со мной, если скажу, что она никогда не стала бы тем писателем, которым является сегодня, без…
И значительный Саймон продолжал в том же духе. Но мы с Мишель все это уже слышали, да и сама Анастасия, разумеется, тоже – представление никогда не менялось. Дальше мы слушать не стали. Мишель спросила Анастасию, когда они собираются в Нью-Йорк на Американскую книжную премию. Анастасия сказала – послезавтра.
– Может, и вы поедете? – спросила она, улыбаясь мне.
– В газете меня не отпустят, – ответила Мишель, – у меня жизнь не так свободна, как твоя.
– В некотором роде она свободнее моей.
– Я знаю, ты много работаешь. Джонатон только о тебе и говорит.
– Саймон говорит то же самое. – Она снова улыбнулась мне. – Говорит, что лучше узнал Джонатона из моих рассказов, чем за все время, что они знакомы.
– Никогда бы не подумала, что вы так быстро подружитесь.
– Это все только благодаря тебе, – сказал я.
– И Саймону, – добавила Анастасия.
– Мне бы просто не хотелось, чтобы вы оба… забыли о нас.
Анастасия обняла свою высокую бледную подругу, обхватив ее так, будто Мишель – дерево, которое никак не удается повалить.
– Я тебя обожаю, – сказала Стэси, – ты мой самый лучший в мире друг.
Саймон уже закончил разговор с Халцедони. Его жена была занята, и он положил руку мне на плечо.
– Она тебе не в тягость? – спросил он, пренебрегая даже именем Стэси.
– Сейчас?
– В то время, что ты с ней проводишь. Я и рассчитывать на такое не мог.
– Мы хорошо ладим.
– Я знал, что ты повлияешь как надо.
– Думаю, Мишель с этим согласится, – сказал я, когда они с Анастасией к нам присоединились.
– Я даже заметила, что из-за этого Джонатон снова пишет. – Она сжала мою руку.
– Честно? – спросила Анастасия. – Но он же никогда…
– …не должен больше написать ни слова, – вмешался Саймон. – Это условие «Пожизненного предложения», Джонатон. Моя репутация…
– …к делу не относится, Саймон. Я так рада, что…
– Но тут правда нечему радоваться, – заверил я всех. – Я ничего не пишу. Это просто безобидные заметки, даже не мои. Я покончил со своими…
– Не твои? – удивилась Мишель. – Как ты можешь писать не свое? Чьи же они тогда? – Она посмотрела на меня, потом на Анастасию, словно у той мог быть ответ. Анастасия пожала плечами, но ее румянец выдал, что она кое-что знает о чужой работе. – Твоизаметки, Стэси? Джонатон пишет за тебя?
– Исследование, – сказала она, в смущении выдавая единственную правду, которая была совершенно неуместна, но могла прикрыть нас обоих.
– У нее есть вопросы, – объяснил я, не зная, как истолковать ее внезапный румянец, но понимая, что сейчас нужен Анастасии не меньше, чем она мне. – Вопросы относительно Талмуда, на которые я могу ответить лучше, чем она.
– Почему тебя интересует иудаизм? – спросил ее Саймон. – Тебе мало быть писателем? Теперь ты еще и еврейка?
Она так очевидно и сильно вспыхнула в ответ, что я сказал якобы от ее лица:
– Это для новой книги, для ее персонажей.
– Чтобы понять твое прошлое, – вдруг выдала она.
– Откуда мне было знать? – сказал он, крепко обнимая жену. Улыбнулся ей, сжимая объятие. – Она никогда не говорит мне о новом романе, будто ничего и в помине нет. Как мне было понять, что речь обо мне? И как роман, хорош?
– Анастасия может справиться с чем угодно, – сказал я.
– По крайней мере, вместе с Джонатоном, – уточнила Мишель.
Саймон уставился на нее.
– Нам пора идти, – сказал он, – пойдем, Анастасия.
Ее рука скользнула по моей.
– Пока, – сказала она нам и последовала за мужем домой.
Пока Саймон раздевался, Стэси забралась в постель прямо в костюме.
– Так нельзя, Анастасия, – сказал он. – Ты будешь помятая.
Тогда она встала и пошла в ванную. Там она не столько освободилась от одежды, сколько позволила ей упасть со своего скелета. В обхвате она была уже не больше готического шпиля. Все висело на этих узеньких плечах, незаметно подколотое английскими булавками. Обнаженная, она заглянула в зеркало и увидела себя маленькой девочкой. Она подросла, это верно, но, встав на весы, обнаружила, что почти сравнялась с собой в детстве: по весу она почти вдвое уменьшила возраст. Она достала из корзины большую фланелевую рубашку. Как и рабочая одежда ее отца во времена жизни дома, эта рубашка полностью скрывала ее, принимая в свои теплые объятья даже ее озябшие пальцы. Она отперла замок на двери ванной. Муж был уже в постели.
Он не спал.
– Иди сюда, – сказал он. Она взяла сигарету и спички с комода. – Нет, оставь их. – Она подошла туда, где он лежал. Наблюдала за ним и ждала. Он потянулся к ней. Притянул к себе в кровать. Но когда он целовал ее, она лишь смотрела на него через очки. Он снял их. Навалился на нее сверху, как был, в пижаме. Попытался стащить с нее рубашку.
– Пожалуйста, – попросила она, отцепляя его ладони от своего тела. Он направил ее руки к своей промежности. Она нащупала член в разрезе пижамы – слишком вялый, чтобы пробиться через просторную одежду. – Что ты собираешься с этим делать? – спросила она, сжав его, яички и прочее и засунув обратно в пижаму. Потянулась через него, чтобы выключить свет.
В темноте он приподнялся ей навстречу. Ее холодной рукой достал свой пенис из пижамы и, снова взобравшись на нее, засунул ей между ног.
– Мой собственный писатель, – прошептал он. И начал раскачиваться на ней, совершенно невпопад, с закрытыми глазами и гримасой, которую выучился надевать, чтобы демонстрировать удовольствие, столь же чуждое ему, как ей – писательство. Он стиснул ее худое тело. Часто и тяжело задышал, примерно так, как дышат мужчины в приближении кульминации. Предполагалось, что она должна делать то же самое, хотя бы для того, чтобы симулировать оргазм в унисон. Но что-то ее удерживало. Она не отрываясь смотрела в потолок, лишь бы не видеть мужниного спектакля. Она не шевелилась, даже не дышала. Он неуклюже бился на ней, как рыба, вытащенная из воды, которой жена, признаться, нужна была как зонтик.
– Ты скоро кончишь? – уточнил он.
– Я… я уже, – ответила она.
Он остановился на середине толчка. Откатился на свою сторону кровати.
– Хорошо, – сказал он. – Почему ты сразу не сказала?
– Не хотела останавливать тебя, дорогой, – ответила она. – Тебе, похоже, так нравилось.
– Не надо стервозничать.
– Я всего лишь хочу того, что нравится тебе.
– Этот педик Халцедони Боулз отвесил тебе пару комплиментов, и теперь ты уже слишком хороша для меня?
– Я твоя покорная жена. Я сделаю все…
– Например, поставишь меня в идиотское положение на людях? Мы повесили вас в ванной?
– Не яповесила туда этот постер.
– Эстамп, Анастасия. Иногда мне кажется, тебе вообще плевать на все, что меня интересует.
– Ты ничего мне не рассказываешь. Тебя вечно нет дома. У тебя есть Жанель.
– Сегодня вечером я был с тобой. Жанель хотела пойти. Я сказал «нет».
– Естественно. Всемтак хочется встретиться с неуловимой Анастасией Лоуренс.
– Вот уж не думал, что ты так рано станешь такой тщеславной.
– С твоим примером перед глазами это совсем не трудно.
Он ударил ее, отдернул руку.
– Прости меня, пожалуйста, – сказал он.
– Все в порядке. Если твой дряблый хер не способен…
Он ударил ее снова. Не извинился. Она встала с кровати, забирая с собой стеганое одеяло.
– Куда ты? – спросил он.
– Туда, где смогу уснуть без изнасилования и побоев.
– Ты моя жена, – возмутился он, когда она стащила покрывало. – Это покрывало не твое. Вся эта квартира – моя собственность, и на моей территории ты будешь поступать, как я скажу. Я заберу у тебя кабинет. У тебя ничего не останется.
– Мне ничего не нужно, – ответила она. – И если бы у меня ничего не было, я бы не оказалась в таком… таком положении.








