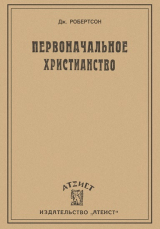
Текст книги "Первоначальное христианство"
Автор книги: Джон Робертсон
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Не следует думать, что создание символа веры и канона или официальной системы церкви было делом чьего-то исключительного ума; если церковь выжила, то в этом можно видеть только результат, с одной стороны, ассимиляции с существующими культами, а с другой стороны – отказа от такой ассимиляции. Нужно было распространиться вширь, чтобы создать достаточно широкую арену для охвата языческого населения, и потому в вопросах мифа и обычая не приходилось отвергать почти ни одного языческого элемента.
При первом выступлении христизма серьезной причиной расхождения между христианами и язычниками был презрительный отказ первых выражать в, какой бы то ни было, форме почтение к «идолам»; этот принцип, заимствованный евреями из Персии, перешел и к первым иезуистам. Однако, когда христианский культ стал государственным, он, как мы увидим в дальнейшем, вынужден был вновь примениться к психологии массы и довел почитание изображений до такой высоты, до какой оно никогда не доходило у язычников.
Даже так наз. египетское «поклонение животным» сохранилось в таких обычаях, как участие священного вола и осла в мистерии рождества христова (народный обряд глубокой древности, относящийся к культу солнца), в заимствовании четырех апокалиптических зверей в качестве символов четырех евангелистов, в понятии «агнца».
Еще до периода иконопочитания церковь полностью пошла на компромисс, занеся бесчисленных языческих «героев» и «гениев», объекты местных культов, в списки святых и мучеников, чьи кости сообщили святость могилам, источникам и храмам и чьи старинные дни поминовения стали частью нового церковного календаря.
С особой настойчивостью церкви был навязан, в конце концов, культ матери, как богини-девы; без этого церковь не могла бы устоять против великих, хорошо организованных культов Изиды, Реи-Кибелы и Деметры, так как эти божества, особенно Изида и Деметра, вызвали такой взрыв экзальтированной набожности, какой был психологически невозможен даже в отношении распятого бога; разве только восторженное поклонение женских почитательниц закланного полубога уравновешивало чувства мужчин – поклонников Царицы неба, матери и вседержительницы. Если бы в первоначальном мифе Иисус не имел мифической матери, ее необходимо было бы выдумать. А раз установившись, культ богоматери неизбежно должен был вырасти до размеров культа Изиды.
Но, с другой стороны, для того, чтобы новая система сохранилась, как официальный институт, необходимо было догматически ввести новое учение в рамки. Насколько конкретные мифы и ритуал увеличивали простор для культа, настолько свобода отвлеченного мышления распыляла его силы и грозила самому его существованию. Всякого рода ручьи могли с пользой вливаться в поток новой веры, но если главной реке грозила опасность разбиться на сотни уходящих в разные стороны рукавов, то это могло привести к тому, что она совсем затерялась бы в песках.
Такая опасность – вину за нее иногда сваливают только на гностиков – появилась с самого начала распространения культа; все послания Павла как ранние, так и поздние показывают, какой был простор для расколов и фракций. Всякого рода случайные «пророчества», которым трудно было противодействовать, создавали бесконечные новшества в доктрине.
На каждом этапе, на котором мы можем проследить раннюю церковь, она раздирается спорами: иудаизма против язычества, принципа «веры» против принципа «дел», Павла против Аполлона, одного Иисуса против другого; самый характер тех сил, которые делали возможной религиозную пропаганду, приводил к частым столкновениям; несомненно, в превратностях сектантской борьбы быстро приобреталось и столь же быстро терялось множество обращенных.
Когда к евреям, прозелитам и невежественным сторонникам первоначального христистского движения стали присоединяться мыслящие язычники гностики, для которых Яхве был лишь одним из многочисленных соперничающих между собой племенных богов, а Иисус – одним из многих конкурирующих между собой закланных спасителей, то вместе с ними появилась разновидность ереси, которая сулила усыпить все раздоры, дав им мирно успокоиться в универсализме.
Теософии Египта и Востока облеклись в форму христизма и создали бесконечную ткань грандиозного мистицизма, в котором проблемы космоса разрешались чисто словесно в виде схематических теорий о посредствующих силах между божеством и человеком и о бесконечных периодах превращения между первым и последним состояниями материи. В этих философских теориях Иисуса объясняли и толковали аллегорически, так же, как и языческих богов, и энергия фанатического озлобления против этих богов по поводу неприемлемых для религиозного мышления свойств их выдыхалась во всеоправдывающем символизме.
С другой стороны, такие философские системы были созданы для созерцательных умов, неспособных успокоиться на тех примитивных решениях, которые дают народные культы; они поэтому никогда не могли привлечь или удержать народные массы. Однако, поскольку такие теории появлялись со всех сторон, христианская организация была вскоре вынуждена точно определить свою догму, чтобы сохранить какое-нибудь отличительное для нее вероучение.
Поскольку так наз. гностицизм послушно позволял себя использовать для украшения канонических книг и опровержения язычников – таковы были, например, сочинения Климента Александрийского, – его принимали без особых колебаний; но всякая новая и независимая теория объявлялась табу. В церкви, стремящейся к практическим целям, умы, склонные к размышлению, были опасны и их неизменно исключали.
Этот охранительный процесс, историю которого мы опишем в дальнейшем, проводился частью путем подделок документов, частью путем более честной полемики, частью путем административного воздействия и установления символа веры голосованием. Но наиболее центральной и решающей силой естественно были подделки, когда они были удачны; мы и теперь еще можем видеть по схематическим рассказам Деяний Ап., по интерполяциям Апокалипсиса, по некоторым поправкам к евангельскому тексту и по наиболее явно подложным посланиям Павла, как фракционность и фанатизм побеждались ловким обманом и как для защиты от неудачных народных иллюзий создавались новые иллюзии, но уже годные для официальных целей церкви. «Истинная» вера – именно та, которая оказалась способной выжить.
5. Космология.Как мы видели, языческая философия действительно проникла в священные книги новой веры, а именно в виде учения о Логосе или «слове», которое в четвертом евангелии в сущности преображает всю иезуистскую систему. Четвертое евангелие в более сильной степени, чем проповедь Павла, обосновывает доктрину языческого христианства. В синоптических евангелиях основоположник христизма представляет собой неопределенную фигуру иудейского мессии, который должен скоро возвратиться при кончине мира, чтобы судить живых и мертвых; такая религия могла удовлетворить только такое общество, которое было убеждено в непосредственной близости дня страшного суда.
В посланиях Павла и других апостолов вера в скорое пришествие Христа проявляется в полной силе и только в одной из последних подделок (2 посл, к фессал. II) включена оговорка. Когда неопределенно указанный срок второго пришествия явно прошел, а церковь тем временем стала экономической организацией, как и другие культовые объединения, то, чтобы удержаться, ей необходимо было создать религию, которая годилась бы для мира, продолжающего существовать.
Изменчивые пригодные для этой цели спекуляции гностиков в интересах единства церкви пришлось запретить, и понадобился поэтому какой-то вид философской догмы, которая, подобно гностическому учению, рассматривала бы мир, как длительный процесс. Павловское полемическое богословие также не удовлетворяло этому требованию, так как оно только защищало права верующих язычников на участие в обетованном евреям спасении; такую же точку зрения развил еще до Павла Филон.
Четвертое же евангелие, заменив еврейскую пасху жертвоприношением Христа и поставив на место потомка Давида слово «логос», дало теоретическую базу для постоянного космополитического культа, аналогичного египетскому и персидскому. Изображение истории о деятельности первых апостолов среди язычников также составляло часть того же процесса приспособления; но только четвертое евангелие дало ту религию, которую старались развить официальные компиляторы.
Психологически этот процесс был подготовлен всем направлением еврейской мысли последнего времени вне Иудеи. Идея о «слове» божием, как о существе, способном к олицетворению, долгое время существовала в еврейском богословии, выражена во многих местах ветхого завета и представляет собой лишь вариант того психологического процесса, в силу которого брамины дошли до представления о Ведах, а магометане о Коране, как о существующем извечно слове.
Халдейское слово «мемра» уже в значительной степени заключало в себе мистический элемент значения слова «логос», обозначающего «слово» и «разум»; книги «Притч Сол.», Иова и «Премудрости Соломона» популяризировали понятие об олицетворенной божественной мудрости, обитающей рядом с божеством, а александрийский еврей Филон сделал Логос центральной фигурой в своей теософии. Но в теософии Египта и Персии это самое понятие было уже давно установлено; Платон пустил его в обращение в греческой теософии, скомбинировав его с мистическим учением о кресте, а Тот, Гермес и Митра были уже известны своим почитателям, как Логос.
Таким образом, четвертое евангелие, сложили ли его в Эфесе или в Александрии, еврей-космополит или прозелит-язычник, имело основание найти отклик у всякого христиста, за исключением первых еврейских иезуистов, так как четвертое евангелие было написано как раз с целью уничтожить их монополию. Евангелие, конечно, не давало связной философии вселенной, а проблему зла, которую гностики постоянно старались разрешить, оно просто устраняло; тем не менее, оно вполне было годно, как религиозный документ, заменяющий философскую систему.
Все же только под давлением обстоятельств пришлось дать евангелию от Иоанна место в новой религии. Несмотря на многие вставки, имеющие целью привести его изложение в согласие остальными евангелиями, его отличие от остальных настолько сильнее разногласий внутри синоптических евангелий, что только крайней жизненной необходимостью в борьбе культа за свое существование можно объяснить окончательную канонизацию всех четырех евангелий.
Эта необходимость была настоятельной и преодолела ту оппозицию, которую вызвало четвертое евангелие. Во всяком случае, христианская организация не могла отказаться от такой массы доктрин, исходящих, якобы, из уст самого основоположника; а раз этот трактат по указанным мотивам был принят в канон, он сыграл свою роль в деле подавления способности к критическому суждению.
Четвертое евангелие прямо исключает положение о рождении богочеловека в Вифлееме; тем не менее оно, как и второе евангелие, не знающее истории о Вифлееме, сгруппировано с первым и третьим евангелиями, дающими обстоятельный, хоть и и не согласный, рассказ об этом событии. А там, где можно было допустить, таким образом, непримиримые расхождения по самым существенным фактам биографии Иисуса, можно было, конечно, пропустить и самое широкое расхождение в идеях учения. Двойное давление предрасположения и корпоративных интересов помогло преодолеть вызванные им трудности.
Основной момент – невежество и легковерие паствы – одолел все препятствия. Легковерию соответствовала склонность к изобретательству; христианская религиозная община, как и другие, была скреплена силой стадных устремлений, враждебного окружения и экономических интересов.
ЧАСТЬ II. ХРИСТИАНСТВО ОТ ВТОРОГО ВЕКА ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИСЛАМА.
РАЗВИТИЕ ХРИСТИАНСТВА ДО ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕРКВИ.
1. Численность церкви и ее внутренняя жизнь.К тому моменту, когда во II веке начала вырисовываться «католическая» христианская церковь, как политическое и общественное целое, она представляла собой гораздо менее численную армию, чем это рисуется в сочинениях ее поборников. Выражения, какие употребляют «Деяния» (гл II, IV, V, VI), извращают истинное положение вещей. Первые «церкви» в городах Малой Азии или же группы, которым «Павел» адресовал свои послания, были лишь незначительными собраниями, устраивавшимися в частных домах.
Даже в V веке, через шестьдесят лет после принятия христианства Константином, антиохийская церковь, одна из самых древних и важных, насчитывала, по-видимому, только пятую часть населения города, т. е. около 100.000 из полумиллиона. В обширном круге Новой Кесарии в III веке объявились только 17.000 верующих, а в самой римской церкви в том же III веке было, вероятно, не больше 50 000 христиан при населении, может быть, в миллион. Далее, в Египте вплоть до конца II века не было ни одной церкви вне Александрии.
Таким образом, заявления Юстина, Тертуллиана и других отцов церкви, повторявших в данном случае сообщение Деяний, будто христиане были повсюду во всей империи и будто среди всех народов проповедовали евангелие и славословили Иисуса, надо считать чистой риторикой в восточном вкусе. Христианство вообще существовало только в городах империи, часто также в небольших городах Востока, но pagani, население сельских округов, так крепко держалось своих верований, что слово pagani стало для христиан нарицательным именем для обозначения приверженцев старых культов; если в Персии и Аравии замечалось еще кое-какое миссионерское движение, то в западные провинции христианская пропаганда в первые два века вряд ли вообще проникала.
Даже в Галлии христианство имело мало сторонников; а что касается Британии, где, говорят, в Йорке в III веке существовала группа христиан, не сохранилось ни одного памятника, который свидетельствовал бы о наличии там христианства в течение четырех веков римской оккупации; между тем, памятники культа Митры, процветавшего в армии, встречаются часто. Таким образом, к концу II века, надо полагать, в центральных провинциях Римской империи даже одна сотая населения не была христианизирована, а дальние провинции фактически вовсе не были затронуты.
О нормальной внутренней жизни обращенных в ту эпоху можно составить себе некоторое представление, если одновременно окинуть взором бывшее тогда в ходу учение, заявления апологетов, жалобы, содержащиеся в апостольских и более поздних посланиях, и тон и характер всей церковной литературы. Кое-какие выводы можно сделать из того факта, что даже в самом Риме первые верующие принадлежали главным образом к выходцам с Востока.
Но было бы, конечно, ошибкой на основании совокупности всех данных предполагать, что в жизни раннехристианских общин преобладал какой-нибудь конкретный, только для нее характерный тип; напротив, по многим пунктам мы имеем право брать за общую скобку христианское движение, его предшественников и его окружение. Так, например, можно утверждать, что христиане были очень слабо развиты в умственном отношении, сознательно отвергали работу мысли и ограничивали умственную жизнь религиозными интересами.
Если не считать некоторых посланий Павла, обнаруживающих известный темперамент и нравственную энергию, в ранней церковной пропагандистской литературе нет ничего, что могло бы выдержать сравнение с лучшими образцами предшествующей литературы Греции и Рима. Предание изображает апостолов как фанатиков с узким кругозором и ограниченными жизненными интересами, не обнаруживающих понимания человеческих склонностей, неспособных к радости вне религиозной экзальтации, мучительно погрязших в богословских спорах и апокалиптических пророчествах.
Наиболее удачливые проповедники были, может быть, наименее умными. Папия, епископа Гиерапольского, который у Евсевия изображается как лицо, встречавшееся с людьми, лично слушавшими апостолов, тот же историк определенно называет человеком малого разумения; его идеи о тысячелетнем царстве, как уже прошедшем, оправдывают такое критическое отношение к нему Евсевия.
Другие традиционные фигуры II века, как епископы Поликарп и Игнатий, представлены, главным образом, как образцовые мученики, т. е. в самом выгодном освещении, в каком можно представить неодаренных людей; но в приписываемых им сочинениях нет ни одной строчки, которая не вызывала бы подозрения в подделке. Вообще о первых христианах создалось совершенно преображающее их идеальное представление, связанное с мученичеством и гонениями; такие испытания, при которых мужчины и женщины ищут опоры в своих высших проявлениях мужества и твердости, положительно облагораживают.
Интересно, что такого рода все собой покрывающая доблестная стойкость обнаруживается там, где ее менее всего можно ожидать: у мужчин и женщин, которых давно сломила восточная тирания, у египетских феллахов, привыкших к плети, у крестьян, приученных молча трудиться и повиноваться. Но возможность такого временного подъема духа в мученичестве не меняет нормальной жизни этого типа людей. Невежество, фанатизм и суеверие приносили в обычной обстановке свои обычные плоды. Христианское предание знает, что даже среди мучеников были дурные люди, искавшие в мученичестве кратчайшей дороги в рай.
В раннехристианских общинах было много рабов и, может быть, от трех до пяти процентов нищих. Процентное отношение женщин было, вероятно, так же велико, как и в современных церквах; один из упреков, который язычники делали христианам, заключался в том, что их проповедники охотнее всего обращались к женщинам, а количество богатых женщин среди членов общины было относительно велико. Все сословия без различия глубоко верили в злых духов, и наиболее устойчивым был взгляд на веру, как на защиту против бесовских влияний. На службе римской церкви в III веке состояло 46 пресвитеров, семь дьяконов, 42 послушника или клирика и пятьдесят «чтецов», заклинателей и привратников; эти вот заклинатели были загружены работой, по крайней мере, не меньше, чем прочие члены клира.
В отношении морали больше всего значения придавали плотским грехам, частью потому, что они были наиболее распространенными, частью потому, что идея интеллектуальной этики еще не зародилась; поскольку церковь была подвержена вспышкам гонений, ее практика была несколько суровой. Мужчины и женщины, приставшие к церкви главным образом ради ее милостыни и агап[14]14
Агапа (от др.-греч. ἀγάπη – «любовь») или вечеря любви в I – V веках н. э. – вечернее или ночное собрание христиан для молитвы, причащения и вкушения пищи с воспоминанием Иисуса Христа. Основанием этому изначально было исполнение заповеди Христа о любви, поэтому словом «αγάπη» стали называть и само это собрание.
[Закрыть], вряд ли были склонны оставаться в ней в тревожное время, а самое провозглашение принципов аскетизма первоначально привлекало лишь людей, у которых аскетизм – призвание (такие люди имеются во всяком обществе).
Но такие аскеты почти во все времена находились среди еретиков и раскольников так же, как в самой церкви, и наоборот, послания Павла определенно свидетельствуют о разноречиях по вопросу об аскетизме среди «апостольских», т. е. правоверных обращенных. Некоторые гностические секты придерживались строгого аскетизма, другие оспаривали его; метод суждения a priori можно было применять попеременно с одинаковым успехом к противоположным доктринам, – что дух должен умерщвлять плоть, и что действия плоти не касаются духа. Такое же расхождение в практике вызывалось в то время и позднее в основном ядре церкви борьбой принципов «веры» и «дел». Тертуллиан определенно подчеркивает призрачность христианской веры в его время в Карфагенской церкви, где преданность вере была во всяком случае не меньше, чем в других местах.
Облик взятого в отдельности среднего христианина II века представляется в таком роде: неграмотный человек из нижесреднего или бедного сословия; живет в городе; испытывает глубокое отвращение к «идолам», театру, цирку и публичным баням или, по крайней мере, убежден, что все это следует презирать; в высшей степени склонен к вере в демонов и в чудеса; неспособен критически относиться к священным книгам; сам невротик или относится с почтением к неврозу; легко воспламеняется страстью к распятому богу и к священному таинству, в котором подается «плоть и кровь»; лишен эстетических, как и философских способностей; никаких мыслей о гражданском долге и политической теории; очень предан ритуалу; способен на фанатичную ненависть и на личное коварство; не обладает природной чистоплотностью и целомудрием и не испытывает в этом постоянной потребности; во время гонений его охватывает экзальтированная страсть к самопожертвованию; в такие моменты, возможно, временно приближается к провозглашенному идеалу любви к врагам.
Но основным стимулом для единения внутри общины в мирную пору, как и в периоды гонений, служила скорее господствующая страстная ненависть к языческим верованиям и обычаям и пылкая надежда на «спасение», чем социальный или даже только узкосектантский энтузиазм. Как заметил один ортодоксальный церковник, «даже при беглом чтении нового завета нельзя не поразиться, как часто упоминаются безнравственные люди, именующие себя христианами».
Такого рода паствой в первые века управляло духовенство, обладавшее сомнительной культурой, иногда отмеченное силой характера, но никогда не отличавшееся глубиной и широтой мысли.
Если сравнить христианских писателей древнего мира с языческими мыслителями, жившими на три и больше столетий раньше, можно получить яркую картину умственного упадка, сопровождавшего рост империализма. От Платона до Климента Александрийского, от Аристотеля до Тертуллиана такая же глубина падения, как при спуске с величественного плоскогорья на бесплодную равнину или душную долину: здесь такая же разница, как между различными стадиями развития организма.
Но даже между раннехристианскими отцами церкви и современными им язычниками контраст в интеллекте и эстетике поразителен. Сравнение Юстина Мученика и Климента Александрийского с Плутархом или Эпиктетом сразу создает впечатление о духовной нищете первых: жизненный уровень язычников выше, сама жизнь богаче и благороднее, характер христиан резок и угрюм, даже у Климента, напитавшегося учености и языческой метафизики.
Даже такой культурный и относительно свободомыслящий человек, как Ориген, в своем возражении Цельсу часто оказывается в невыгодном свете по сравнению с язычником, проявляющим определенно больше мужества и проницательности, особенно в тех местах, где он от чистой полемики в еврейском духе переходит к философским размышлениям. Будучи не менее суеверным, чем Цельс, наш христианский писатель доходил до таких вульгарных верований, как вера в магическую силу некоторых божественных имен. Однако, Ориген, родившийся в семье образованных христиан, – почти недосягаемый идеал в древнехристианской литературе в смысле культурности и умственной гибкости (185 – 254).
Таким образом, можно сказать, что вплоть до времени Оригена и Климента христианский культ не привлек к себе из рядов язычества ни одного более или менее значительного ума; религиозные гуманисты типа Плутарха и тонкие моралисты вроде Марка Аврелия ушли в могилу, не увлекшись даже временно христианством. Оставшийся в литературе дух сатиры держался в стороне от религии; для Лукиана в церкви не было места, хотя возможно, что как раз христиане сохранили его сочинения, поскольку он высмеивал языческих богов.
Только когда упадок империи поразил все источники умственной жизни, христианские писатели, которые тоже не были представителями умственного оздоровления, могут выдерживать сравнение, один на один, с современным им язычеством; но и здесь широта кругозора остается опять-таки у мистиков старого образа мысли, вроде Порфирия и Плотина, а не у ожесточенных полемистов новой веры, Киприана или Арнобия. Тот моральный признак, который в новое время считался первичным и типичным для христианства, а именно imitatio diristi, никогда не был свойственен христианским отцам церкви; во всяком случае, этот принцип не был у них выдержан. Идея подражания Христу – скорее результат средневековых размышлений, продукт многих поколений монастырской жизни и налаженного церковного порядка под защитой необычайно прочного мира.
В течение тех веков, когда христианская церковь, постепенно разрастаясь, стала, наконец, самым подходящим культом для гибнущей империи, ее история почти сплошь занята внутренней и внешней борьбой, конфликтами между церковью и ее языческими гонителями, между ее литературными корифеями и языческой критикой, между поборниками ортодоксии и еретическими новаторами, между сторонниками различных догм, чья борьба на жизнь и на смерть должна была в конечном счете определить, в чем сущность ортодоксии.
Основным социологическим фактом надо считать существование организации с прочной экономической жизнью – прочной, так как она обслуживала постоянный спрос – в недрах общества, чьи учреждения все более и более страдали от экономического упадка. Когда начинались враждебные действия со стороны внешних сил, составные элементы этой организации сплачивались, чтобы оказать сопротивление и выжить; впоследствии спорящие группы боролись одна против другой за обладание могуществом и престижем церковной организации. История обоих видов борьбы с внешними врагами и между отдельными группировками внутри церкви есть вместе с тем история христианской догмы и иерархической структуры церкви.








