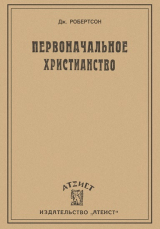
Текст книги "Первоначальное христианство"
Автор книги: Джон Робертсон
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
В свою очередь Констанций в 353 г, как мы узнаем из кодекса Феодосия, издал указ о закрытии всех храмов во всей империи; указ предписывал предавать казни всех, кто будет приходить в храмы или приносить жертвы, и конфисковать их имущество; такое же наказание грозило правителям, которые не проводили бы во всей строгости нового закона. В том же году Констанций посягнул на ночные языческие богослужения в Риме, где христианская служба долго еще совершалось ночью.
Спустя три года, когда Юлиан был назначен цезарем под его началом, он составил указ, подписанный ими обоими, в котором он в немногих словах подтверждает установление смертной казни для всех, кто будет приносить жертвы или поклоняться идолам – это в то время, когда некоторые христиане уже начали поклоняться идолам в своих церквах.
Так как нет никаких следов о том, чтобы по этим законам совершались какие либо официальные действия, и так как есть вещественные памятники, доказывающие как раз, что, по крайней мере, в Западной империи и в Египте языческие культы продолжали свободно существовать по-прежнему, то мы вынуждены заключить, что эти указы, если они и были написаны, никогда не были обнародованы Констанцием.
Напротив, существуют официальные данные о том, что он, сохраняя языческое звание pontifex maximus, издал, как и Констант, строгие законы против осквернителей языческих могил; далее известно, что он продолжал платить жалованье фламинам, авгурам, весталкам, обычно лицам высокого ранга. По-видимому, фактически самодержец не мог или не смел силой провести свои законы против языческих культов. Однако, на всем Востоке и даже в Италии, там, где храмы не посещались и плохо охранялись, они легко подвергались бесстыдному разграблению и разрушению со стороны христиан, остававшихся безнаказанными.
Помимо того, Констанций увеличил финансовые привилегии христиан, выдавая повышенное жалованье духовенству и раздавая общинам провиант. Он сохранил также огромную свиту порочных христианских паразитов. Все это ухудшало и без того несносное бремя государственных налогов и привело к крайнему напряжению финансовой системы, близкой к краху. Как глава церкви, он председательствовал на соборах, а как полуарианин, он покровительствовал арианству и преследовал школу Афанасия, а ортодоксы не смели ему противоречить.
Точно так же ни одна партия его не осудила, когда он грубо убил молодого Галла, христианского брата Юлиана, оставив в живых из всей семьи Константина только одного Юлиана. Собравшимся на собор епископам он заявил, что его воля – канон, и он запретил им осуждать те мнения, которых он держался. Одного епископа он послал на пытки, других отправлял в ссылку, одного казнил; он несомненно убил бы Афанасия, если бы этот великий агитатор не скрылся так хорошо у египетских монахов.
Под давлением императора собор в Римини высказался за арианство; для себя он придумал титул «его вечность» и называл себя господином вселенной. Только милость императрицы и собственные опасения императора спасли Юлиана от участи его брата, так как, по-видимому, он замыслил и его смерть.
Церковь была достойна своего главы. «Всякий раз при выборе или изгнании епископа – говорит один ортодоксальный писатель, – «наиболее славные престольные города христианства – Константинополь, Александрия, Антиохия – являли собой зрелище, которое опозорило бы революцию». Юлиан рассказывает, как целые толпы людей, обделенных еретиками, предавались смерти, особенно в Кизике и в Самосате, а в Пафлагонии, Вифинии и Галатии и многих других провинциях целые города и селения уничтожались дотла.
Во время одной резни в Константинополе – то была вторая по счету резня в связи с восстановлением в должности полуарианского епископа Македония (342) – погибло больше трех тысяч человек, гораздо больше, чем за целых десять лет во время последних языческих гонений. Ортодоксальная масса, разбившаяся на яростно борющиеся партии, сражавшаяся, как дикари, в самых храмах своих, обнаружила ту же жестокость, что и ее вожди. Перед лицом этих ужасов христианское духовенство проявило больше бессилия делать добро, чем какое бы то ни было другое духовенство.
Григорий Назианский, чьи свирепые речи иллюстрируют характер той эпохи, откровенно заявил, что он никогда не видел собора, который добился бы чего-либо, кроме ухудшения спора. Таково было христианство при первых воспитанных в христианстве императорах. А если считать Тиридата Армянского (302) первым христианским царем, то и здесь с первыми шагами христианства, как государственной религии, дело обстоит не лучше, так как и здесь новая вера распространялась огнем и мечом, а старую неустанно преследовали в течение ста лет жестоких религиозных войн между Арменией и Персией. Новая вера «пришла принести не мир».
3. Реакция при Юлиане.Все согласны в том, что кратковременный эпизод «возрождения язычества при Юлиане – одна из интереснейших глав позднейшей истории собственно Римской империи. Единственный после Марка Аврелия император, привлекательный для нас, как человек и мыслитель, Юлиан поставил перед собой задачу, которая, независимо от ее успеха или неудачи, должна была высоко вознести его имя в летописях упадочной цивилизации; в сущности, его неудача делает его наиболее живой фигурой в длинном ряду монархов от Константина до Карла Великого. Именно при сопоставлении его с другими императорами обнаруживается величие Юлиана.
Если мерить его меркой прогрессирующей цивилизации и сравнивать его с великими мыслителями доимператорского мира и с лучшими государственными людьми последующих царств, он не окажется ни великим правителем, ни великим умом. Ожидать высшего государственного ума в общей обстановке упадка значило бы от начала до конца не понять историю империи. Если бы даже предположить, что в таком обществе мог родиться потенциально великий талант, он не мог бы развиться и проявить себя: этому мешала умственная и чувственная атмосфера той эпохи. Для того, чтобы могли появиться крупные умы, нужны были крупные люди, а империя положила конец этой породе людей.
Оригинальность мысли давно исчезла в этом мире, где наивысшим отличием считалась грубая сила, перед которой культурные люди пресмыкались, как животные под плетью. Неистовое творчество Лукреция и широкое здоровое суждение Цезаря стали тогда для носителей римского имени так же невозможны, как и жизнь форума времен Кориолана или греческая литература эпохи Аристофана. Процесс покорения мира под иго империи кончился тем, что все люди превратились в вьючных животных, и их наиболее способным вожакам оставалось только оседлать их.
Юлиан, впечатлительный ребенок, спасшийся от избиения всей его семьи, выросший среди книг, содержание которых никто не мог ему толково разъяснить, стал, в конце концов, верить во все религии, кроме той, которая стремилась искоренить все прочие. Погрузившись в теософию, он способен был радоваться исчезновению эпикурейцев, наименее легковерной и потому самой здравой философской школы. Но тех учений, которые он себе избрал, было достаточно, чтобы сделать из него надолго образец умеренности и самообладания; будучи властелином мира, он был целомудренным и воздержанным; он был справедлив и великодушен, несмотря на вызывающее поведение противников, на которое он мог бы ответить, если бы хотел, массовыми избиениями.
Он больше всего заботился о внутренней жизни, хотя умело управлял всей вооруженной силой государства. Если говорить о нравственности, то приходится сказать, что христианство никогда не дало ни одной области Римской империи правителя, достойного сравнения с Марком, Аврелием и Юлианом, и на всех тронах мира до настоящего времени не было человека, который стоял бы выше их по нравственному благородству. А если мы остановимся на веке Константина, мы не можем не поразиться тем обстоятельством, что Констанций «бледный», отец Константина, монотеист, но не христианин, и Юлиан, отвернувшийся от христианства к политеизму, были наилучшими людьми в ряду вышедших из этой семьи правителей.
Христианство привлекало к себе худших людей, Константина и его сыновей, и отталкивало или не умело удовлетворить лучших; как раз младший Констанций, воспитанный в христианстве, оказался хуже всех. Наиболее благородные душевные качества связывались с язычеством, а на стороне христианства оказывается знаменательное отсутствие хороших людей.
Короткая жизнь Юлиана была наполнена не только занятиями, но и испытаниями. Будучи воспитан в христианстве, он сумел в ту пору, когда его жизнь зависела от милости Констанция, составить себе свое собственное мнение о религии, кровавые плоды которой были перед его глазами. По-видимому, он был тайно обращен в язычество, когда он обучался в Пергаме, до убийства его брата (354).
Когда он был назначен цезарем (355), он находился под строгой опекой, и в течение пяти лет его умелого командования в качестве цезаря в Галлии и Германии, и даже после того, как легионы провозгласили его августом (360), он скрывал свою веру. Лишь тогда, когда он выступил в поход против Констанция, он открыто признал свою веру и принес жертвы древним богам, а когда смерть объятого страхом императора сделала его полновластным монархом, он начал усердно восстанавливать старые обычаи.
Будучи сам идеалистом и действительно аскетом, он старался превратить язычество в религию чистоты и милосердия, которая должна была перенять от христиан их первоначальную иудейскую практику воспомоществования бедным, и выступил против народной распущенности с той же твердостью, что и первые христиане, но применяя при этом стоическую умеренность, а не мрачный фанатизм. Для этой цели он построил и одарил новые храмы, вновь одарил жрецов там, где их ограбили, и заставил возвратить или восстановить отнятые у них или разоренные земли, строения и владения. В то же время он отнял у христиан предоставленные им привилегии и дары; за это, а также за его нелюбовь к вульгарным проявлениям язычества, против него писали грязные и дерзкие пасквили; особенно изощрялась антиохийская чернь как языческая, так и христианская. Но Юлиан не пытался мстить, хотя он был достаточно задет, чтобы ответить сатирой.
Энергичные злобные нападки на его память со стороны церковников доказывают, что он никогда не унизился до гонений, если не считать гонением запрещение христианам преподавать в школах риторики; на это он мог привести, по крайней мере, тот довод, что христиане постоянно поносили языческую литературу, которую изучали в этих школах, и, оставаясь последовательными, они должны были бы оставить ее в покое.
Некоторые христиане действительно серьезно жаждали полного закрытия этих школ. Но больше всего, очевидно, приводило в ярость христианских противников Юлиана его язвительное отношение к христианским спорам. Вместо того, чтобы преследовать разные фракции, он защищал их одну против другой, возвращал из ссылки еретиков, приглашал конкурирующих догматистов на устраиваемые в его присутствии диспуты, где спорщики, к удовлетворению императора, в своей злобе сами себя унижали. Яд воспоминания о таком диспуте вызвал у Григория Назианского, познавшего горечь христианской ненависти, такое страстное озлобление против Юлиана, что он желал бы видеть тело его брошенным в общественную клоаку.
Неоднократно поднимался вопрос о том, могло были пылкое желание дискредитировать христизм заставить Юлиана сделаться гонителем христианства, если бы он прожил дольше; такая эволюция действительно была бы вполне возможна. Его усердие было так велико, что, неся на своих плечах бремя империи и командования армией, он нашел все же время в течение своего кратковременного царствования написать длинный трактат против христианских книг и христианской веры; при этом его обширные знания и превосходная память сделали его критику убийственной. Его тон по отношению к Афанасию становился все более жестким. Да и трудно человеку, повелевающему тридцатью легионами, терпеть оппозицию и оставаться справедливым.
Но, с другой стороны. Юлиан дал доказательства не только необычайного самообладания, но и исключительного здравомыслия в чисто политических делах. Самый факт, что его юношеский энтузиазм сбил его с пути, возбудив в нем надежду восстановить язычество одним мановением руки, говорит о том, что при его складе ума он после первого урока повел бы политику осторожности. Он пал в сражении с персами (363) после лишь 12 месяцев полновластия и не успел приспособиться к положению вещей, которое для него открылось на опыте; он успел только почувствовать разочарование. Если бы он дожил до того, чтобы создать себе собственное суждение, а не только усвоить идеи своих учителей – неоплатоников, он прекрасно был бы в состоянии создать лучшую философию, чем философия политеистов или христиан.
Такую философию оставил после себя Эпиктет, не говоря уже о других; но страсть Юлиана к обрядам и жертвоприношениям была шагом назад по сравнению с ходкой в его время языческой мудростью и этикой, а его легкомысленная вера в мифы была шагом назад по сравнению с языческим рационализмом, развитым несколько позднее Макробием, небезызвестным в дни Юлиана. Столь же недостойной лучших образцов языческой мысли была его приверженность к языческой нечистоплотности – какое-то извращенное щегольство, прошедшее, вероятно, вместе с молодостью.
Достаточно было нескольких лет, чтобы показать ему, что языческие веры также не способны переродить людей, как и христианская; к своим законам по реформе административного управления ему следовало бы прибавить и законы, направленные к реформе культуры. Его ранняя смерть дала возможности многим христианам изощряться в риторике на тему о том, что Юлиан был суетным мечтателем. Но поскольку смысл этой риторики в том, что христианская церковь, якобы, не могла быть сокрушена рукой языческих императоров, она так же неосновательна, как и самые пылкие надежды Юлиана.
Сказать, что Юлиан безнадежно просчитался в возможностях, скрывавшихся в язычестве, – значит не понять социологической стороны этого явления, особенно когда при этом предполагают, будто христианство победило благодаря своей догме или учению и будто язычество погибло опять-таки из-за его догмы или нравственного учения. Христианство, как творческая сила, было так же бессильно, как и любая языческая вера; в сущности оно было даже гораздо менее плодотворно, чем языческая философия, и мы видим, что оно вызывало в государстве все новые жестокие приступы гражданской розни.
При обоих Антонинах стоические принципы так хорошо руководили империей, поскольку сама система империи это допускала, что многие современные историки склонны были считать царствование Антонинов высшим пределом достижения для всех европейских правительств. Такого уровня ставшая христианской империя после Константина ни разу не достигла. Сам Юлиан в течение одного только года своего правления спроектировал больше солидных административных реформ, чем все его христианские преемники, за исключением Маркиана и Анастасия, – и если бы он мог предвидеть, по какому пути пойдет империя в руках христиан, это не дало бы ему основания изменить свой курс.
Считать просто победу христианства доказательством того, что в нем содержится больше истины или добродетели, чем во всем язычестве, – значит смешивать биологическую способность выжить с моральными достоинствами. Принцип «выживания приспособленного», оправдывающийся во всех явлениях природы, представляет собой не формулу для установления нравственных градаций, а лишь закон эволюции. Верблюд, выживающий в безводной пустыне, нисколько от этого не лучше, чем конь или слон, погибающие в таких условиях.
Христианство, как мы видели, дошло до крайнего падения среди евреев, где оно зародилось, но оно с самого начала утвердилось в языческом мире благодаря усвоению привлекательных черт язычества и (2) в силу своей политико-экономической приспособленности. Язычество, – т. е. официальное язычество, – погибло, как институт, потому, что оно не сумело приспособиться.
Столь же неосновательно было бы утверждать, что предприятие Юлиана было невыполнимо. Правда, его планы действительно были планами неопытного энтузиаста, но, если бы он прожил так долго, как Константин, и приобрел жизненный опыт, он мог бы быть свидетелем серьезного успеха своего дела; а одного столетия разумной выдержанной политики в этом направлении было бы достаточно, чтобы совершенно изгнать христианство из римского мира, как был изгнан вскоре из Индии буддизм. Кто изучал это последнее явление, не может уже повторять обычных утверждений относительно попытки Юлиана.
Буддизм, представляющий собой, по крайней мере, столь же глубокий нравственный сдвиг, как христианство, возник и процветал, как прямая противоположность браманизму; но после нескольких столетий успеха оказалось, что он усвоил все народные суеверия, которыми жил браманизм, так же, как христианство усвоило суеверия язычества, и брамины, в конце концов, совершенно исключили буддизм из своей сферы или путем включения его элементов в свою доктрину, или путем соединенного применения политики ассимиляции и насилия.
Если бы ряд поколений римских императоров отдались созданию жреческой организации языческих культов, подведя под них такую хорошую экономическую базу, какую имел браманизм или иудейство даже после разрушения храма, они могли бы создать силу, которая восторжествовала бы над новым культом в его же собственной сфере, как это случилось с браманизмом и иудаизмом. Если бы они еще вдобавок предоставили церковь самой себе и дали вечным раздорам между христианами делать свое дело, церковь неизбежно поделилась бы в расколе на сотни взаимно враждующих между собой фракций и оказалась бы слишком слабым противником для дружного язычества.
Одни только судорожные вспышки гонений не имели успеха, так как случайными гонениями нельзя убить веры, но действительно беспрестанными и длительными гонениями можно достигнуть многого.
В периоды между 330 и 370 гг., а затем снова в VI в. персидские цари сумели в своем царстве только кровавой политикой до того сокрушить правоверное христианство (оставив только несториан, как еретиков, враждебных Византии), что оно потеряло там всякое значение, – обстоятельство это недостаточно отмечено теми, кто пространно излагает «успех» христианства в Европе. Эта же самая сассанидская династия, начавшаяся в средине III в., добилась систематического возрождения маздеизма, который до того, казалось, был безнадежно испорчен и дискредитирован.
Если бы Юлиан научился в Персии тем методам, которые столь успешно применял Ардешир, он мог бы практиковать их с неменьшим успехом. Конечно, только такой идеалист, как Юлиан, мог думать, что стоит пытаться провести свои планы мирным путем. Человек, более способный и сильный, чем Иовиан, на его месте понял бы, что религия Митры, исходящая от торжествующего ныне персидского врага, вряд ли может продолжать оставаться религией римской армии, и что самым правильным курсом было бы вернуться к тому культу, против которого Юлиан ополчился, и вожди которого усмотрели в его смерти перст божий.
Тем не менее, всеобщий приговор о Юлиане, как о жертве безнадежной иллюзии, так же мало обоснован, как и грубая басня о том, что, получив смертельную рану, он воскликнул: «Ты победил, галилеянин». Христиане, конечно, могли ликовать и создавать всякого рода сказки по поводу его смерти; она была решающей для успеха или гибели их веры, уже распавшейся на множество течений и способной воссоединиться только при помощи карающей силы государства.
4. Восстановление христианской церкви; упразднение язычества.Знаменательно, что ни слабый Иовиан, посаженный на трон в результате заговора христианских офицеров после смерти Юлиана, ни сменивший его сильный Валентиниан не пытались преследовать язычество, хотя оба формально исповедовали христианство. У историков церкви следующего столетия, утверждавших противное, эта мысль порождена их желанием. Позорное отступление Иовиана из Персии совершилось на основании явно языческих авгурий.
Христианский номинально Константинопольский сенат послал к нему депутацию во главе с язычником Фемистием, который, основываясь на высших принципах языческой морали, увещевал его вести политику полной веротерпимости; и Иовиан действительно вел такую политику (если не считать его крестового похода против магических обрядов), хотя он и восстановил многие из христианских привилегий.
О Валентиниане сказано, что из всех христианских императоров он лучше всего понимал и соблюдал свободу культов, и если не считать конфискации в пользу казны владений, отнятых раньше у языческих храмов и затем возвращенных им Юлианом он ничем их не обидел. Языческим жрецам высшего ранга он оказывал большие финансовые привилегии, чем какие предоставил им даже Юлиан, и дал им льготы и почести, приводившие в отчаяние христиан. Возможно, что покровительствовать таким образом древнему жречеству заставляло его то обстоятельство, что в его управлении находился сильно еще приверженный язычеству Запад.
Но его брат Валент, правивший Востоком, проводил ту же политику терпимости, не считая только того, что он, как арианин, преследовал сторонников Афанасия. То, что он заставил монахов вновь вступить в курии, т. е. снова подвергнуться обложению муниципальным налогом, мотивировалось хотя его нелюбовью к монахам, но это было просто разумным финансовым мероприятием.
Жестокое преследование гадателей, проводившееся обоими братьями, было результатом страха и вместе с тем гнева, вызванного быстрым распространением искусства гадания, которому тогда была посвящена обширная литература; принципиально цари ничего не имели против гаданий, публичные или официальные римские гадания авгуров были определенно разрешены так же, как и элевзинские мистерии. Христиане в то время не в меньшей степени предавались гаданиям, чем язычники.
Таким образом, в течение тридцати лет от смерти Константина до восшествия на престол Феодосия Великого церковь продолжала богатеть, но сделала, должно быть, небольшие политические успехи, и уж наверно недостигла никакого нравственного успеха. Закон Валентиниана против своекорыстных римских монахов и священников – лучшее свидетельство со стороны христианского императора о новой деморализации, которая охватила церковь.
Под давлением, может быть, язычества, но с явным подчеркиванием он запретил церковникам принимать личные дары или завещания от богатых женщин, у которых они являлись духовниками; закон этот, конечно, обходили при помощи таких уверток, как принятие для видимости только опеки над полученным фактически в собственность имуществом; жадность нельзя было потушить законодательными запретами.
Высшее духовенство обнаруживало те же инстинкты: в последнем побоище между Дамазом и Урсином за овладение путем физической силы кафедрой епископа в Риме (366) в базилике насчитывали сто тридцать семь трупов, так как Дамаз нанял гладиаторов для защиты его дела.
В провинциях церковь несомненно часто была лучше представлена, и новый тип хорепископов, т. е. деревенских епископов, заключал, должно быть, в своей среде некоторых достойных людей; но во всех крупных христианских центрах царствовали насилие, жадность и ненависть. В Северной Африке междоусобица между донатистами и остатками церкви приняла характер хронической гражданской войны, в которой фанатичные крестьяне, названные circumcelliones, на преследования со стороны властей отвечали самыми свирепыми военными выступлениями.
На Востоке бешеной борьбы между сторонниками Ария и Афанасия было достаточно, чтобы лишить всю церковь всякого политического значения, и лучшие из язычников видели в христианстве гораздо худшее нравственное падение, чем какое можно было поставить в вину языческой философии. «Сделай меня римским епископом», – в шутку сказал язычник префект Претекстат Дамазу, – «и я стану христианином».
В арианизме если и был элемент здравого смысла, то он полностью покрывался той коррупцией, которая распространилась в кратковременный период, когда арианизм был в фаворе, а ортодоксия основывалась на народном невежестве. Одним из последних еретиков, обнаруживших некоторые философские идеи, был Фотин, возродивший в 343 г. учение о «модальной» троице. Фотин подвергся осуждению со стороны как афанасиевской партии, так и ариан, и умер в изгнании.
Восшествие на престол Феодосия, которого Грациан, сын Валентиниана, после падения Валента назначил своим соправителем, отмечает собой окончательное утверждение церкви тринитариев и официальное подавление арианизма и язычества.
Молодой Грациан воспитывался отчасти под руководством Миланского епископа Амвросия, первого замечательного типа искусного церковника. Под его влиянием Грациан конфисковал земельные владения языческих храмов на Западе, лишил жрецов их привилегий и заставил убрать из римского сената древнюю священную статую богини победы, которую раньше еще убрал Константин, но Юлиан возвратил.
По-видимому, в значительной мере эти конфискации были вызваны финансовыми соображениями, так как экономическое благосостояние Западной империи неуклонно падало. Молодой император не пытался закрепить языческие культы или отменить право языческих храмов получать имущество по завещаниям; хотя говорят, что он отказался от титула pontifex maximus, но, по-видимому, ему этот титул официально дали. Однако, в его непопулярности, по-видимому, какую-то роль играла его антиязыческая политика; а он был до того непопулярен, что когда Максим поднял мятеж в Британии и вторгся в Галлию, Грациан оказался всеми покинутым.
Максим был тоже христианином – лишнее доказательство того, что со времени Константина многие военные пришли к мысли, что «счастье переменилось»; Максим, хотя и искал расположения язычников, не стал снова финансировать их культы. Под его влиянием епископ Авилы в Испании, Присциллиан, усвоивший гностические взгляды, близкие к взглядам манихеев, и сосланный при Грациане, был отдан под суд за свою ересь, подвергнут пытке и казнен в Треве вместе с несколькими своими последователями.
Этим был сделан новый шаг в деле утверждения христианства, так что когда Феодосий свергнул Максима и отдал Западную империю молодому Валентиниану, дело официального язычества значительно ухудшилось. Когда Валентиниан был в свою очередь низложен и убит языческой партией, то, хотя Амвросий выразил мысль, что дело христиан на Западе погибло, Евгений (преемник Валентиниана) все же не решился возвратить жречеству его владения и доходы; они были обращены на нужды гибнущего государства, которому вдоль всей северной границы угрожали голодные варвары, все более убеждавшиеся в собственной силе и в бессилии колосса империи.
Когда Евгений и его партия пали и уступили место Феодосию, дело государственного язычества было видимо проиграно. Хотя Феодосий умер в следующем году (395), он оставил древние культы в Италии, так же, как и на Востоке, окончательно дезорганизованными. В течение шестнадцати лет своего царствования в Восточно-Римской империи он подавлял, насколько мог, арианизм, лишая ариан их церквей; по его распоряжению или попустительству многие уже лишившиеся своего имущества языческие храмы были разграблены или секуляризированы; он запретил все языческие культы, не прекращая вместе с тем похода против гадателей.
Под покровом такого рода враждебного язычеству законодательства монахи и другие предприимчивые христиане, называвшие себя «искоренителями», имели полную возможность повсюду грабить и разрушать храмы и даже захватывать земли язычников под предлогом, что они нарушили закон и приносили жертвы. Деморализация при Феодосии приняла такие грубые формы, что Феодосий, более щепетильный, чем духовенство, провел, наконец, закон, наказывающий христианских грабителей.
Но это не могло спасти язычников. Многие из них, чтобы спастись, притворно обращались в новую веру и являлись к христианским алтарям, где они про себя продолжали возносить молитвы своим старым богам. При таких обстоятельствах не могло быть речи об искреннем нравственном убеждении. Нормальной процедурой обращения было принуждение, которое приветствовал Августин и практиковали такие главари христианства, как Мартин Турский.
Насильно обращенные естественно приносили с собой в церковь все верования своей прошлой жизни. Церкви, однако, такое торжество принесло достаточно славы, особенно когда был издан еще закон, по которому виновные в преступлениях против христианства, как духовные, так и светские лица подлежали юрисдикции только церковных трибуналов.
По-видимому, многие жестокие законы Феодосия против еретиков и язычников не выполнялись буквально; для уничтожения официального язычества достаточно было отрезать его от его финансовой базы. Император не только терпел откровенно исповедующих язычество, но и брал их к себе на службу, а римским язычникам он охотно делал поблажки, которых Амвросий не мог терпеть. С другой стороны, язычники, будучи, хотя еще очень многочисленны, не оказывали сопротивления.
Вообще говоря, было тогда два типа язычников: более или менее философски мыслящее меньшинство, бывшее большей частью монотеистами, склонными видеть во всех богах просто символы центральной силы вселенной, и нефилософствуюшее большинство, из высших, как и из низших слоев, продолжавшее верить по привычке; их духовные потребности лежали в обычной плоскости христианства. Из этих двух групп первая не расположена была бороться за старый аппарат жертвоприношений и молитв; вторую, лишенную руководителей, без труда можно было повернуть в сторону новой религии, если новым обычаям давалось время на то, чтобы пустить корни. Всякий, кто давал им литургию, обряды и таинства с храмами и местами поклонения, мог рассчитывать, что сумеет удовлетворить их религиозные потребности; а это-то христианская церковь склонна была делать очень усердно.
Языческие праздники были сохранены и приспособлены к христианству; их местные «герои» стали христианскими мучениками и святыми покровителями; число их мистерий было удвоено; их святые места переменили только названия; их самые грубые идеалы были восприняты церковью. В отношении церемониала, как признает Мозгейм, «в то время была незначительная разница между богослужением христиан и богослужением греков и римлян». Lituus (посох) авгура превратился в посох епископа; митры и тиары языческих жрецов должным образом перенесены на новых иерархов, а христианские процессии были по возможности точными копиями процессий великих церемониальных культов Египта и Востока.








