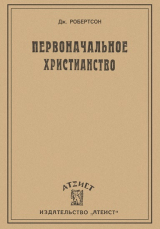
Текст книги "Первоначальное христианство"
Автор книги: Джон Робертсон
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
На своей первой стадии понятие о святом духе, столь неопределенное и бесцельное в ортодоксальной доктрине, было, по-видимому, определенным понятием о женском божестве. Мы знаем от Оригена, что в утерянном евангелии от евреев Иисус говорит о «своей матери духе святом».
Это было возвратом в иудео-гностическом духе к первоначальной семитской теософии, согласно которой каждый бог имеет партнером женское божество; но обычный еврейский монотеизм, устранивший из старых верований женский дух (ruach), был достаточно силен, чтобы воспрепятствовать принятию такой ереси в период созидания евангелий; к тому же принятый евангельский миф о рождении Иисуса был лучше приспособлен к общим целям куль та; наконец, для церкви, усвоившей языческие черты, обожествление Марии было, как мы видели, простым делом. Проникнув непонятным образом в ортодоксальную версию мифа в форме по существу самаритянской, но допустимой и для иудейского учения, святой дух с тех пор остался в виде лишней загадки, вдобавок к загадочной тайне о сыне, «совечном» отцу и вместе с тем рожденном им.
Восточная церковь, опасаясь повторения в вопросе о происхождении святого духа того же противоречия, что и в вопросе об отношении между отцом и сыном, решила (381), что дух «исходит» от отца, но не от сына, и, таким образом, фактически, в конце концов, лишила сына его равенства с отцом, многократно той же церковью подтвержденного.
Корень трудности, как и вообще в догмате троичности, надо видеть в египетском пантеизме, согласно которому всеобъемлющий Амун «одновременно отец, мать и сын бога»; но как жрецы Амуна, утверждая единственность Амуна, манипулировали все же отдельно с сыном божиим Хонсу, так и христианское духовенство вынуждено было на каждом шагу выделять сына, продолжая вместе с тем утверждать единство троицы; поэтому каждый новый догмат являлся новым поводом для старого спора.
В конечном счете западная церковь отбросила эту восточную ересь, как она отвергла ересь монофелитов; Толедский собор (589) прибавил к символу веры параграф filioque, установив, что дух исходит от отца «и от сына». Но восточная церковь осталась по этому пункту непреклонной; она допустила, что дух явился через сына, но она не хотела сказать, что он исходит от сына. Пункт относительно filioque стал постоянным поводом для борьбы между Востоком и Западом, а также постоянным примером бессмысленности ортодоксального богословия.
Неудивительно, что при таких обстоятельствах церковники еще в VII в. должны были писать трактаты против язычества, которое, несмотря на все карательные законы, продолжало существовать благодаря своей нестройной простоте в противоположность систематической непостижимости христианской веры.
Христианин, разбирающийся в церковной политике, доказал бы необходимость именно такой догмы, которая не дает опоры в разуме, ссылаясь на историю ереси, для которой попытки опираться на разум оказались гибельны. Как и ариане, монофизиты распались на воюющие между собой секты; основным моментом спора был вопрос о тленности или нетленности тела христова; образовавшиеся две партии в свою очередь поделились на новых пять.
Раскол этот в основном носил расовый характер – грекам противостояли египтяне; значительную роль в создании раскола играла, по-видимому, кровожадная ревность патриархов и епископов; но ничто не могло приостановить процесса дальнейшего деления и борьбы сект. Во время яростного спора по поводу избрания епископа монофизитской церкви в Александрии, через 170 лет после возникновения ереси Евтихия, воюющие стороны дошли до самой низкой степени дикости. Юстиниановский генерал Нарзес, поддерживавший по приказанию императрицы Феодоры кандидата-сторонника «нетленности», должен был сжечь большую часть города, чтобы поставить на своем.
Скоро после этого другому императорскому ставленнику, вступившему в город в военном снаряжении, пришлось сражаться за свой пост, и резня была при этом чудовищная. При каждом споре по вопросам учения партии устраивали кровопролитие с такой легкостью и с таким вкусом, что все их нравственные и религиозные формулы превращались в издевательство. Такое общественное безумие было хроническим в христианстве от века Константина до победы сарацин; само собой разумеется, о прогрессе цивилизации при таких условиях не могло быть речи.
3. Нравственный и умственный застой.В умственном отношении древнее христианство, в общем, было сильнее всего на Западе, как раз перед самым падением Западной империи; весь остаток умственной энергии римлян как бы устремился в этот канал. Августин оставил в наследство средневековью целый свод полемического богословия, который был достаточно живучим, чтобы стать классической литературой христианства. В лице Августина латинская церковь дала последнюю личность, достойную сравнения с Оригеном.
С другой стороны, и Иероним, как ученый, мог бы поспорить с Оригеном и, как и Ориген, он заложил фундамент для учености будущих веков. Но, в общем, христианство не сумело использовать древнюю культуру. Распространяя учение о том, что всякая ложная вера, будь то язычество или ересь, осуждает человека на вечные муки, церковь лишила опоры идею человеческого братства и предоставила широкое поле для ненависти – личной и корпоративной.
Христианство не создало ни хороших правителей, ни здорового общества. Если Валентиниан обнаружил терпимость в делах государственных, то он к этому, должно быть, вынужден был духом языческой политики; как человек, он был до того чудовищно жесток, что если бы он был язычником, историки сравнили бы его с Нероном. Что через год после смерти Юлиана на троне мог оказаться император-христианин, распорядившийся отдать преступников на растерзание медведям в его присутствии, – представляет собой деталь в истории христианства, которую стоит отметить.
О его брате арианине Валенте рассказывают, что он распорядился сжечь в открытом море судно с восьмьюдесятью церковниками, прибывшими к нему в качестве депутации; возможно, что эту историю выдумали враждебные Валенту ортодоксы; но самая возможность такого вымысла – показательный признак деморализации и злобы; о том же свидетельствует и обратный случай – замалчивание ортодоксами истории о том, как арианский епископ Деограций в Карфагене оказал помощь пленным, которых привезли вандалы после разграбления Рима, – редкий случай великодушия и человечности в истории этого века.
Сами ортодоксы рассказывают нам, как папа Лев изгнал и заключил в тюрьму манихеев и пелагианцев, искавших убежища в Риме при нападении вандалов на Карфаген. Императоры дают нам образцы одичания. Валентиниан умер от бешенства; его набожные сыновья были хилыми недоносками. Феодосий в ответ на оскорбление, нанесенное ему в Фессалониках чернью, убившей его губернатора за насильственное проведение закона против популярного наездника, изменнически организовал систематическую повальную резню, в которой погибло от семи до пятнадцати тысяч мужчин, женщин и детей. Ни один языческий император никогда ничего подобного не сделал; такого огромного количества христиан не мог бы казнить и Нерон.
Ираклий, обезглавив Фоку, велел волочить его голову и тело по улицам Константинополя – возврат к варварству. Двумя столетиями раньше (415) толпа александрийских монахов, действуя в интересах патриарха Кирилла, схватила языческую проповедницу Ипатию, содрала с нее кожу, черепками сняли у нее мясо с костей, а остальное сожгли. Надо считать одной из аномалий историографии, что веку, в котором были возможны такие вещи, приписывается начало нравственного перерождения. Напротив, средиземноморский мир стал тогда более утонченно злым, чем когда бы то ни было раньше.
Лучшее, что можно привести в противовес этим проявлениям варварства, заключается в том, что епископ Амвросий Медиоланский осудил поступок Феодосия, заставив его каяться семь месяцев, прежде чем вновь допустить его к богослужению, и что Феодосий в раскаянии подчинился этому приговору и после этого стал менее мстительным.
Сам Амвросий горячо оправдывал сожжение еврейских синагог; но если он при всем своем церковном лукавстве обнаружил все же некоторый дух государственности, то вообще в истории христианства общепризнанно, что, начиная с III в., епископы были своекорыстными людьми, яростно боровшимися по вопросам о границах епархий, и представляли собой полный контраст легендарным апостолам.
Среди принявших христианство варваров, последовательно наводнявших Римскую империю, нравственность пала еще ниже, новая религия делала их, по-видимому, еще более дикими и порочными.
Все, что христианство могло дать под видом улучшения нравственности, заключалось в усилении прославления целомудрия и безбрачия и в некотором уменьшении детоубийства. Когда Западная империя находилась накануне гибели и Рим был уже разграблен, Иероним растекается в безумном ликовании по поводу новости, что некая молодая римлянка дала обет монашества; этому событию он приписывает мировое значение; мать такой девы, – заявляет он, – тем самым становится «тещей бога».
Как это всегда бывает там, где половая добродетель отождествляется с воздержанием, чрезмерно развился порок. Златоуст на Востоке и Сальвиан в Галлии свидетельствуют, что и в распущенности и в жестокости христианизированное государство в начале V в. было ухудшенной копией языческого мира I в. грек Василий и итальянец Амвросий одинаково свидетельствуют нам, что в христианской церкви сохранились все излишества древних вакханалий. Даже предание о том, что в царствование Гонория (404) были, якобы, уничтожены ужасные гладиаторские игры, христианскими учеными признано ложным.
Возможно, что какой-нибудь человечный монах действительно пожертвовал жизнью, чтобы прекратить эти игры; но мы имеем ясные доказательства, что они продолжали существовать ещё позднее в христианской уже Галлии, хотя даже гуманные язычники требовали их отмены, а стоимость их ложилась тяжелым бременем на падающий бюджет.
За несколько столетий до Гонория игры были, говорят, по инициативе Аполлония Тианского отменены в Афинах. А при христианстве на Западе игры не прекращались до самого завоевания его готами; точно так же набожность Гонория и его советников не удерживала их от предательских массовых убийств и от введения казни через сожжение живьем за обход органов фиска.
Но и самое худшее из зол не только осталось нетронутым, но на него даже и не покушались: рабство осталось, и положение рабов в среднем было не лучше, чем в Риме времен Горация. Что христианская религия сыграла ничтожную роль в утверждении даже наиболее ценимых видов добродетели, явствует из «Confessiones» Августина.
По его собственному сообщению, первое, что натолкнуло его в юности на нравственное размышление и поведение, была не вера его матери, а сочинения Цицерона; он был добросовестным манихеем, прежде чем стать христианином, а в своих обвинениях манихеев в ханжестве он ставит эту еретическую секту просто на одну доску с ортодоксами. В отношении наиболее важных пунктов морали не могло быть никаких существенных реформ, так как не было той умственной силы, которая бы их вызвала, а угнетенные общественные классы в своем стремлении к самосохранению не производили соответствующего давления; этика, побудившая Оригена сделаться евнухом, не была той силой, которая могла бы улучшить дело.
Точно так же обзор литературы IV в. и V в. показывает, что христианство не сумело обновить и умственную жизнь, приведшую в расстройство в эллинском мире со времен Александра, а на Западе со времен Августа. Современный исследователь, ищущий в наследии древнего мира мудрости и красоты, и не вздумает обратиться за этим к греческой и латинской литературе эпохи утверждения христианства.
Августин, у которого хватило энергии провести огромную литературную работу, оставил массу сочинений, из коих всего два-три трактата представляют не только археологический, но и подлинно литературный интерес; но и эти сочинения, по сравнению с хорошими произведениями язычников, оказываются испорченными несносным истерическим ханжеством и крайней неясностью изложения. «Confessiones» могли бы быть значительным человеческим документом, но их религиозное содержание сводит их почти к уровню окружающей их пустыни риторического богословия, от которого осталась целая библиотека книг, к чтению непригодных и никем не читаемых.
Риторика, этот яд вырождающейся языческой литературы, заразила в равной мере всех христианских писателей, сообщив наиболее сильным из них звонкую напыщенность и фальшивую страстность. Литература, представляющая собой художественную р.-.и умственную ценность, почти вовсе прекратилась.
Конечно, такие христианские поэты, как Пруденций и Павлин, имеют известные заслуги в своем роде; но они не могли начать собой эру возрождения литературы в обстановке христианского фанатизма или такого светского направления, которое делило с этим фанатизмом власть над христианской церковью и государством на Западе и на Востоке. Когда впоследствии началось оживление литературы, она гораздо менее охотно обратилась к названным благочестивым поэтам, чем к их современнику, язычнику Клавдиану, который хотя и не был крупным поэтом, но все же стоит среди второстепенных римских классиков довольно высоко.
Клавдиан образование получил греческое, а начал писать по латыни; возможно, что благодаря и этому обстоятельству он был избавлен от той искусственной бестолковости, которая стала обычным явлением у всех писателей Востока и Запада; необходимость думать на новом языке, возможно, сделала речь Клавдиана более живой. Но Клавдиан по своим верованиям был целиком язычником.
Такие языческие мыслители, как Макробий и Симплиций, хотя они и не оригинальны по сравнению с комментируемыми ими авторами, заслуживают во многих отношениях большего внимания, чем их современники христиане. Если в проповеди Августина есть что-либо сохраняющее еще свою способность воздействовать на читателя, то это продукт его раннего философского нехристианского образования Амвросия вряд ли есть какая-либо серьезная или философская мысль, которой он не позаимствовал бы из языческой учености.
Боэций, последний из древних философов, был христианином только по имени и излагал свою ортодоксальную догму, как юрист стал бы излагать безразличный для него закон; когда ему пришлось в тюрьме писать свои «утешения», он вернулся к древней универсальной этике, отложив в сторону свою веру, как снятую с лица маску. Популярность его книги в мрачные века служит выражением удовлетворенности мыслящих людей этим позднелатинским трактатом, серьезно обсуждающим вопросы жизни и смерти в духе человеческих чувств и человеческой мудрости, без всякого намека на формулы священников.
В отношении науки и вообще образования христианство обнаружило возрастающие репрессивные тенденции. При утверждении христианства в каждом значительном городе в империи были еще классические школы, в крупных городах – много высших школ, хотя долгое время христиане старались использовать эти языческие по своему характеру школы, поскольку курс преподавания в них сводился почти только к литературе и риторике; однако, церковь дала им постепенно вымереть, не пытаясь даже создавать взамен этого христианскую систему воспитания, если не считать немногих богословских школ. Но на этом еще процесс угасания знания не остановился.
В начале V века Феодосий II запретил всякого рода публичные лекции неофициальным учителям; а спустя сто лет Юстиниан ограбил и закрыл философские школы в Афинах, уничтожив таким образом последние следы высшей умственной жизни. Папа Григорий Великий фанатично отвергал литературное образование, на Востоке скоро стало ортодоксальным правилом, что мирянам не следует читать священных книг – единственной вообще доступной им литературы.
Наука стала синонимом ереси; усердные верующие в III в. объявили ее нечестивой, а в VI в. Козьма Индикоплевст – путешественник по Индии, христианин несторианского толка, отвергает языческое учение, что земля круглая, и доказывает, с точки зрения религии, что земля продолговатая плоскость. Медицина при язычестве сделала большие успехи, и Антоний Пий дал всей империи муниципальных врачей; но христиане, видевшие во всякой науке ересь, ставили молитву и заклинания выше лечения.
Храмы-школы Асклепия были закрыты вместе с прочими языческими храмами, и медицина фактически вымерла при христианах; впоследствии маврам пришлось вновь ее открыть в научных преданиях древней Греции. Григорий Великий оказывается суеверным, как невежественный азиат.
Мир тогда больше всего нуждался в новом развитии науки и в реальных знаниях вместо риторики; но роковым образом христианство выдвинуло убеждение, что всякое жизненно-необходимое знание заключается в христианстве. Вместе с тем религиозное умонастроение, видевшее в благочестивом обмане служение богу, почти совсем уничтожило разумное понятие оэ истине; прошла тысяча лет, прежде чем показания людей вновь обрели достоверность показаний Фукидида, и человеческое суждение поднялось над грубым легковерием.
Если бы свет знания погас только на Западе, подвергшемся нашествию варваров, то это нашествие можно было бы выдвинуть, как причину явления; но и история христианской Византии тоже – история умственного застоя на тысячу лет как раз на самой родине цивилизации.
4. Социальный упадок.Если взять Восточную христианскую империю в том виде, в каком она осталась после мусульманских завоеваний, т. е. потерявшей больше половины своей территории, то единственное, чего в ней нельзя найти, это – прогресс или преобразования. Здесь опять-таки было бы ошибкой видеть причину застоя в христианстве; политическая наука древности вся носит резко выраженный консервативный характер; но необходимо отметить, что историческое христианство утвердило абсолютный идеал неподвижности.
Только оживленный контакт с другими культурами мог бы сохранить полнокровную умственную жизнь под эгидой христианства; но Византия, к несчастью, оказалась в обстановке почти полной расовой и религиозной изоляции. Византия Юстиниана и Ираклия представляет собой почти идеал окостенения; даже ее беспорядки носили характер нормального явления, как обычные извержения испорченного организма.
В языческой истории нет ничего, что могло бы сравниться с хроническим пандемониумом, который в христианском Константинополе представлял церковные партии синих и зеленых; их взаимные избиения в течение ряда поколений унесли больше жертв, чем многие гражданские войны.
В изображении его собственных христианских цензоров население Византии было, по крайней мере, таким же подлым, как и население Рима в худшие дни империи; оно соединяло в себе невежество и консерватизм китайцев, но без обычных для китайцев добродушия, вежливости, семейного единодушия и терпеливого труда.
Промышленность в Византии несомненно была; вероятно, шелковая промышленность, введенная Юстинианом, начала экономическое оздоровление государства; но закон предписывал организацию промышленной касты, где каждый человек был по возможности привязан к ремеслу отца, а рабочее население должно было в значительной мере оставаться на таком уровне, на каком оно было в древнем Египте.
Не лучше обстояло дело и на Западе, – как в Италии под господством Византии или лангобардов, так и в новых варварских государствах – арианских и католических. Повсюду не только не исправляли старого неудовлетворительного законодательства, оно даже еще ухудшилось, а христианские учителя и не думали об его исправлении. Идеалы наилучших среди них, Иеронима и Павлина, начинались и кончались на одной только набожности и физическом самоистязании.
Неудивительно поэтому, что во всем христианском мире наиболее выдающимся социальным продуктом новой веры было учреждение монашества – христианизированного обычая, долгое время бывшего распространенным в набожном и забитом Египте. Все содействовало успеху монашества.
Зрелище постоянных раздоров и чувственности горожан побуждало многие страждущие души людей, не любящих светской суеты, искать убежища в монастыре, и все властители умов восхваляли этот идеал, хотя и осуждали злоупотребления им; для масс людей обездоленных или стоящих на низком уровне, избегающих труда или спасающихся от тирании, во все времена жизнь, хоть и бедная, монаха или даже отшельника представлялась относительно легкой и беззаботной; ее предпочитали жизни пролетария, так как все могли рассчитывать, если не обогатиться за счет верующих в их святость, то, по крайней мере, получить средства к жизни от народной благотворительности. К этим типам надо еще прибавить невежественных фанатиков, которых было, по-видимому, так же много, как и лентяев, и которые в условиях монашеской жизни становились еще фанатичнее.
Таким образом, некоторые из лучших и очень многие из худших элементов (этих последних было, конечно, подавляющее большинство) объединились, чтобы расшатать здание общества: первые – тем, что лишали общество наиболее благородных личностей, в которых оно нуждалось; вторые – тем, что они уменьшали количество рабочих рук и расширяли царство невежественной веры. Правда, в монашестве воспитались некоторые крупные личности, как Василий, Златоуст, Григорий, но в основном оно означало обнищание цивилизации.
В критические периоды христианской истории монахи часто выступали, как ревностные исполнители жестоких насилий, как, например, при разрушении языческих храмов и еврейских синагог или при ужасном убийстве языческой девицы философа Ипатии в Александрии. У монахов, как и у духовенства, были свои догматические споры, особенно в IV и V вв., когда египетские монахи объявили себя борцами за подвергавшуюся сомнению ортодоксию Оригена без всякого видимого основания к тому, кроме разве факта его самооскопления.
Но, как заметили христианские историки, монахи ничего не сделали, чтобы оказать сопротивление разрушительной атаке ислама, больше всего презиравшего монахов. В этом отношении и духовенство вело себя не лучше. Установившаяся в Испании при вестготах власть иерархии до такой степени охолостила или парализовала нацию, что после трехсот лет безмятежной жизни она сразу пала перед горстью прибывших из северной Африки мусульман.
Наконец, есть основания думать, что умственное и политическое падение христианских масс в Сирии, Египте и северной Африке сделало очень многих легко восприимчивым материалом для ислама, точно так же, как ненависть к христианской церкви заставляла сектантов приветствовать победителя и отвергать только его толерантность к их противникам.
Христианская религия не только оказалась неспособной оказать сопротивление атаковавшей ее новой вере, но приходится признать, что успех мусульманства отчасти даже парализовал христианство. Успех всегда был в богословии доказательством божьей помощи; а многочисленные бедствия, как, например, землетрясения, уже раньше, казалось, обнаружили гнев божий против христианского мира. Такие аргументы многих заставляли колебаться. Начался массовый отход от христианства, и когда власть мусульман утвердилась от Иерусалима до Карфагена, христианская церковь, которую терпели только для того, чтобы унизить ее, сошла почти на-нет в странах своего былого господства.
В африканских провинциях христианство окончательно исчезло; в остальных оно стало уже неспособным вызывать к себе уважение со стороны арабов или франков. Христиане несториане, осевшие в Персии, пользовались особой терпимостью со стороны сарацин, как и ранее со стороны персов, благодаря своей враждебности к христианской Византии; но если несторианство продолжало существовать, то не благодаря своей силе, а лишь потому, что его терпели.
Несторианское духовенство и миряне отчасти преуспевали, как евреи в Риме; но они не могли сопротивляться исламу, и некоторые азиатские государства, где несториан было много, целиком отпали в магометанство. Это дает нам еще одно историческое доказательство того, что любая религия может с течением времени погибнуть или выродиться под влиянием грубой силы, если только эта грубая сила действует постоянно и применяется решительно.
Чего не удалось добиться языческому Риму, из-за отсутствия систематически направленных усилий к достижению постоянно преследуемой цели, того достиг без труда ислам, так как его цели и его средства были здоровыми и ясными. Если мы сравним позднюю сарацинскую цивилизацию с той, которую она опрокинула, вряд ли у нас получится впечатление, что мир потерял от этой перемены. Если считать, что монотеизм имеет какое-то цивилизующее значение по сравнению с политеизмом, то именно мусульмане, а не христиане, были монотеистами; презрение мусульман к христианскому обоготворению человека и идолопоклонству воспроизводило отношение раннего христианства к язычеству.
В отношении нравственности мусульманское многоженство было, конечно относительно, злом; зато благотворительность, столь часто провозглашавшаяся специально христианской добродетелью, стала при исламе абсолютным долгом; мусульманам не разрешалось держать рабов-мусульман; ислам не знал жречества; он решительно исключил обычное у христиан зло – пьянство и проституцию. Почти единственным искусством, которое византийцы переняли от своих предков, была архитектура; их церкви часто бывали прекрасны; но это искусство, а также золотых дел мастерство, сарацины сохранили; мало того, только тому обстоятельству, что сарацины со временем усвоили науку древних греков, мир обязан возрождением знания после ночи мрачных веков.
Скульптура и живопись стали предметом презрения уже у христиан, да и с литературой дело обстояло не намного лучше. Необходимо также отметить, что традиционный упрек готам и вандам в том, что они обезобразили древний Рим, направлен не по адресу; самыми худшими разрушителями были полководцы Юстиниана и само население, всегда готовое разрушить языческий памятник ради строительного материала.
Наконец, если мы посмотрим на эллинистический мир времен Магомета и сравним его с веком Перикла, или если мы сопоставим Рим папы Григория Великого (590 – 604) с Римом Адриана, мы убедимся, в какой громадной степени человечество утратило свою способность чувствовать красоту и радость и способность действовать. Не будет преувеличением сказать, что христианский идеал святости означал не только умерщвление плоти и угасание радости, но и грязь в личной жизни; отличительным признаком города, построенного в христианский период, является отсутствие бани.
Языческая Греция всегда живет в памяти людей, как идеал грации, красоты и вдохновенной речи; и хотя позади яркого видения искусства и поэзии простирается мрачная картина войн и рабства, все же это искусство и эти песни – бессмертный дар человечеству. При каждом высшем своем достижении наша цивилизация оглядывается на эллинский мир с неугасимой завистью и бессильной тоской расы, как бы лишившейся наследства. Вновь обрести эту славную зарю жизни – вот к чему невольно стремится всякий, кто издали видел ее сияние. Но до сих пор еще не нашелся человек, который мечтал бы о воссоздании Константинополя времен Юстиниана или Ираклия.
И здесь и там – мечты, но детская вера Эллады времен Фидия с ее толпой богов, с ее многочисленными статуями и величественными в своей симметричности храмами несравненно более прекрасна, чем вымученная догма византийской церкви, являющаяся глазу в жалких иконах, варварских одеяниях и бесконечных маскарадах церемониала. И тут и там – идолопоклонство, но поклонение поющих юношей и девушек благородным статуям гораздо меньше вредило уму и сердцу, чем потомки эллинов, простертые ниц перед выкидышами византийского искусства.
И тут и там – суеверие, но в древнегреческой религии со всеми ее пережитками диких мифов нет ничего, что могло бы сравниться по своей мерзости с практикой христианских греков, с их паломничеством в Аравию, чтобы целовать холм испражнений Якова, с их унизительным поклонением костям умерших людей. Некоторые христианские историки в поисках существенного критерия для суждения о превосходстве христианства над язычеством заключали, что при язычестве не было хорошей «жизни сердца», но какова бы ни была эта «жизнь сердца» в наше время, ее совсем не видно в христианских цивилизациях, говоривших еще в VII в. на классических языках язычества.
На Западе, где некая духовная сила начала смутно завоевывать Римскую империю, пародию на былую империю, есть действительно некоторое потенциальное превосходство, приписываемое новой империи. Посылка Григорием Августина в Британию обращать в христианство бриттов – более красивое нравственное зрелище, чем Цезарь, стремящийся покорить их в жажде наживы.
Но каково бы ни было нравственное достоинство искреннего фанатизма человека вроде Григория, с такой же легкостью» попиравшего цивилизацию, как он продвигал свою пропаганду, жизнь большинства нам показала, что романизм был в несколько видоизмененной форме тем же цезаризмом, и что для духовной, как и для светской, империи главной целью было золото. И здесь и там мы имеем тиранию, и здесь и там – власть, но Рим надменного и жестокого Траяна вряд ли хуже, чем Рим, в котором попы сражались за свой престол посредством наемных банд и занимали свою кафедру по милости куртизанок; а население Рима времен Григория нисколько не было лучше, чем в дни Каракаллы или Гонория.
«Ничто так не рисует их подлость и вырождение, как их деяния», – говорит Мильман, описывая поведение римлян в момент смерти Григория, когда они все уже были христианами. Как и в старину, случайные достоинства христианских правителей могли иметь большое значение в делах управления; но и здесь кроткие Антонины могут, как правители и люди, выдержать сравнение с любым из носителей тройной короны.








