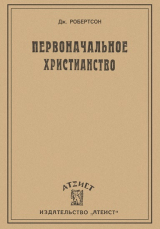
Текст книги "Первоначальное христианство"
Автор книги: Джон Робертсон
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Первые собственно исторические сведения – в отличие от сведений «от писания» – о иерусалимской церкви сообщают о существовании в ее недрах мнимо христианской секты эвионитов, или «эвионим»; слово это означает по-древнееврейски просто «бедняки», «нищие». С точки зрения языческих христиан конца II в., то были еретики, так как они пользовались вариантом евангелия от Матфея, в котором недоставало первых двух глав, отрицали божественность Иисуса и отвергали апостольскую миссию Павла. Так как они отвергали, кроме того, еврейских пророков и признавали только Пятикнижие, то есть основание предполагать, что они были самаритянского происхождения или потомками древнего иудейского племени, которое еще со времени Ездры отвергало, как и самаритяне, позднейшие еврейские писания.
Во всяком случае, надо полагать, что иезуистское движение коренилось в низших слоях населения, враждебных ортодоксальному или фарисейскому иудаизму, как ему были враждебны в высших слоях общества садуккеи. Самаритяне придавали особое значение Иошуе (Иисусу Навину) и имели книгу, носившую его имя; дальше мы увидим, что и для некоторых сирийских племен это имя издревле было божественным.
Более поздние известия обнаруживают существование менее значительной секты, которую обозначали греческим словом nazoraioi – назореи, или назаряне; этот термин в «Деян, ап.» (XXIV, 5) применен для обозначения ранних христистов и часто встречается в «Деяниях» и в евангелиях в применении к Иисусу. По одному сообщению, назареи отказывались называть себя христианами, хотя, по-видимому, предполагалось, что они происходят от первых христиан, и именно поэтому их долго не объявляли еретиками. Упомянутые две секты могут помочь нам восстановить вероятный ход развития раннего иезуизма.
Совершенно нельзя допустить, чтобы какая-либо иезуистская секта получила название назорейской по имени местечка Назарет; этот термин происходит или от различных начертаний слова nazir (назорей, вернее, – назир), упоминаемого в ветхом завете, или он – вариант термина «нецер» (ветвь), приведенного у Исаии (XI, 1) и цитируемого, якобы, в ев. от Матф. (II, 23)[3]3
«Да сбудется реченное через пророков, что он назореем наречется», при этом ссылаются на текст Исаии, где такой фразы нет. Русские издания евангелия дают ссылку на кн. Судей, XIII, 5.
[Закрыть]. Форма «назаряне», иногда заменяющая в евангелиях «назореев», точно так же не могла быть первоначальным обозначением секты, основанной человеком, который, подобно евангельскому Иисусу, по преданию, был только воспитан в селении Назарет или Назара, но никогда там не учил.
Во всяком случае, ни в одном из Павловых и других канонических посланий Иисус никогда не называется назореем или назарянином «из Назарета»; а в евангелии эвионитов, незнающем истории о Назарете, такого обозначения Иисуса не было бы, если бы это слово произошло от имени Назарет. Таким образом, секта эвионитов, по-видимому, была первой формой христизма и первым творцом евангелия; более поздняя секта назореев была, очевидно, или послепавловским, но иудейским ростком из того же эвионитского корня, или же особым послепавловским образованием, привитым эвионитскому иезуизму.
Эвионизм, прежде всего, – считать ли его древним, якобы, самаритянским явлением, или новообразованием периода, непосредственно предшествовавшего римскому, – надо понимать, как ярлык, приклеенный к движению, имевшему своим лозунгом – «блаженны нищие» или «нищие духом», – фразы, которые мы находим в «проповеди на равнине» (ев. Луки, VI, 20) и в «нагорной проповеди» (Матф., V, 3). В нищей Иудее с ее книгами пророков и изречений, в которых, как и вообще на Востоке, беднота пользуется симпатиями, такая марка легко приобретала популярность, как это случилось с буддистскими «нищенствующими» в Индии.
Однако, связь эвионизма с культом убитого мессии – Иисуса выдвигает вопрос о том, не лежит ли зародыш движения именно в мессианизме; есть основания допустить, что секта могла создаться вокруг некоего Иисуса – сына Пандиры, о котором Талмуд сообщает, что он был повешен на дереве и побит камнями в Лидде накануне пасхи, в царствование Александра Яннея. Тогда было в обычае казнить в этот день важных преступников; а так как праздник пасхи имел особое искупительное значение, то казненного в этот день учителя могли рассматривать, как искупительную жертву.
Но следы мессианского движения, связанного с именем Иисуса, встречаются уже в ветхом завете задолго до христианской эры. В книге прор. Захарии, первые 6 глав которой написаны, по-видимому, значительно позднее, чем остальные, упоминается некий Иисус (евр. Иошуа) – первосвященник, изображаемый в мессианском духе как «ветвь» и увенчанный двойной короной – священника и царя. В тумане, обволакивающем большую часть пророческой литературы, трудно определить, какие исторические события скрываются за этой символикой, но что-то несомненно за этим есть. Во всяком случае, мы отсюда узнаем, что большое значение придавалось символу «ветви» (или отрасли, отпрыска), который в данном тексте Захарии передается словом «цемах», а у Исаии «нецер» или «назар».
У язычников этот символ относился к культу различных богов и богинь: Митры, Аттиса, Аполлона и Деметры, и обозначал, по-видимому, принцип жизни, воплощенный в растении. У евреев он несомненно находился в связи с всеобщей верой в пришествие мессии, который восстановит независимость Иудеи. Не исключена возможность, что мессианская партия называлась на этом основании «нецеритами» или назареями. Такая секта могла, при свойственной евреям склонности к всевозможным словотолкованиям, видеть мессианский символ в самом имени первосвященника у Захарии, поскольку «Иисус» (Иошуа) означает спасителя, а древний мифический Иошуа – Иисус Навин был типичным освободителем.
Обещание Моисея относительно будущего пророка и вождя, которое толкуется в «Деяниях», как пророчество об Иисусе, евреи раньше переносили на Иисуса Навина, преемника Моисея; и в этом случае есть основания предполагать, что более древний миф или культ, сложившийся вокруг имени Иошуа, положил начало библейскому историческому вымыслу. В ст. 5 послания Иуды некоторые древние рукописи дают чтение – «Иисус» вместо принятого в наших изданиях «господь»[4]4
«Я хочу напомнить... что господь» избавив народ из земли египетской» и т. д. Автор предполагает, что имеющееся в некоторых рукописях чтение «Иисус» вместо «господь» могло быть связано с древним еврейским культом Иисуса, и что замена слова «Иисус» словом «господь» была сделана впоследствии для устранения мнимого анахронизма.
[Закрыть]; это обстоятельство наводит на мысль о существовании еще одного мифа об Иошуа; впрочем, вопрос неясен. Есть также кое-какие сомнительные данные о существовании в более позднюю эпоху секты иессеев, вероятно, отличной от исторической секты ессеев и основанной, вероятно, на пророчестве Исаии (XI, 1) «об отпрыске от ствола Иессея».
Можно предположить следующий ход исторических событий: секта бедняков, или эвионим, отколовшаяся от ортодоксального иудейства и родственная населению Самарии, существовала в течение всего периода после изгнания, соблюдая какой-то старый еврейский культ и таинство, или слилась с более поздним самаритянским движением. Отсюда могла развиться назарянская секта, известная из истории христизма.
С другой стороны, возможно, что в доримский период существовала секта назареев, почитавшая мессианское имя Иисуса; когда более ранняя политическая форма мессианских чаяний исчезла, эта секта могла превратиться в «эвионим» – «нищих». Самое название этой секты могло привести к тому, что она смешалась или объединилась с еврейскими назореями (назирами) – многочисленной, но текучей массой людей, давших временный обет воздержания. Но эта масса назиров в свою очередь могла стать мессианской и присвоить себе, со свойственной еврейскому духу любовью к словесной символике, мессианскую ветвь «нецер-назар», продолжая называть себя назореями и в старом смысле этого слова.
Действительно, установлено, что некоторые евреи давали обет «стать назореем, когда придет сын Давида»; такие люди имели право пить вино по субботам, но не в будни. К такого рода назореям принадлежали, возможно, участники первых ритуальных трапез христистов. А так как еврейское слово «назир» (по переводу семидесяти – «назореи») означало «священный», «посвященный господу», легко могло случиться, что ранние христиане из язычников просто переводили это слово на свой язык, вместо того, чтобы только его транскрибировать. В этом смысле слово «hagioi – святые» могло в «Деян.» и «посланиях» быть точным переводом термина «назореи».
Однако, в виду сообщения о том, что назореи позднее признали первые две главы (очевидно, позднего происхождения) ев. от Матфея, отвергаемые эвионитами, и в виду того, что в этих двух главах, содержащих рассказ о бегстве в Египет, Иисус является сразу и иудейским и языческим Христом, – можно полагать, что языческое христианское движение оказало влияние на иудейское; благодаря этому ультра-иудейские иезуисты уступили имя «назореев» менее строгим язычникам, которые в то время, вероятно, уже имели греческое евангелие.
В конце концов, так как первоначальный смысл слова «назорей» напоминал или о еврейском обете, – а это было неприятно христианам из язычников и даже многим иудео-христианам, – или о специфически еврейских чертах учителя, и так как, с другой стороны, политическое содержание термина «нецер» (если предположить, что именно этот термин отразился в названии секты) было враждебно Риму, – то могло возникнуть стремление подыскать другое значение для этого термина.
Поскольку язычники привыкли слышать, что еврейских сектантов называют галилеянами, слову «назореи» могли придать новое значение, опирающееся на вымысел о том, что основатель новой веры, родиной которого провозглашен, согласно требованиям мессианства, Вифлеем, воспитан в галилейском местечке Назарет или Назара.
Это предание, таким образом, в действительности вовсе не историческое данное, каким хотят его представить многие историки-рационалисты, а прагматический (объяснительный) миф, пришитый к вифлеемскому мифу. Анализ текста показывает, что всюду, где в евангелиях и деяниях встречается название «Назарет», мы имеем дело с позднейшими вставками в документы.
Как бы то ни было, греческий термин «назарянин» возник отсюда; впоследствии он был в известном смысле навязан евангелиям, особенно евангелию от Марка, которое было, невидимому, отредактировано под римским влиянием в интересах церкви. Естественно, что латинская вульгата усвоила этот термин во всех евангелиях и Деяниях, за исключением истории распятия у Матфея (II, 23). В других случаях тексты почти все без исключения предпочитают форму «назорайос», т. е. назорей или назир.
3. Личность мнимого основоположника.Даже люди, привыкшие видеть чистый миф в образах таких спасителей, пользовавшихся почитанием в течение многих веков, как Аполлон и Озирис, Кришна и Митра, с первого раза поражаются при мысли о том, что и в личности евангельского Иисуса, так долго пользовавшегося поклонением и любовью половины человечества, нет ничего исторического. Лишь после нескольких поколений исследователей современный рационализм начал сомневаться в реальности учителя, которым он без колебаний заменил неприемлемого полубога предания.
Впервые мифичность этого полубога увидели те ученые, которые устремили свое внимание главным образом на приписываемые ему мифические деяния; но как только они обращались к самому учению, оно опять производило на них впечатление живой речи реального лица. И только после дальнейшего анализа – тщательного изучения текстов – исследователь убеждался в том, как обманчиво в действительности это впечатление.
Дело не только в том, что позднее происхождение евангелий лишает их показания авторитетности (ведь они основаны на более ранних документах), но в том, что, как это можно доказать, они все без исключения явились результатом постепенного нарастания преданий в течение ряда поколений, и даже самые ранние главы их составлены гораздо позже того времени, к которому они. якобы, относятся. Самые древние части посланий Павла не обнаруживают никакого знакомства с биографией или проповедью Иисуса, и это обстоятельство заставляет предположить, что Иисус, каким он является у Павла, относится к гораздо более отдаленной от Павла эпохе, чем это допускает традиция.
Позднее среди христианских писателей обращались некоторые рассказы, передававшиеся, очевидно, из поколения в поколение, пока, наконец, к концу II в. не появились четыре канонические евангелия; впрочем, неизвестно, были ли они даже тогда уже вполне закончены. Цельс в своем антихристианском трактате, который, как предполагают, написан между 170 и 180 гг., говорит, что евангелия подвергались бесконечным изменениям; добавления были еще возможны даже после времени Оригена, который неуверенно возражает Цельсу, что изменения были делом еретиков.
Рядом с четвероевангелием появилось множество апокрифических евангелий, из коих некоторые были так же популярны, как и канонические, хотя все они были впоследствии отвергнуты церковными соборами. При исключении из канона руководствовались в сущности тем же принципом, что и современная критика – критическим чутьем, подсказывающим, что голые сказки о чудесах ниже по качеству, чем рассказы, содержащие, кроме чудес, еще элемент нравственного поучения.
Естественный ход критики таков: сначала она отбрасывает чудесные эпизоды, затем исключает те части учения, которые, выдаются за проповедь богочеловека; после этого стараются на основании остальной части учения воссоздать личность его основателя; но и эта часть столь же бессвязна и противоречива, как и все остальное; и процесс критики кончается обычно явно произвольным отбором, якобы, подлинного исторического ядра. Но беспристрастное изучение текста оказывается роковым для всякого такого отбора.
Отложить в сторону, как это еще продолжают делать некоторые, четвертое евангелие и держаться только синоптиков, значит просто искусственно задержать работу критики; последовательно доведенная до конца критика приводит к убеждению, что и синоптические евангелия созданы из тех же побуждений и при тех же условиях необузданного изобретательства и интерполяций, из которых выросло большинство очевидных вымыслов в Иоанновом евангелии.
Мы неизбежно приходим к заключению, что ни одной черты евангельской проповеди нельзя считать исходящей от покрытого туманом основоположника, который для Павла был только распятым призраком. Нравственное учение евангелий столь же мало может претендовать на исконность и столь же легко могло подвергаться интерполяциям, как и евангельская мистика и пророчества. Многие лучшие изречения относятся как раз к наиболее поздним, а некоторые из наиболее безвкусных принадлежат к самому раннему преданию. Вместе взятые они свидетельствуют о том, что к ним прикладывалась сотня рук.
Если предположить, что номинальным основателем Павловского иезуизма мог быть казненный Иисус Пандира, упоминаемый в Талмуде, за сотни лет «до Христа», мы прежде всего должны спросить, не следует ли нам признать, что он был творцом какого-то учения, которое заставило бы людей видеть в нем мессию и сохранить в памяти его имя. На это можно ответить, что для еврейского мессии в значительной мере достаточно было одного имени, что случайная казнь накануне пасхи могла иметь для некоторых евреев мистическое значение и что предание о его воскресении, – а такое предание легко могло распространиться, поскольку речь шла, как в данном случае в Талмуде, о признанном чародее, – дополнило комплекс условий, необходимых для создания мифа и культа; ведь евреи ожидали пришествия мессии согласно традиции в полночь первого дня пасхи.
Несомненно, что принятый за чародея Иисус Пандира был учителем-новатором. Весьма возможно, что, как носитель рокового имени, он претендовал на роль мессии. Род казни, которой ею предали, свидетельствует о жестокой ненависти к нему со стороны жрецов или властей. Но история не сохранила нам никаких следов его речей; даже в Талмуде его история приняла легендарную форму.
Таким образом, нельзя даже считать достоверным, что «дохристианский» иезуизм сформировался вокруг имени определенного человека Мифический Иошуа (Иисус) ветхого завета (Иисус Навин), по всей вероятности, рассматривался, как и Самсон, как древний семитический солнечный бог, а его имя «Спаситель» было обычным эпитетом бога; а так как в персидско-арабской традиции он был сыном мифической Мириам (Марии), то возможно, что корни истории христианского культа восходят к незапамятной семитской древности, когда уже имя Иисуса было божественным. В тени этого имени скрывается его происхождение.
Зато совершенно ясно, что центральные моменты евангельской биографии Иисуса – рассказ о тайной вечере, о страстях, предательстве, суде и распятии – не представляют собой ни современного описываемым событиям отчета, ни исторического предания, а лишь простой пересказ мистерии-драмы. Доказательство этого положения лежит в самой структуре нашего источника.
Если внимательно следить за рассказом о тайной вечере и о дальнейших событиях в первом евангелии, то сразу бросается в глаза, что здесь воспроизводится ряд следующих одна за другой драматических сцен, где совсем не оставлено места для размышлений, естественно возникающих при рассказе о действительных событиях, и нет никаких признаков ощущения крайнего неправдоподобия нагроможденных фактов. Более или менее неестественное уплотнение событий – специфический признак драмы, даже в руках таких великих мастеров, как Шекспир или Ибсен; а примитивная мистерия, как и следует ожидать, доводит это уплотнение до крайних пределов, подчиняясь признанному греческому правилу, что действие драмы должно быть ограничено пределами в 24 часа.
И вот, в евангельском изложении, Иисус после наступления темноты справляет пасху; затем он уходит во мрак ночи, не сообщая о цели своего ухода своим ученикам, которые спят, пока он молится; затем его хватает «толпа»; затем его ведут прямо к первосвященнику, «куда собрались книжники и старейшины»; они начинают глубокой ночью «лжесвидетельства», и «много лжесвидетелей» приходило безрезультатно, пока, наконец, пришли двое свидетельствовать о его словах насчет разрушения храма; после этого его судят и заушают, и история ночных событий кончается отречением Петра. Нет никаких указаний на то, что говорил, делал и чувствовал Иисус в своем пути от вечери до голгофы или в промежутке между еврейским и римским судом.
Такого рода рассказ не мог быть с самого начала написан для чтения. Писатель – независимо от того, давал ли он выдумку, или пересказ предания, – постарался бы объяснить столь странно затянувшуюся ночную работу первосвященника, книжников и старейшин; он постарался бы заполнить неизбежные промежутки между событиям, он ввел бы эпизод пребывания господа в темнице. Между тем находящийся перед нами евангельский рассказ содержит только то, что может быть изображено на сцене, но не больше. Но в то время, когда на сцене сменяющиеся действия не вызывают у зрителя вопроса об их длительности, наивный рассказ теряет всякое правдоподобие, когда все действия совершаются без перерыва или когда Иисус произносит слова молитвы, которых некому слушать, раз нет публики, как в драме.
В театральном представлении по необходимости приходится лжесвидетелей вызывать и немедленно же вводить на сцену, и такое явление нисколько не смущало обычных зрителей; но в рассказе, при превращении драматического действия в изложение исторического хода событий, такой прием лишает его всякого сходства с действительностью. Дальше, после ничем незаполненного промежутка, «когда настало утро», действие возобновляется с такой же поспешностью перед Пилатом, а казнь, что совершенно невозможно, следует немедленно же за приговором.
Мы здесь имеем дословное механическое переложение мистерии-драмы, до такой степени дословное, что в сцене страстей речь, начинающаяся словами «вы спите еще», и речь, начинающаяся: «встаньте, пойдем», помещены вместе, как если бы то была одна речь; нет ожидаемого походу действия между обеими речами сообщения о явлении и уходе действующих лиц.
Такую чисто драматическую композицию можно рассматривать только, как возникшую в духе языческих мистерий-драм из отдельного первобытного обряда человеческого жертвоприношения, долгое время практиковавшегося, как нам известно, у евреев и других семитов. Вероятно, само имя «Иисус» относилось еще к древнему обряду; а существующий евангельский рассказ – переделка более простой и ранней иудейской ритуальной драмы, сочиненная язычниками-христианами после падения Иерусалима. Перед нами, таким образом, не история, а миф. Иисус здесь уподобляется не Магомету, а Дионису и Озирису.
Когда сложившаяся уже церковь разработала свою историю, она даже не сумела удовлетворительно определить год рождения ее мнимого основателя; «христианскую эру» начали на 2, 3, 4, 5 или 8 лет после того года, который вынуждены были впоследствии фиксировать хронологисты, сообразуясь с наиболее ценными документами. Но и их данные имеют не больше ценности, чем любая другая догадка.
Евангелия имеют так мало общего с историческим документом, что из них нельзя даже извлечь указания на продолжительность деятельности богочеловека; ранняя церковная традиция вообще считала, что земная деятельность Иисуса продолжалась ровно год; это воззрение опять-таки указывает на миф, так как мы здесь имеем или догматический постулат, основанный на формуле «о годе господнем», или простой возврат к рассказу о солнечном боге.
О жизни признанного учителя в возрасте от 12 до 30 лет – тоже мифологический период – нет никаких следов, ни мифических, ни немифических, хотя к моменту его смерти его изображают центром большой толпы почитателей; наконец, его рождение отнесли к зимнему солнцестоянию, дню рождения солнечного бога в наиболее распространенных культах; далее, в то время как рождество прикреплено к определенной дате, дата распятия ежегодно меняется, чтобы согласовать ее с тем же астрономическим принципом, по которому евреи, по примеру солнцепоклонников, устанавливали свою пасху.
Все, что евангелие дает между этими двумя мифическими моментами, как биографические факты, представляет собой случайные или намеренные выдумки, от которых при критическом анализе не остается ничего похожего на объективную историю.
Прежде чем согласиться с таким приговором, сочувствующие христианству исследователи стараются ухватиться за старый аргумент, что личность, подобная евангельскому Иисусу, не может быть плодом случайной басни или вымысла; что своим нравственным обликом он превышает всех людей периода создания евангелий; что его духовная целостность исключает теорию о литературной компиляции. На это надо, прежде всего, возразить, что такие утверждения бездоказательны и искажают наши данные.
Что личность Иисуса в действительности лишена цельности, становится ясно при попытке эту цельность установить, так как при этом приходится многое из предания отбросить. Претензии на моральное превосходство евангелий (даже если не касаться их сборного характера) отпадают, как только мы сравним их с современной и предшествовавшей им нравственно-по учительной литературой евреев, греков, римлян и индусов; в евангелиях нет ни одного поучения, которое не имело бы там своей параллели, а те места, которые признаются наиболее характерными, – например, нагорная проповедь, – простая компиляция более ранних еврейских проповедей.
Таким образом, вкладываемая в предания цельность и приписываемая основоположнику личность являются лишь плодом той же сочувственной фантазии, которая соткала пышные поэтические узоры вокруг образов Диониса и Будды и начертала для культа Кришны наиболее выразительные документы тогда, когда его культ уже был бесконечно древним. Как человек сотворил своих богов, так же он сотворил своих христов; было бы в самом деле странно, если бы он сумел создать бога, но оказался не в состоянии создать Христа.








