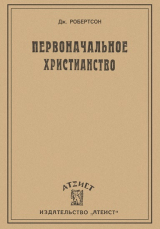
Текст книги "Первоначальное христианство"
Автор книги: Джон Робертсон
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
СРЕДА.
Искусственный организм, начало образования которого мы проследили, надо рассматривать, как и организмы в собственном смысле этого слова, зависящим от среды и приспособляющимся к ней. Характер этой среды мы уже отметили в очерке о зачатках культа; теперь ее следует рассмотреть особо, если мы вообще хотим ее полностью понять.
1. Общественное и культурное состояние Римской империи.Мир, в котором выросло христианство, был прежде всего миром угасших национальностей, изживших себя демократий, выдыхающейся интеллектуальной энергии. Всюду, куда проникла власть Рима, проявлению общественного сознания, выражавшегося в критике политического режима или в усилиях усовершенствовать собственный общественный строй, полагались строгие границы. Местные формы управления с установлением господства Рима не менялись, но естественной прогрессивной борьбе классов и интересов наступал конец. Евреям пришлось отказаться от своего государственного строя, основанного на последовательной теократии, грекам – от их идеала города-государства[10]10
Древние греческие республики обычно занимали небольшую территорию с одним городом, как политическим центром; одно и то же слово polis поэтому обозначало и город и государство, так как эти понятия почти совпадали.
[Закрыть]; даже сам римский сенат опустился до роли сборища льстецов, довольствующихся регистрацией декретов своего властелина. Все без исключения должны были, под страхом полного уничтожения, молча и раболепно принять систему империи и оставить надежду самим творить свою политическую судьбу.
В таком мире мысль, почти совершенно лишенная возможности практически разрешать живые вопросы политики и морали, по необходимости обратилась к таким темам, которые были для нее доступны; но при подавлении свободы, означающем ограничение духовной личности, самый размах человеческой мысли суживается; поэтому не было уже той общей способности охватывать трудные проблемы науки и философии, которые были выдвинуты смелой спекуляцией веков свободы и тонкой изощренностью одаренных научных деятелей доримской Александрии. А для массы народа, если не считать тех случаев, когда для нее еще давались греческие драмы, единственным видом умственной деятельности осталась разработка конкретных вопросов религии; для более серьезных людей такого рода умственная деятельность служила и утешением и занятием.
Под гнетом деспотизма, во многих отношениях соответствовавшего восточному типу, серьезные люди вырабатывали себе восточное настроение отрешенности от действительности; от действия обратились к мечте, от видимых интересов к проблемам невидимого. Даже в самом Риме, где высшие классы были гораздо равнодушнее к христизму, чем в восточных провинциях, новые условия вызвали новый интерес со стороны язычников к вопросам богословия.
Вообще говоря, у различных человеческих типов и классов всегда склонность к созерцательной религии или к размышлениям зависела от степени их оторванности от практических интересов. В древнем мире этот закон проявляется во всех видах. Одну из крайностей представляют собой энергичные римляне, вначале усердные земледельцы, а затем столь же усердные вояки, суеверные, но неспособные к умозрению, превратившие религиозный ритуал в систематический отдел политики, в часть государственного механизма.
На другом полюсе стоят индусы, которым физические и экономические условия предуготовили деспотизм, как форму государственной власти, которых климат осудил на бездеятельность; они настоящие дети грез, для которых эволюция религии закончилась в углубленном погружении в безудержную спекуляцию. Серединную позицию занимали греки, деятельные, но не трудолюбивые, слишком живые, чтобы предаваться мечтам, слишком культурные, чтобы поддаваться педантичным суевериям, естественные творцы религии, проникнутой поэзией и искусством. Их наука и философия зародились в Малой Азии на почве полунаучного, полурелигиозного знания ниспровергнутых древних культур Ассирии и Вавилонии, в полувосточной атмосфере лени.
После первого свободного развития зародышей гр. философии в полной превратностей жизни бесконечно между собой воевавших городов-государств, – наиболее заметный рост греческой философии совпадает с периодом, когда начали обнаруживаться признаки политического упадка и когда тень деспотизма упала на людей, отрезвившихся и опечалившихся при виде беспрестанных внутренних раздоров. Когда деспотизм стал фактом, мысль еще некоторое время продолжала идти вперед, благодаря накопленным культурным ценностям и в силу инерции движения. Но в новой обстановке монархии высшие классы утратили свою энергию, и философия опустилась до уровня древнего мистицизма, превратившись из продукта напряженной критической мысли в игру фантазии.
Если такова была участь культурного меньшинства, некультурная масса могла только питаться наиболее простыми религиозными учениями, попадавшимися на ее пути. Она неизбежно обратилась к более тесному использованию существующего религиозного аппарата, к применению более чувственных ритуалов, к более свободному участию в том утешении и возбуждении, которое дают драматические мистерии. Там, где гражданская жизнь при отсутствии самоуправления зависела от чужой воли, более серьезные люди все более подпадали под влияние свойственных Востоку забот о будущей жизни; такое умонастроение обычно развивается в странах, подвергающихся частым завоеваниям и зависящих от каприза тиранов и сатрапов.
В период своего роста свободная еще Греция за несколько столетий до христианской эры заимствовала на Востоке возбуждающие чувственные культы, особенно ценимые женщинами, с мистериями, обещавшими своим посвященным блаженную жизнь по ту сторону печальной действительности; по вполне естественной причине, как раз те, кто меньше всего имел власти над настоящим, цеплялся за такое утешение в будущем. Так, установлено, что в республиканском Риме как раз женщины и чужестранные рабы охотнее всего принимали новые «суеверия», а в периоды опасной войны тяга к новым культам усиливалась.
Таким путем совершалось нечто вроде отпущения на волю религии в средиземноморском мире и до и после того, как римляне стали властелинами вселенной. В ранних городах-государствах Греции и Италии отправление культа было в значительной мере привилегией высшего сословия. Наиболее устойчивым и интимным естественно был культ домашних богов, ларов и пенатов, и люди, не имевшие своего родового гнезда – рабы или нищие – были лишены такого общения с богом. Только культ государственных богов был всеобщим; но и здесь римские патриции в течение долгого времени монополизировали для себя жреческие должности, и даже в более демократической Греции рабы и иностранные поселенцы не допускались к участию в священных пирах, составлявших признак принадлежности к культу – все равно публичному или частному.
Точно так же чужестранные культы в первое время отдавались под государственный контроль, который, несомненно, заботился о соблюдении в них благопристойности, но вместе с тем охранял и классовые интересы. Позднее в республиканском Риме установился обычай приносить к священному пиршественному столу статуи богов, которые, как полагали, участвуют в совместной трапезе с верующими; конечно, общество для этого случая подбиралось отборное. Таким образом, для римского плебса религиозные объединения ограничивались, главным образом, учрежденным для него культом публичных ларов и пенатов.
В Греции с ростом демократии доступ к государственному жертвенному пиру стал свободнее, но в лучшем случае это относилось только к свободным гражданам; к тому же древняя простота обрядности неизбежно лишала ее всякой атмосферы эмоциональности. Временами приходилось даже принимать меры побуждения, чтобы обеспечить необходимое число «паразитов» менее важным сакраментальным трапезам (языческий тип ежедневной «обедни»), совершавшимся ежедневно в храмах и не имевшим притягательной силы публичных пиршеств-
Таким же образом получилось, что с течением веков простонародье, в особенности многочисленные чужеземцы из Малой Азии, рабы и свободные люди, – всюду все больше стремились найти религию и для себя нечто такое, в котором они могли бы принять близкое участие на равных правах со всеми. Приблизительно таким же образом в позднейшее время простонародье во многих европейских странах отшатнулось от официального католицизма; так это было при реформации, или когда городское население Англии создало свои диссидентские церкви из отвращения к существующей церкви. Уже во время пелопонесской войны мы наблюдаем возникновение новых религиозных обществ среди низших классов афинян. Такие «гетерии» делали для них доступными дионисовые и другие восточные таинства святого крещения и святого причащения «плоти и крови», где жертвой был козленок.
Эти многочисленные общины содержались на собственные средства и имели свое самоуправление, сами назначали своих жрецов и жриц и имели собственные священные книги. К таким культам допускались без различия рабы, чужестранцы и женщины; и хотя в некоторых случаях культ был оргиастическим в соответствии с господствовавшим тогда уровнем народной культуры, нельзя все же предполагать, что провозглашенные идеалы «доброты, целомудрия и нравственной чистоты» были для таких групп вообще лишены морального значения.
Просвещенные слои, как в республиканской Греции, так и в республиканском Риме, осудили их, как грубые и неприличные; но если верить этим обвинениям против языческих общин, тогда надо на таком же основании верить обвинениям против христиан, в отношении которых те же обвинения выдвигались во II и III вв. Вероятно, в отношении всех религий эти обвинения только отчасти были справедливы. Во всяком случае греческие сообщества во многих отношениях послужили образцом для раннехристианских общин: большинство из них имело «пресвитеров» и «епископа», а некоторые назывались «синагогами» (термин этот – синоним «церкви»).
В конце концов давление конкуренции со стороны частных культов настолько усилилось, что для поддержания государственных культов понадобились поощрительные меры; с течением времени замкнутые когда-то элевзинские мистерии в Афинах стали открытыми и доступными для всех членов государства, а позднее – для всех членов римской империи, если не считать исключительных изъятий для лиц откровенно неверующих, эпикурейцев или христиан. Даже рабов, в конце концов, стали посвящать в мистерии на государственный счет.
Поскольку вообще евангелия могут бросать свет на зачатки христианства, приходится заключить, что христианский культ вырос в обстановке, подобной описанной выше. Некоторые из «нищих» в еврействе чувствовали себя в некотором роде вне установленного культа. Хотя всякие речи против богатых уже давно пользовались популярностью, все же имена, данные легендарным апостолам, свидетельствуют, что новые культы и здесь (как и в Риме и Греции) в значительной степени были продвинуты опять-таки иностранцами.
Рассказы об общении Иисуса с «мытарями» и «грешниками» говорят о наличии таких элементов в сектах; смысл постоянного присутствия женщин при евангельских событиях также заключался или в неудовлетворенности женщин пресностью официальной религии или в потребности в утверждении своей личности, в чем иудаизм отказывал подчиненному полу. Не похоже. однако, чтобы на иудейском этапе христианства рабы также были желанными участниками движения.
В некоторых евангельских текстах Иисус даже взывает к идеалу рабовладельца (ев. от Луки XVII, 1-10), и нигде раб не выводится в симпатичном освещении. Но ясно, что когда христианский культ стал распространяться среди язычников, он принимал и рабов подобно греческим религиозным сообществам; а в первый языческий период члены общины, по-видимому, ведали своими финансами и управляли сами своими делами по греческому демократическому способу.
Решающим политическим условием повсюду было социальное господство империи, лишившее всех людей влияния и значения в делах высшего государственного управления. В общем, устранение от общественной жизни послужило основной причиной того, что женщины, рабы и не получившие гражданских прав иностранцы в греческих городах и в Риме обратились к частным культам и общинам. При империи все классы были в одинаковой степени отстранены от участия в государственной власти, и место старых политических интересов должны были занять какие-то новые.
В пределах римского «мирного преуспеяния» эти новые интересы для большинства сводились к атлетическим состязаниям, театральным и цирковым зрелищам; другие находили поле для интереса в религиозной деятельности. Надежды на улучшение и отчаяние, наступавшие после неудачного восстания, также питали дух веры; надежда превращалась в пророчество, а отчаяние искало убежища под сенью таинств, обещавших лучшую жизнь за гробом.
Преобладающим состоянием людей стала безропотная покорность; утонченная материальная культура создала в городах особую чувствительность, в сущности, особый невроз; даже сам порок вызвал реакцию аскетизма; а над всем этим витал пессимизм упадочного Востока, настроение людей подавленных, сознающих, что они игрушка в руках не поддающегося контролю мирового рока, жаждущих высшего откровения и руководства.
2. Еврейская ортодоксия.Между нормальной, установившейся еврейской религией, которая уже содержала в себе или во всяком случае легко могла воспринять все элементы раннего иезуизма, и новыми сектами силы отталкивания исходили не из учения или теории, а из экономики и политики. Если не считать развившегося позднее понятия о воплощении (собственно говоря, легкая тень этой идеи была уже намечена и в еврейской религиозной мысли), в системе христианства нет почти ни одного принципа, которого бы не было или в священном писании, или в общепринятых раввинских учениях, развивавшихся не только за счет либеральных моральных проповедей раввинов типа Гиллеля, но и за счет простого толкования традиций, приписываемого массе книжников и фарисеев.
Священные книги евреев говорили о бедняках сочувственно, а храмовая казна кормила, должно быть, многих, хотя, как и во времена пророков и в наше время в Европе, было и не мало непримиримых. Даже среди фарисеев были такие, которые провозглашали «устное учение» наивысшим законом. Что касается религиозного мышления, то и здесь еврейская система жертвоприношений, с одной стороны, а с другой – их возвышенная сверхцерковная мораль таили в себе зародыши всех тех идей, к которым обращаются евангелия и послания; единственное исключение составляет то специфически христианское чувство, которое было устремлено скорее к полубогу, чем к богу, скорее к божеству, по-человечески чувствующему и знакомому со страданием, чем к далекому грозному всемогущему богу.
Но и эта фигура человеческого полубога частично развилась на еврейской почве, – в представлении о мессии, который должен пострадать и умереть. Но такой мессия, который умер и не явился тотчас же вновь с триумфом, не мог удержаться в еврейской системе религиозной мысли; поэтому, когда культ такого мессии приобрел популярность среди язычников, особенно после разрушения Иерусалима, мессия неизбежно должен был или прочно утвердиться в новом виде вне еврейства, или вовсе исчезнуть.
Правда, так наз. несториане (собственно назаряне) в Армении примирили иудаизм с христизмом, признав принесение в жертву Иисуса последней жертвой во искупление грехов и сохранив вместе с тем и жертвы, предписываемые моисеевым законом; но такое примиряющее течение было неприемлемо для еврейской иерархии, обвиняемой в распятии Христа; да и несториане были такими же антисемитами, как и другие христиане.
Иудаизм был, так сказать, прикреплен сразу и к своему национальному и к экономическому фундаменту. Его главными козырями перед язычниками прозелитами были – его великий исторический храм и свод священной литературы; и то и другое давало духовному сословию основания претендовать на доходы от верующих, как евреев, так и прозелитов. Финансовые интересы еврейского клира должны были быть гарантией, что управление новообращенными будет соответствовать требованиям самой либеральной пророческой литературы; но существо иудаизма требовало сосредоточения всей казны верующих в храме или в ведении патриаршего престола; и вот тут-то и ставились моральные и финансовые пределы либерализации иудейской церкви.
Простой расовый инстинкт, обыкновенное языческое своекорыстие должны были стремиться отвергнуть централистские притязания раввинской Иудеи, как и (впоследствии) папского Рима; а чисто моральный, духовный характер иудейского влияния, в соединении с обычным презрением язычников к личности евреев, привел к тому, что еврейский романизм, всегда более ограниченный, чем папский, быстрее выдохся. Дальнейший упадок еврейского иезуизма – явление того же порядка.
Ранний иезуизм совершенно очевидно процветал, как способ еврейского прозелитизма среди язычников. К числу обстоятельств, наиболее четко установленных в окружающей «апостолов» сомнительной литературе, относится тот факт, что от новообращенных язычников ожидали таких же взносов в центральную казну, какие делали обыкновенные евреи. Даже после того, как начался процесс отхода язычников от иудейства, в эпоху Павла или тех лиц, которые подделывали послания от его имени, все дело распространения христианства творилось силами евреев, поскольку оно осуществлялось путем литературной пропаганды.
Через все синоптические евангелия проходит представление о функциях Иисуса, как они большей частью мыслились в позднейшем еврействе; в приближающемся страшном суде Иисус председательствует, а его апостолам предстоит судить двенадцать колен израилевых; таким образом, выходит, что ранние иезуисты должны были включить себя в иудейскую паству.
Все группы христистов вплоть до возникновения антиеврейского гностицизма основали свое учение на греческом переводе еврейского священного писания; нравоучительное руководство двенадцати еврейских апостолов было, как мы видели, настольной книгой иезуистов, а евангельская мораль, даже во всех ее противоречиях, насквозь еврейский продукт.
Если верно, что Иоанн Креститель, как это ему приписывается, отбросил расовую гордость и предрассудки евреев, то это значит, что и универсализм начал уже обнаруживаться в пределах еврейства. Даже оппозиция в вопросе о разводе, вытекавшая скорее из нееврейских, чем из еврейских идеалов, нашла в самом еврействе элементы для обоснования доктрины, противоречащей практиковавшейся ортодоксами свободе развода, и весьма вероятно, что как абсолютное, так и условное запрещение развода в евангелиях вышло из-под пера еврея; мораль и вся религиозная атмосфера иудаизма великолепно совмещались с образом жизни ранних иезуистов.
Нетерпимой сектантской ложью надо считать положение, будто отталкивающий образ, воплощенный в «книжниках и фарисеях» или даже в торговцах в храме, был первоначальной причиной нравственного возмущения среди евреев и язычников, и что из этого возмущения возник иезуизм. Конечно, худшие типы «книжников и фарисеев» быстро появлялись в новой секте, как и во всякой другой. Но нельзя предположить, чтобы такие иезуисты, каких рисует первое послание к коринфянам, могли отвергнуть иудаизм из-за моральной грубости; правильнее будет считать, что их оттолкнуло требование взносов и одновременно презрительное отношение к прозелитам из язычников; немалую роль сыграл, наконец, и варварский обряд обрезания, которое даже сочувствующие еврейству иезуисты в конце концов заменили крещением.
Отношения между иудаизмом и иезуизмом были тогда аналогичны отношениям между метрополией и колонией; последняя укрепляется при помощи первой, заимствует у нее язык, обычаи, идеалы, методы, формы и престиж, пока с течением времени новая среда не создает у нее специфических характерных черт, а затем чисто географическая обособленность и собственные интересы колонии побуждают ее перестать платить старинную дань. Как это обычно бывает, и в данном случае в колонии существовала партия лояльных по отношению к метрополии людей, оказывавших жестокое сопротивление сепаратистским стремлениям.
3. Еврейские секты; ессеи.Хотя Иосиф Флавий перечисляет 4 еврейские «секты», на самом деле в еврействе существовала, не считая иезуистов, только одна отколовшаяся секта в современном значении этого слова. Фарисеев и саддукеев можно скорее сравнить с разделенными церквами или «школами» римской и англиканской; первые были «правоверными и даже более того», поскольку они соблюдали закон, но, развивая его, настаивали на учении о грядущем царстве, не содержавшемся в моисеевых книгах, тогда как саддукеи, руководимые домаккавеевским консерватизмом или эллинистическим скептицизмом, держались только моисеева учения, в осуществлении которого они играли главную роль, так как принадлежали преимущественно к жреческому сословию. Интересно отметить, что евангелия с особым ожесточением нападают не на саддукеев, отвергавших учение о будущей жизни, а как раз на фарисеев, утверждавших эту догму; дело в том, что фарисеи были естественными конкурентами нового культа в среде еврейства.
Третья группа, упоминаемая Иосифом, – группа Иуды Галлилейского была скорее политической партией, чем религиозным течением; она просто защищала еврейскую национальную независимость против римлян.
Но в известных пределах термин «секта» подходит к ессеям; факт существования и характерные черты секты ессеев заслуживают особого внимания в связи с зачатками христианства. Все говорит за то, что в течение многих поколений среди еврейства существовала группа, называемая ессеями (возможно, что она раньше называлась хасидами), которая вела аскетический образ жизни, отвергала животную пищу и животные жертвоприношения, избегала вина, теплых купаний, масла для натирания, носила белое платье и предпочитала льняные ткани шерстяным, запрещала всякого рода клятвы, кроме одной, и высоко ценила безбрачие
Многие из них жили на берегах Мертвого моря собственным трудом в мужских безбрачных общинах, соблюдая общность имущества, под строго иерархическим управлением; но многие другие жили разбросанными по еврейским городам; некоторые были женаты, но все соблюдали принципы аскетизма. Для приема в члены общины требовался длительный искус. В отношении вероучения они крепко держались моисеева закона, но почитали также солнце, которому они по утрам возносили хвалебные гимны; они строго соблюдали субботу; они сами исполняли свои религиозные требы, без священников, изучали магию и ангелогию, но чурались логики и метафизики.
Что касается морали, их культ проповедовал физическую чистоту и братское смирение, относился враждебно к рабству, войне и обычным порокам, но был склонен к мистицизму, проповедуя столь часто встречающуюся в древних религиях веру» что аскетизм может сообщить человеку сверхъестественные способности. В общем это учение имело столько общего, с одной стороны, с пифагореизмом, а с другой стороны – с маздейской религией и буддизмом, что это надо считать доказательством связи между этими учениями; отсюда следует также заключить, что одно общее движение некогда распространилось в Азии вплоть до буддистской Индии, а в средиземноморском мире до греческой Италии («Великая Греция» в южной Италии) и сохранилось в различных сектах в течение многих столетий.
Мы видим, таким образом, что и без участия какой бы то ни было, якобы, божественной личности, даже без предания о ней, мог в среде еврейства существовать культ, превосходивший христизм в отношении аскетизма и смирения, достигший степени братства, к которой христизм явно, но тщетно стремился, и в течение многих поколений соблюдавший по существу безбрачие, принимая своих адептов чаще всего извне после строгого искуса, частью путем усыновления и воспитания детей.
Такая система, определенно ставившая себе целью отбор наилучших и исключение худших, исключала мысль о создании мировой религии, и хотя она еще существовала в V веке, она не могла пережить окончательного уничтожения создавшей ее среды, если не считать перешедшего в христианство идеала монашества. Но длительное существование ессейской секты ясно показывает, какие широкие возможности открывались для религиозных движений в Палестине и на Востоке без каких бы то ни было исключительно одаренных вождей и без чего-либо похожего на сверхъестественное новое религиозное творчество.
Насколько ессеи повлияли на ранний иезуизм, трудно установить. Несмотря на некоторые совпадения, как. например, запрещение клятвы и уважение к безбрачию, ясно, что между обоими движениями не было такого сходства, какое предполагали в них писатели, старавшиеся их отожествить; но эти совпадения свидетельствуют о сходных умонастроениях. Тот факт, что ессеи не упоминаются в евангелиях, надо объяснить отсутствием соперничества между этими двумя учениями. Одно было местное монашеское, замкнутое; другое было странствующим и пропагандирующим. Только в умах плохо информированных римских фальсификаторов II в. могла зародиться мысль о враждебных столкновениях между ними. Ессеизм не нуждался в нововведении Мессии, а иезуизму надо было идти в поход за вербовкой сторонников.








