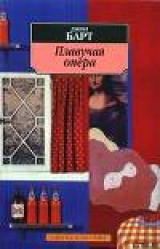
Текст книги "Плавучая опера"
Автор книги: Джон Барт
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Если не забыли, по завещанию № 6 все отходило к миссис Мэк при условии, что с 1920 года она не притрагивалась к игристому шампанскому. Наше завещание все отказывало Гаррисону, если он после 1932 года повернул прочь от Москвы, а миссис Мэк получала несколько сотен вышеупомянутых бутылей из-под маринада. В обоих документах особо указывалось, что при несоблюдении сформулированных условий права наследования переходят к другому лицу, являющемуся следующим ближайшим родственником почившего.
Аргументация Фробеля строилась на двух основных доводах: 1) столь явно выраженное отвращение завещателя к игристому шампанскому не свидетельствует об умственном расстройстве, лишающем дееспособности документ № б, где в качестве обязательного условия для получения наследства выдвинут запрет прикасаться к данному напитку, однако тот факт, что спустя всего несколько месяцев завещание радикальным образом изменено, хотя никакое внешнее обстоятельство подобному изменению не способствовало, говорит о душевном заболевании, начавшемся именно в указанные месяцы; 2) пункт, касающийся бутылей из-под маринада, появляется только в завещании № 8 и сохранен во всех последующих вплоть до № 16, а этот пункт доказывает, что мистер Мэк уже не контролировал собственные побуждения и поступки.
– Отчего же не контролировал? – возразил я. – Может быть, он просто не любил свою жену.
– Позвольте, – тут же парировал Фробель, – в разных вариантах завещания бутыли отказываются разным лицам, а не все время миссис Мэк.
– Не забывайте, впрочем, – говорю я, – что содержимое бутылей сохранялось, поскольку он им дорожил, стало быть, отказывая бутыли в завещании, мистер Мэк желал выказать свое расположение тому, кто их получит по наследству. Разве расположение к какому-то лицу свидетельствует о душевном заболевании?
– Нисколько, – отвечает Фробель. – Однако, выказывая расположение к супруге, он бы отказал ей и состояние, а не только, гм, свои экскременты.
– Откуда это следует? – возражаю я. – Напомню, что в одном из завещаний весь капитал оставлен церкви именно по той причине, что церковь ему не нравится. Стало быть, вполне допустимо, что отказанное по завещанию моему клиенту должно подчеркнуть нерасположение к нему, тогда как отказанное вашему – наоборот, знак расположения.
– Теоретически допустимо, – улыбается Фробель. – Но утверждаете ли вы, что в данном случае дело обстоит именно так?
– Нет, не утверждаю. Просто отмечаю возможность подобного толкования последней воли.
– И тем самым, – подхватывает Фробель, – признаете, что завещание № 8 такой же продукт расстроенного ума, как и завещание № 13, по которому наследником оказывается упомянутая выше церковь. Человек в своем уме не прибегнет к карательной мере, представляющей собой дар в три миллиона долларов, или вы не согласны?
Да, Билл Фробель был настоящий адвокат. По части юридических экспромтов у нас с ним соперников во всем Мэриленде не нашлось бы.
Что касается моих доводов, то вот они: 1) появление пункта относительно бутылей из-под маринада нельзя считать указанием на умственное расстройство, поскольку Мэк хранил эти бутыли еще с того времени, к которому относятся завещания № 3 и 4; 2) стало быть, завещатель должен быть признан либо вменяемым, либо невменяемым как в момент составления завещания № 6, так и в момент составления завещания № 8; 3) если мы признаем его вменяемым, юридической силой обладает документ № 8; 4) если мы признаем его невменяемым, юридической силой обладает завещание, относящееся ко времени, когда его вменяемость не внушала сомнений, а за отсутствием такового остается вынести решение, что завещание покойного отсутствует вообще (а это значит, что Гаррисон получает все за вычетом суммы на содержание, положенной миссис Мэк как вдове).
Судья Фрэнк Ласкер из балтиморской коллегии решил дело в мою пользу. Фробель обратился в апелляционный суд, затем в Верховный суд Мэриленда, но оба раза апелляция была отклонена. Похоже, Гаррисону предстояло разбогатеть и ждать осталось недолго – д0 января 1937 года, когда заканчивался испытательный период, после чего требовалось доказать, что никаких коммунистических симпатий он с 1932-го не проявлял. Сам он клялся, что так и было, никто его никаким попутчиком не назовет, не прицепишься. Фробель одно время грозился затеять новое разбирательство, теперь уже по поводу завещания № 2, однако из этого ничего не вышло.
Последнее заседание по этому делу проходило в форме слушания. В начале января мы с Гаррисоном отправились в балтиморскую палату, где судья Ласкер огласил завещание № 8 и сделал заявление, что в случае, если никто из присутствующих не представит свидетельств относительно несоблюдения поставленного в нем условия, суд готов признать это завещание обладающим законной силой и подлежащим исполнению. Тут, к немалому моему удивлению, поднялся Фробель, сказав, что располагает свидетельствами, требующими, согласно воле завещателя, передачи прав наследования следующему из ближайших родственников, и готов эти свидетельства представить.
– Ты же мне говорил, что ничего нет, – шепчу я Гаррисону, а он прямо побелел от страха.
– Абсолютно ничего, клянусь! – бормочет он, а сам, вижу, потом залился, и руки у него дрожат. Ладно, посмотрим, что там Фробель настряпал.
– Итак, какого рода свидетельствами вы располагаете? – обращается к Фробелю судья.
– Ваша честь, не далее как в минувшем году, когда отец клиента мистера Эндрюса уже покинул сей мир, чему, – как знать? – возможно, поспособствовало безответственное поведение его сына, в минувшем году, ваша честь, сын мистера Мэка, прилагающий теперь столько стараний, чтобы отнять у собственной матери причитающееся ей по закону, этот самый человек помогал и содействовал, в том числе и значительными денежными пожертвованиями, укоренению доктрины, прекрасным примером противостояния которой была вся жизнь его отца, и, несомненно, вдохновлялся уверенностью, что ему удастся утаить свои лелеемые в душе большевистские симпатии до той поры, пока он не получит возможности использовать весь капитал семейства Мэк с целью подорвать основания именно того образа жизни, благодаря которому указанный капитал был создан!
Фробель был выдающийся мастер нагонять патетику, – судья и присутствующие чуть не в рот ему смотрели.
– Господи помилуй! – шепчет Гаррисон. – Да неужто это он про мои испанские пожертвования, как думаешь?
– Если ты такой идиот, что переводил деньги "республиканцам, то как раз про это, не сомневайся, – отвечаю, а сам поражаюсь, до чего же Гаррисон простодушен.
Ясное дело, про "испанские пожертвования" Фробель и толковал. И в доказательство представил фотокопии четырех чеков, каждый по тысяче долларов, выписанных одному американскому агентству, представлявшему правительство Испанской республики. На всех подпись: Гаррисон А. Мэк-младший и даты: 10 марта, 19 мая, 2 сентября, 7 октября.
Судья Ласкер, повертев их в руках, нахмурился.
– Признаете, что чеки выписаны вами? – спрашивает он Гаррисона. А тот так и вскинулся:
– Мною конечно. Послушайте, какого черта…
– К порядку! – рявкнул Ласкер. – Вам неизвестно, что испанское правительство находится под контролем коммунистической партии? Что оно выполняет указания Кремля?
– Да как вы можете? – захлебывается Гаррисон, но тут я тяну его за рукав и усаживаю чуть не силой.
А Фробель гнет свое, словно ничего и не замечая:
– С вашего позволения хотел бы разъяснить, что пожертвования на нужды Испанской республики, в сущности, являются пособничеством Москве, но мало того, данное агентство представляет собой коммунистическую организацию и находится под наблюдением ФБР. Не спорю, можно оказывать содействие республике, руководствуясь искренними, хотя, я бы сказал, недопустимо прекраснодушными либеральными побуждениями, однако к услугам этого агентства способен прибегнуть лишь тот, кто симпатизирует деятельности Коминтерна. Как многие из нашей праздно живущей элиты, молодой мистер Мэк, опасаюсь, истинный принц, чья голубая кровь пульсирует в огненно-красном сердце.
Думаю, эта заключительная метафора и склонила чашу весов на сторону Фробеля. Собственными глазами видел, как газетчики, воздавая должное такому красноречию, один за другим приподняли шляпы и тут же лихорадочно застрочили, чтобы бессмертный афоризм появился уже в ближайшем выпуске. Сам судья одобрительно улыбнулся: все понятно, образ запал ему в душу, она отозвалась всеми своими предрассудками.
Немножко еще мы попикировались, но никто уже в нашу дискуссию не вникал, сидят себе да все повторяют, улыбаясь, довольные: уж эта элита, полным-полно принцев, у которых голубая кровь в огненно-красном сердце. Голубая кровь в огненном сердце! Чего вы хотите от обыкновенного судьи, когда его такой вот поэзией ошарашили. Я и вообще думаю, что каждый предпочтет bon mot, а не mot juste[10][10]
Меткое словцо, а не слово истины (фр.).
[Закрыть], а судьи, подобно всем нам, тоже нередко руководствуются соображениями больше эстетическими, чем юридическими. Даже на меня произвел некоторое впечатление этот роскошный цветок, взлелеянный адвокатской фантазией, и жаль было, что отсутствуют присяжные, – уж они бы его оценили. Голубая кровь пульсирует в огненно-красном сердце! Ну разве противопоставимы выкладки рассудка музыке сфер? Куда уж мне со своей пресной логикой, если Фробель оседлал Пегаса. И попусту пошли бы все мои напоминания судье Ласкеру, что присутствует пресса, а значит, о его решении узнает вся Америка, вся Европа.
Я заявил следующее:
– Моему клиенту дороги свобода и человеческое достоинство, вот отчего он оказывал помощь подвергшейся агрессии Испанской республике, видя в этом свой моральный долг, как и подобает каждому американцу, поскольку необходимо дать отпор мятежникам, которые посягнули на независимость человеческого духа и попирают свободу кованым сапогом! На чем могут основываться обвинения в содействии анархии и насилию, если человек за один лишь минувший год пожертвовал четыре тысячи долларов испанскому правительству, которое отражает натиск пытающихся его свергнуть?
И вот этак я ораторствовал несколько минут, пытаясь обратить нам на пользу испанскую путаницу, из-за которой радикалы вдруг оказались поборниками закона и порядка, а реакционеры сделались мятежниками. Проявленное при этом искусство казуистики достойно овации, однако дело, я знал, нами проиграно. Похоже, мои риторические воспарения оценил один Фробель, остальных же ничто не занимало, кроме голубой крови в огненно-красном сердце.
Я, кажется, уже говорил, что судья Ласкер был махровый консерватор. Никакой не фашист, разумеется, и в испанских делах скорей всего сохранял беспристрастность, но, что поделаешь, в нем воплотился вообще свойственный этому сословию инстинктивный антагонизм, который вызывается всем, что хоть розоватой капелькой разнообразит синюю часть спектра, – мне подобное неприятие хорошо известно, сам возмущался им году этак в 1924-м, когда меня еще могли интересовать вещи вроде социальной справедливости. Вынося свое решение, Ласкер встал на сторону Фробеля.
– Не суть важно, – вещал он, – существует ли различие между московской и мадридской разновидностью коммунизма, не суть важно, одобряет или не одобряет суд, равно как любой из нас, пожертвования на те цели, которые при этом имелись в виду. Решающее значение имеет то обстоятельство, что агентство, куда направлялись пожертвования, является коммунистической организацией, находящейся под наблюдением правительственных служб, и тем самым пожертвования, направленные в это агентство, становятся пособничеством коммунизму. Нет сомнения, что жертвователь симпатизировал деятельности этого агентства, а деятельность его состоит в насаждении коммунизма. Завещание, мною оглашенное, содержит точные разъяснения, согласно которым проявление наследником подобного рода симпатий лишает его прав, передаваемых следующему ближайшему родственнику. Суд постановляет, что права наследования должны быть переданы согласно выраженной в завещании воле.
Итак, мы опять сделались обездоленными. Гаррисон почти лишился чувств, а когда я ему предложил сигару, его чуть не вывернуло.
– Кошмар, просто кошмар, – постанывал он, заливаясь потом от переживаний.
– Ну что, капитулируешь? – осведомился я. – Или подаем апелляцию?
Он ухватился за это предложение как за соломинку:
– А что, можно?
– Конечно можно. Неужели не почувствовал, как Ласкер путался с обоснованием, никакой логики.
– Логики! От этой его логики концы отдать можно.
– Только не нужно. У него все просто выходит: агентство – коммунистическая организация, ты посылал деньги в агентство, значит, ты душой коммунист. Допустим, я дал доллар-другой девице из Армии спасения, а эта девица, оказывается, вегетарианка, значит, я всей душой против мясных блюд. Хорошая логика: коммунисты за Республику, ты тоже помогаешь Республике, стало быть, ты коммунист.
Гаррисон первый раз вздохнул облегченно, хотя все еще был так слаб, что еле на ногах стоял. Но улыбнулся:
– Чудно! Так еще посопротивляемся, а? Слушай, Тоди, я вот подумал, ты же меня опять из пропасти вытаскиваешь, черт бы тебя подрал. Ну и судья! Собака паршивая. Ничего, он у нас еще не так запоет, правда?
Я покачал головой, и на лице его опять появилась бледность.
– Я что, не так что-нибудь сказал?
– Апелляцию мы подадим, – говорю, – только боюсь, опять проиграем.
– Как это? Опять проиграем! – А сам так и подавился смешком своим недоверчивым.
– Насчет логики оставь и думать, – говорю. – На логику эту все плевать хотели. Не в ней дело, а в том, что у них против Испании предубеждение есть. В этом суде тебе ничего не добиться, даже если бы Фробель без поэзии обошелся. Понимаешь, чтобы дело выиграть, мне надо Ласкера в либерала превратить.
И объясняю ему, что в апелляционном суде, куда наша жалоба пойдет, семь человек, из них трое республиканцы, не скрывающие свою неприязнь к либерализму, два других – либеральные демократы, да еще есть реакционер, "южный демократ", который сто очков вперед республиканцам даст по части неприятия всего, что с либеральным душком, и только последний из них – обыкновенный демократ, без громких слов, зато и без предрассудков.
– Я их всех знаю и наперед скажу, что Эбрамс, Мур, Стивене, республиканцы то есть, проголосуют против. Феррестор, это который южанин, был бы за тебя, если бы партийные склоки разбирались, но твое дело их не касается, так что он поддержит тех трех. А за апелляцию будут либералы, Стедман и Барнс, ну и еще, наверно, Хедэвей, потому что мы с ним приятели, а кроме того, ему не нравится, что у Ласкера с логикой неважно.
– Черт, так выходит, трое за, а четверо против, – хнычет Гаррисон. – Значит, проиграем?
– Я и говорю.
– А в Верховном суде штата?
– Трудно сказать. Не слыхал, чтобы эти как-нибудь об Испании высказывались, и вообще я с ними не знаком. Но последние три года они почти всегда утверждают любое важное решение апелляционного суда.
Гаррисон совсем скис:
– Но ведь так нельзя!
Я улыбнулся:
– Как будто не знаешь, как дела делаются.
– А, черт, но ведь что-то надо же придумать! – И головой трясет, скривился весь, дышит так тяжело да ногой притопывает. Я уж думал, он в обморок сейчас свалится, но ничего, сдержался, только говорит, словно камни во рту ворочает. Еще бы! Ведь одно дело – и это нетрудно – признать, как у кардинала Ньюмена сказано, "отвлеченную истинность" какого-то положения, допустим, "нет в мире справедливости", а совсем другое – почувствовать его "реальную истинность", убедиться в ней, на собственном опыте удостовериться, так что весь клокочешь от бессильного негодования. Помнится, я еще подумал, даст Бог, Гаррисону хватит сил перенести эту чувствительную потерю и хоть чему-то наконец научиться.
Апелляцию я подал.
– Особо не рассчитывай, но пусть дело пока тянется, – говорю, – а там, глядишь, что-нибудь изобретем.
В тот вечер перед отъездом из Балтимора мы с Гаррисоном пошли обедать в клуб, где Билл Фробель был членом, он нас и пригласил. Я похвалил его за вдохновение, а он меня – за то, что умею логику так и сяк поворачивать. Гаррисон сидел насупленный, много пил, но в разговор наш не вмешивался. Вести машину он оказался не в состоянии. Плюхнулся рядом и все за меня цеплялся, прямо-таки слезами заходясь:
– Три миллиона, Тоди, нет, ты подумай, три миллиона!
Я только посматривал на него, не выдавая своих чувств.
– Брось, – говорит, – знаю я, что ты думаешь, только напрасно, мы же с тобой столько лет знакомы. Деньги мне не для того нужны, чтобы направо-налево их швырять, как другие делают. Ты представляешь, что мы трое с этими миллионами сотворить бы могли!
Первый раз он про "мы трое" заговорил с тех пор, как я и Джейн наш роман в 1935 году возобновили, хотя до того "мы трое" из него так и сыпалось.
– По миллиону каждому, что ли? – спрашиваю. – Или общий счет заведем?
Почувствовал он, что я его подкалываю, и ощетинился, всю дорогу потом, словно по обязанности, давал мне понять, мол, если философски подойти, так плевать он хотел, ничуть ему не жалко без трех миллионов остаться. А я краешком глаза поглядывал на него да удивлялся и печалился: надо же, до чего человек с толку сбит.
Все-таки до конца он не выдержал, раскололся, когда мы по мосту над Чоптенком в Кембридж въезжали. Река была вся в белых барашках, холодом от нее веяло. Прямо перед нами в конце бульвара, начинавшегося сразу за мостом, красным полотнищем из неона распласталось по небу "Мортоновские чудесные томаты"; я улыбнулся. Весь берег представлял собой непрерывающуюся цепочку огней, которая тянулась от помигивающего маяка у Хзмбруксбар, справа от нас, до мэковского особняка на самой окраине восточного района Кембриджа, – на первом этаже в окнах везде свет, Джейн ждет нас не дождется-
– Ладно, Тоди, – сказал он решительно, – сдаюсь. Никакой я не философ. Не в том дело, что без денег мне жизни нет, меня ведь наследства уже лишали, и не раз, ты помнишь. Но, ты не думай, почти все получилось, одна ерунда осталась, а тут…
– Зря ты так, – говорю.
– Господи, как ты не поймешь, у нас с Джейн ведь всякие планы были. – И вижу, сейчас разрыдается, про планы эти вспомнив. – Ну как тебе объяснить? Мне просто жить теперь не хочется.
– Что? – переспрашиваю, и смех меня разбирает. – Ты что же, повеситься в погребе собрался? Давай, там и гвоздь подходящий в балку вбит, здоровый такой, двадцать пенни стоит. Раз уже для этого дела пригодился. Да, а я тебе скажу, в какую контору позвонить, чтобы потом пятна черные с лица убрали.
– Смейся, смейся, – Гаррисон говорит. – Мне все равно, как ты думаешь. Я же сказал, не философ я, никакой не философ.
– Ну хватит про философию, – оборвал я его. – С философией у тебя все в порядке, а вот с нервишками не очень. Еще начнешь меня уговаривать, чтобы я на Джейн женился, вместе на могилке твоей рыдать будем. Кончал бы свою истерику. Сопельки утри.
– Я человек слабый, Тоди, – говорит. – Ничего тут сделать нельзя. Самому стыдно, ты же знаешь.
– Стыдно, так перестань.
– Ага, возьми и перестань. – Но чувствую, проходит это у него. – Как будто стоит захотеть, и все в порядке будет.
– Да ты просто не хочешь.
– Еще как хочу. Только не все ли равно, раз не получается у меня. Ну, у всех свои слабости, и у меня тоже. Тебе не понять.
Я опустил окошко, выкидывая докуренную сигарету, которая рассыпалась искрами. Мост мы уже проехали и катили в мэковском массивном автомобиле по двухполосному шоссе.
– Что тут не понимать, слабости, конечно, у каждого свои. Но ты себе лишние осложнения придумываешь, Гаррисон. Тебе все трудно, потому что ни разу ты не подумал: а вот это легко. Послушай-ка. Волевое усилие – вещь самая легкая на свете, до того легкая, что диву даешься, почему горы нагромождают, прежде чем на него решиться.
Гаррисон, видимо, уже прогнал мысли о своей неудаче и теперь старательно следил за моим рассуждением.
– Считай как считаешь, – говорит. – Только психологию со счетов не сбрасывай.
– При чем тут психология? – говорю я. – Меня она не волнует. Мы поступаем так, словно у нас есть выбор, и в общем-то он у нас действительно есть. Только одно и требуется: собраться с силами, подавить в себе слабости.
– Это невозможно.
– Но ты же и не пытался!
Увы, и не намерен был, во всяком случае в тот момент, – я это ясно видел. Мы зашли в дом выпить напоследок. Джейн, разумеется, обо всем сообщили по телефону, она рыдала взахлеб. Я решительно объявил, что никакого сочувствия они от меня не дождутся, пока нюни распускают.
– А ты, сам ты как бы такое пережил? – накинулась она на меня.
Я улыбнулся.
– Понимаешь, не было в моей жизни такого, чтобы три миллиона потерять, – говорю, – но могу рассказать, как я пережил один случай после того, как папа, оставшись без нескольких тысяч, повесился.
И тут я им первый раз рассказал про свои дела с полковником Генри Мортоном, – потерпи, читатель, тебе я тоже про это расскажу, только не сейчас, попозже. Не надо было, чтобы Гаррисон из-за денег ускользнувших дулся на весь мир, – так я решил, поскольку он пока явно не готов стать сильным, сказав себе, что так нужно, ну в таком случае пусть делается циником, каким и я был. К этому он, похоже, вполне готов, достаточно ему всего об одном случае сообщить, и дело сделается.
Поверь мне, друг-читатель, ничто не принуждает человека ощущать свою слабость, ибо он свободен, до того свободен, что, глядишь, самому от этой свободы неуютно станет.
Когда я уходил, Джейн все спрашивала:
– Тоди, а ты ничего пока не придумал?
– Боюсь тебе обещать, – сказал я. – В общем, Гаррисон правильно сделает, если будет считать, что у него на три миллиона меньше, так оно и есть – пока, во всяком случае.
– Он это как воспринял-то? – беспокоится она. – Говорил с тобой об этом, когда назад ехали?
– Либо возьмет себя в руки, либо повесится, – предсказал я. – Если первое, для него не так уж будет важно, получит он в конце концов эти деньги или нет, и вот тогда мне действительно захочется, чтобы получил. А если из-за денег руки на себя наложит, так я даже рад буду, что они ему не достались, честно тебе говорю. Терпеть не могу слюнтяев. К тебе это тоже относится. Оба вы просто не готовы миллионерами сделаться. Не заслужили еще.
И ушел. Думаю, свались три миллиона на меня, я бы от тщеславия надулся как индюк. А может, и нет: как наперед угадаешь?
Газеты вскоре перестали писать о тяжбе, ведь апелляционный суд вернется к делу не ранее чем через полгода, хотя, думаю, больше положенного тянуть не станет. А до окончательного решения Лиззи Мэк, вдова, распоряжаться стариковским наследством не может, только может покрывать из него расходы по содержанию поместья, так не велика важность, что права присудили ей.
Все последующие месяцы я довольно-таки основательно изучал людей, заседавших в апелляционном суде, и пришел к выводу, что с самого начала оценил расстановку сил правильно. Вся собранная мной информация подтверждала, что счет окажется 4:3 в пользу Лиззи – в том случае, если нашу апелляцию рассмотрят в предусмотренный законом срок.
А если нет? Вот о чем я размышлял у себя в конторе, разглядывая стену напротив стола, как всегда в таких случаях делаю. Допустим, слушание отложат, какая нам от этого выгода? И как добиться, чтобы отложили? Выгода вот в чем: если дело будет слушаться в срок, мы проигрываем совершенно точно, а если позже, то, не исключено, тоже проигрываем, однако появляется дополнительное время, и, глядишь, что-нибудь подвернется. Наверное, вот так вот приговоренный к казни ликует, когда исполнение приговора отсрочат на день, все надеется, что Господь явится с небес ему на выручку, и, даже сидя на стуле с пристегнутой к спинке шеей, все ждет, где же Его спасающая колесница. Как знать? В ту последнюю секунду агонии – уже и колпак опустили, и стул вниз поехал – он все ждет прикосновенья Божьего, коим будет освобожден, а петлю – раз! и затянули, ломая шейные позвонки и упование с ними вместе. Понятно, у нас всего-навсего спор о наследстве, но механика-то та же самая. К сентябрю республиканцы вдруг да победят, или, допустим, станет нехорошо так уж откровенно симпатизировать фашистам, Гитлер-то вон что выделывает. Или, допустим, в октябре Франко окончательно возьмет верх, и все начнут жалеть несчастных республиканцев, благо угрозы они теперь никакой представлять не будут. В общем, разное может случиться, а мы в результате получим недостающий нам голос. Да, в ноябре ведь частичные выборы, поди угадай, как там между партиями все сложится, что если Джон Форрестер, этот реакционер, который демократ, сочтет разумным примкнуть к тем, кто полиберальнее. Или вот что…
Я улыбнулся, скинул со стола ноги и решил заняться своими папками. Так, поглядим, сколько там каждый пробыл в должности, сколько кому осталось.
– Ага, – хмыкнул я, – стало быть, Фредди Барнс, тебе, греховоднику старому, ныне переизбираться, вот какое дело.
Само по себе это обстоятельство мало что меняло, так как популярность Рузвельта достигла своего пика, да и к самому Барнсу у нас в Мэриленде относятся хорошо, переизберут без всяких сложностей. А с другими демократами? – этому Форрестеру еще два года осталось, Хедэвею – четыре, Стедману – целых шесть. Посмотрим, как с республиканцами? – два года у Эбрамса, шесть у Стивенса, у Мура…
– Так-так! – усмехаюсь. – Ах, Ролло, скотина ты этакая, значит, опять перед избирателями соловьем разливаться!
По моей просьбе весь день миссис Лейк обзванивала разных балтиморцев – видных и не слишком, с принципами и сговорчивых, славных моих знакомых и тех, с которыми у меня дела бывали. К вечеру я был одним из немногих – из семи, думаю, – кому совершенно точно было известно, без всяких там выкладок, просто, что судья Ролло Мур, хоть его и поддерживают мэрилендские республиканцы, переизбран не будет, чуть-чуть, но непременно уступит Джозефу Сингеру, а тот, продли небо его дни, абсолютно неисправимый либерал, хотя, признаться, с мозгами немножко набекрень, – ну, в общем, тот же Гаррисон, прямо копия.
Господи, да ведь мы наверняка выиграем, только бы отсрочить слушания до ноября! Верней, до января 1938-го, новых членов суда надо ведь еще к присяге приводить. То есть почти целый год надо протянуть. Как всегда, не горячась, но тщательно я продумал все возможные отходные маневры, но из тех немногих, которые можно предпринять, ни один меня не удовлетворил. Надо было изобрести что-то совсем неожиданное, за какую-нибудь мелочь зацепиться, но чтобы все запуталось и появилась возможность на эту педаль давить сколько потребуется. Никакой прямолинейности: все следует очень тонко рассчитать, так что мимоходом не отделаешься, пусть даже профессионалам и будут понятны мои мотивы, а не то я рискую потерять расположение и с ним, возможно, голоса людей вроде судьи Хедэвея, который в своих решениях нередко исходит из того, насколько изящно и логично построен иск, не обращая внимания на более прозаические вещи, скажем на политические взгляды заявителя.
И надо же, ничего не подворачивалось, проходил месяц за месяцем, уже весна на исходе, значит, скоро август, и нам крышка. Гаррисон потел, сопел, но пока помалкивал. Джейн втихомолку плакала, случалось, не приходила ко мне в номер, когда я ее ждал, но тоже молчала. Они крепились там, мужались, не знаю, может, просто оба прониклись собачьей верой в мое всемогущество, с них станется при такой-то неискушенности. Во всяком случае, никаких разговоров про суд у нас не заходило, только не раз я замечал за ужином или еще когда – уставятся на меня и смотрят так пристально, не оторвутся. Частенько это бывало, они даже не соображали, что я тоже все вижу.
Ну а я разглядывал свою стену в кабинете. Отличная это стена, прямо напротив стола, – на ней ни полочки, ни картинки, чтобы глаз не отвлекался, просто уставлюсь на нее и смотрю. Так вот ее и разглядывал весь февраль, потом март, апрель, май, первую неделю июня, и хоть бы какая мыслишка на ней проступила, хоть самая непритязательная.
Но вот 17 июня – жарко было, ужас какой-то, – миссис Лейк, которая вообще-то истинный образец благовоспитанности, входит ко мне вся вспотевшая, ставит на стол бумажный стаканчик, где кофе со льдом, я благодарю, она, поворачивая назад, роняет носовой платок, наклоняется за ним и – фу, как неблаговоспитанно! – испускает ветры, да со всей силы, стаканчик чуть не опрокинулся.
– Ой, извините! – еле шепчет, задыхаясь от стыда, вся вспыхнула и чуть не бегом прочь кинулась. А воздух влажный, душный, и аромат все держится, когда дамы уж и след простыл. Держится – и все тут, плывет, расползается, с дымом сигары моей вступил в мезальянс, во взмокшие ноздри так и шибает, непристойно пластается у меня по столу, по бумагам да папкам струится. Прямо спасения от него никакого, – впрочем, я уж к той поре давно примирился с природой собратьев своих биологических. И не подумал даже из кабинета выйти, вообще не шевельнулся. Сижу себе в парах этих, стену-прорицательницу разглядываю, и вот на сей раз не попусту.
– Черт подери, ну конечно же! – так и выкрикнул.
Слышу, за дверью звуки какие-то. Кинулся туда и ору:
– Миссис Лейк, а говно где?
– Ну не надо, мистер Эндрюс! – А сама рыдает, лицо ладонями закрыла. Гарри Бишоп и Джимми Эндрюс, вижу, тоже тут, посматривают скептически.
– Да нет же, – говорю и миссис Лейк по голове глажу, прическу совсем разворотил. – Я не про то, я про бутылки эти стариковские. Где бутылки-то все это время хранятся? Лиззи где их держит?
– Не знаю, – отвечает, глаза от слез помутились.
– Сколько их там? – бросился я опять к папкам, бумаги расшвыриваю, наконец вот она, опись имущества мэковского. – Ага, сто двадцать девять бутылей на хранении в винном погребе.
– Подумаешь, – мистер Бишоп говорит и к своим делам возвращается. А Джимми, тот задержался посмотреть что да как.
– Позвоните Стаей, – говорю миссис Лейк. – Хотя нет, не надо. Еду в Балтимор. – И на часы взглянул. – К автобусу подкинешь, Джим? Еще успею на четырехчасовой.
– Давай, – говорит Джим. Выжал все, что мог, у меня еще две минуты оставалось, когда на остановку приехали, ну и покатил в Балтимор.
Юстасия Калладер – это негритянка одна, давно у Мэков служит, мы с ней познакомились, пока тяжба шла. Младшего Гаррисона она, считай, собственноручно вынянчила и была всей душой на нашей стороне в этом споре за наследство, хоть не больно-то соображала, что там к чему. Вот она-то мне теперь и понадобилась. Сойдя через четыре часа в Балтиморе, я забежал в лавочку за конвертами с марками, а потом взял такси и двинул в Ракстон, остановив машину на повороте к Мэкам. Солнце только что зашло, я прокрался на задворки и буквально вжался в стену – мелодрама целая, – жду, когда Стаси из кухни на двор выйдет, – может, понадобится ей что-нибудь. На удачу рассчитываю, ну так ведь и весь мой план, мысль у меня сверкнувшая, – они ведь тоже с расчетом на удачу; в общем, ровно сорок пять минут просидел, и выходит негритянка моя, выходит, мусор ей вынести надо было, а баки рядом с гаражом, – добрая примета, думаю, раз она все-таки вышла. Пошел Я за ней следом, а когда из дома нас уже слышать не могли, так вот перед нею и возник, словно ниоткуда.



