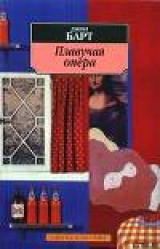
Текст книги "Плавучая опера"
Автор книги: Джон Барт
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц)
VII. МОИ НЕДОСТРОЕННЫЕ ЛОДКИ
Вспоминая Кембридж и округ Дорчестер, я, само собой, первым делом вспоминаю, как там ловят устриц, ныряют за крабами, рыбачат, охотятся на ондатру, стреляют уток, плавают и ходят под парусом. Мальчишке, чьи ранние годы до самой юности прошли в нашем округе, кем бы он ни стал в дальнейшем, почти невозможно всего этого не испытать, даже не сделаться мастером хотя бы в двух-трех из названных занятий.
Да, почти невозможно, но почти, а не совсем. Я, к примеру, не был комнатным ребенком, а вот сумел дожить до двадцати семи лет, ни разу не нырнув за крабом, не поймав ни устрицы, удочки не взяв в руки, не ухлопав ни ондатры, ни утки, в жизни не поставив на лодке парус и даже не войдя в море, хотя все товарищи моих детских игр предавались таким развлечениям самозабвенно. Мне же это было просто неинтересно. Больше скажу, я по сей день не пробовал устриц, терпеть не могу салат с крабами, ни за что не возьму на обед рыбу, ненавижу любую дичь, бегающую там или летающую, и при всем том, что полковник Генри Мортон, которому принадлежат крупнейшие в подлунном мире предприятия по переработке томатов, мой закадычный друг, помидоры, набившие ему казну, мне набивают оскомину. Не спешите, однако же, с выводом, дескать, я особенной какой-то позиции придерживаюсь, – спешу сообщить, что с тех пор, как в 1927 году я начал в здешних местах свою юридическую практику, под парусом мне, вовсе не умеющему управлять парусами, все-таки походить случалось, а уж что до плавания, к началу нашей истории я в этом деле стал чуть не чемпионом. Что, должен признать, отчасти свидетельствует-таки об определенной моей философской позиции или, вот именно, о некоторой практике, прошу простить каламбур; то есть как дойдет до практики, я становлюсь почти непредсказуемым, а оттого любые обобщения – мол, кто я да что я такое – скорей всего окажутся недостоверными. До обобщений-то все равно найдется много охотников – у меня, знаете, бывает чувство, что они и составляют основное занятие наших городских умников-лодырей, – ну и пусть, зато я всегда могу достаточно утешиться, зная, что обобщения их сущая чепуха, да еще удостоверясь, что все эти обобщения противоречат одно другому (и значит, прихожу я к выводу, друг друга отменяют).
Это я вас все подводил к тому, что сейчас начну рассказывать, как строю свои лодки, ведь, закончив утренний променад вдоль Длинной верфи, я свернул с Главной улицы в проулочек, ведущий к ручью. Там у одного моего приятеля и клиента есть гараж на две машины, который он предоставил мне в распоряжение, и каждое утро я провожу час в этом гараже, трудясь над лодкой, – вот уже несколько лет никак не закончу.
Ах, лодки мои, лодки, ну что мне вам о них сказать? За свою жизнь я построил две. Первую начал, когда мне было лет двенадцать. В ту пору я набрасывался на любой подвернувшийся под руку парусный журнальчик, заказывал почтой в специальном магазине чертежи и пояснения, даже во сне, вскрикивая от восторга, видел одни только рангоуты, бимсы да кили, и кончилось тем, что голова у меня распухла от этих мечтаний. Самому построить лодку – грезил я об этом, как подвижник о священном деянии. Построить ее, оснастить и как-нибудь рано поутру тихо убрать кильблоки, выплыть по сверкающей под солнцем реке на широкий простор Чесапика и дальше, в бескрайние океаны. Детство я всегда вспоминаю как чудесное время, а если все равно меня преследовала жажда бегства, дело тут в том, что – очень уж заманчивой была сама мысль сбежать на поиски приключений, хотя окружающее вовсе не было мне в тягость. Короче говоря, бежать я хотел ради, а не от, – думаю, именно так.
Да вот беда, отродясь не умел я довольствоваться тем, чего в общем-то мог бы достичь, если б очень постарался. У отца, пришедшего в восторг, когда я ему сказал, что хочу построить лодку, идей было сколько угодно, – лучше бы всего скиф, или нет, плоскодонку, а может, ял или, допустим, клинкер, хотя лучше бы покрупнее, вроде катера, а с другой стороны, давай просто лодку из досок встык, форму довести, обшивку сделать – это он мне поможет. А я только смеялся – еще чего! В Сингапур я на клинкере, что ли, поплыву? Веслами со штормящим океаном управлюсь, когда волны от северного ветра совсем черные? Для меня тут и вопроса не было – либо шлюп в пятьдесят футов длиной, ну как вспомогательные суда, либо такая же шхуна. Помнится, я себе доказывал, что шлюп как раз и подойдет, на нем паруса так стоят, что в одиночку управлять легче, не понадобится на помощь звать девчонок каких-нибудь, которые в моем воображении уже устроились на палубе, но, с другой стороны, попаду вот в тайфун, мачта долой, и тогда крышка, мой милый, парус-то сразу в клочья, так что, выходит, со шлюпом пан или пропал. С раздельными парусами, как на шхуне двухмачтовой, баркентине, бригантине – в порядке этой очередности они завладели моей фантазией, – у меня еще останется кое-какая надежда добраться до ближайшего порта, если уцелеет вторая мачта, а сам я сохраню хладнокровие. Понятно, свои выкладки в таком роде я при себе придерживал. Не отговорил папу доставить с лесопилки тимберс на набор – он думал, что я скиф строю, – и, очень мне это запомнилось, все сожалея, что папа вместе с миссис Аарон, тогдашней нашей домовладелицей, никак не помрут, чтобы уж никто ко мне со всякими дурацкими расспросами да советами не приставал, когда я возьмусь за свою шхуну.
А начал действительно со скифа, решив, что поставлю его на шхуне как спасательную лодку. Увы! Грезить наяву, изобретения замечательные придумывать – это меня хлебом не корми, а как до рубанка дойдет, ни в какую. Замеры у меня оказывались сплошь приблизительные, стыки не получались, а уж о симметрии и говорить нечего, – куда там, я кусок планки как следует отпилить не мог, гвоздь вогнать, не скривив. Все лето я со скифом этим провозился, исправляя ошибки и попутно нагромождая новые, заменял неправильно и не по размеру выпиленные планки обшивки, которые успел закрепить на неправильно размеченном корпусе, колотой дранкой заделывал дыры на швах, а роковые свои просчеты просто игнорировал, словно и не было их, – верилось, что трудом да упорством я как-то там выправлю фундаментальный изъян, который таился в самом решении (верней, искушении) собственноручно построить судно. Всем и каждому я давал понять, что ни в помощи, ни в наставлениях не нуждаюсь, ну а папа решил, что затраты на тимберс надо отнести к издержкам, которых требует мое образование, и оставил меня в покое.
К осени мой пыл угас. Да и чего, собственно, биться над какой-то лодочкой, мне ведь шхуна нужна. А ясно же, шхуны не построишь, когда вокруг толпа наблюдателей, которые поднимают тебя на смех. Вот если бы я мог работать в уединении, действительно в уединении, тогда бы уж точно довел эту шхуну до полной кондиции – то-то бы все изумились! Только пусть судят о моем искусстве, когда шхуна не на стапеле стоит, а уже на воду спущена, – знаете, если в чащобе оказаться, деревья порознь разглядывать вряд ли будешь, мол, стволы кривые да ветки узловатые, нет, поразишься, до чего могучий лес вымахал. Всю зиму полусколоченный корпус мок под дождями на заднем дворе, я к нему и не прикасался, к скелету этому разлагающемуся, от которого ребра отваливаются, а весной меня уже только одно интересовало – лошади. Лодка так у нас и простояла на дворе лет шесть, наверно, – молчаливым укором моей переменчивой натуре. А когда я уже в армии служил, налетел как-то ураган, сорвал ее с рамы, и планки совсем повыскакивали. Кажется, папа потом топил ими печку.
Вспомнил эту печальную историю, потому что она многое говорит о том, каким я был в детстве. Мечты меня посещали непременно грандиозные, такими же оказывались мои представления, как все надо в жизни устроить, и я прилежно трудился, воплощая эти представления, причем всегда втайне ото всех. Но не. дано мне было толково выполнять мелкие операции, без которых не получается величественного целого, – совершенно не умел, что поделаешь, – а потому конечный результат моих стараний, может быть, и производил впечатление на непосвященных, однако у знающих людей вызывал одни улыбки: уж больно посредственно. И то сказать, много ли в моей жизни свершений, которые несправедливо было бы оценить вот именно так? Да, старухи приходили в восторг, слушая, как я бренчу на пианино, но ведь гаммы я так и не осилил; да, я выигрывал школьные турниры по теннису, только в школе-то нашей никто теннисом не увлекался, и удар у меня был поставлен совсем скверно; да, в классе я был первым учеником, а мыслить так, по сути, и не выучился. Продолжать ли? – какой печальный перечень!
Известное дело, от этих недостатков, которые, конечно, происходят из непомерного стремления блистать в глазах окружающих, избавляться очень сложно, и у меня они бы так и остались на всю жизнь, но помогла армия.
Вообще-то, разумеется, не армия как таковая – о нет, что вы. Армия, как ни взгляни, – та еще радость. В 1917 году[8][8]
США вступили в Первую мировую войну 6 апреля 1917 г.
[Закрыть], поддавшись какому-то порыву, я пошел добровольцем, но еще армейский автобус не выехал из Кембриджа, как мне стало понятно, что предстоит пережить много крайне неприятных минут. Я их и пережил, все, что полагалось пережить солдату в кошмарной этой армии, – ну разве вот под газовую атаку не попал да в живых остался. Какой там из меня патриот! Мне было ровным счетом безразлично, за что мы воюем, если воевали мы не просто так, а за что-то (из равнодушия до сих пор не выяснил).
Не хочу на этом задерживаться, я описываю ведь не фронтовой свой опыт, хотя его тоже мог бы описать и вышла бы немаленькая книжка, да какая – вы сроду ничего подобного не читали. За вычетом одного эпизода – сейчас расскажу, нечего откладывать, – солдатские годы почти никакого влияния на мою последующую жизнь не оказали. А тот эпизод – тогда шло сражение в Аргоннском лесу – я считаю важным по крайней мере в двух отношениях: благодаря ему было отчасти покончено с вышеописанным моим свойством, а кроме того, он стал одним из двух незабываемых случаев, когда я так сильно чувствовал свое животное начало.
Сражение разгорелось уже вовсю, когда моя часть была послана заменить стрелковую роту, от которой почти ничего не оставалось. Для меня это был первый и единственный бой. Понятно, солдат из меня никудышный, – с интеллигентами всегда так, правда ведь? – но, трясясь в грузовике, который вез нас к линии фронта, страха я испытывал не больше, чем остальные, я ведь, вообще говоря, не трус, когда дело идет о физической опасности. Прибыли мы под конец дня, немцы лупили по нашим позициям с дикой яростью. Высыпали из грузовиков, глядим – чувство такое, думаю, как у человека, прыгнувшего с парашютом: сначала вроде бы все нормально, потом шарах! – и черт знает что творится. Мы прямо оцепенели. Никто и не вспомнил, чему нас учили, вообще ничего не вспомнил. Жуть какая-то! Кошмар! Клянусь, от пушек этих просто воздух раскалывался. А устоять на ногах немыслимо, хоть офицеры орут, как с ума посходили. Мы все до одного тут же повалились, и правильно сделали. Думаю, вам всем такое, а то и похуже, тоже пережить случалось, раз в наш век живете.
Что да как там с нами происходило, ума не приложу. Потом думал: ладно, если у союзников солдаты большей частью вроде меня, как же мы войну-то выиграли? Правительство ухлопало на мою подготовку – пусть ускоренную, все равно – прорву денег, а я как дитя беспомощное, да не я один, все. Не трусость тут была, не страх (это потом), а просто от грохота и взрывов пальцем шевельнуть не в силах.
Темнеть начало, а я, помню, в какую-то яму забился. Кругом пни от поваленных деревьев торчат, здоровые такие – метра полтора каждый. Что я в той воронке делал, не имею понятия. Солнце почти зашло, воздух дымный – не продохнешь. А подо мной, в овраге, суетятся какие-то люди в мундирах, делают что-то. Ну, думаю, артиллерия передохнуть решила, а может, я совсем оглох.
– Слушай-ка, – говорю я себе, не очень-то соображая, – это ведь немецкие солдаты. Противник, значит.
И собственным глазам не верю. Господи помилуй! Немцы! Я ведь по ним стрелять должен, разве нет? Оглядеться, не поблизости ли остальная армия США, мне как-то не пришло в голову, просто выпалил несколько раз по этим, которые в овраге возились. Никто не свалился замертво, похоже, вообще не обратили внимания, что это по ним бьют. Они же в контратаку должны были идти или в укрытие бежать, не знаю. А ничего подобного. Очень хорошо помню, как стрелял и затвором щелкал, стрелял и щелкал – несколько раз. Черт возьми, плевое это дело – воевать, вот только каким образом противника приканчивают? Да еще куда все подевались-то, из нашей части?
Дальнейшее происходило уже в темноте (и вообще тот бой словно мне снился). Вдруг на время все заволоклось мраком. Теперь в овраге очутился уже я сам, забился в какую-то воронку, затопленную грязью, и скорчился на четвереньках. Винтовка была все еще при мне, но патроны кончились, была, кажется, еще обойма, только я не знал, как перезарядить. Сижу, скрючившись, голова запрокинута, лужа эта грязная прямо перед глазами. А кругом опять стихло, провизжит снаряд, вспыхнет высоко где-то, а больше ничего. Вот тут-то и овладел мной настоящий страх, стремительно овладел, хотя не скажу, чтобы нежданно, – знаете, чисто физическое такое ощущение ужаса. Так и накатывает оно дрожью, и всем телом трястись начинаешь – от коленок по спине вверх ползет, плечи уже трясутся, челюсти прыгают, а потом снова вниз, и раз за разом, вверх – вниз, вверх – вниз, ну точно волны по телу ходят. Не трусость это, не подумайте, рассудком-то я безучастен оставался – то ли о другом думал, то ли просто отупел. Если бы трусость подступила, у меня бы выбор был, как действовать, но страх выбора не оставляет. Пошла опять волна вниз, к бедрам, и тут круговая мышца, сфинктер этот, не выдерживает, а волна уже вверх бежит, у желудка она, к груди подступила, к горлу, – а я рыгаю, дышу как паровоз, и челюсти отвисли, слюна течет, глаза слезятся. Вверх – вниз, и снова, и снова, не знаю, сколько это длилось, может, минуту – не больше. Только никогда в жизни не испытывал я настолько сильного ощущения и до того беспримесного. Пока не прошло оно, я даже какое-то время мог на самого себя словно со стороны смотреть – вот, пожалуйста, загнанное, все в пене животное, куда-то в яму забилось. Только не подсказывайте: известно, мол, человек – он ведь и правда животное; знаю, но об этом, уж будьте уверены, толковать-то легко, а совсем другое дело убедиться, да еще так наглядно, что вовек не забудешь, – ты на самом деле животное и теперь уж остережешься, хоть бы и мимоходом, о своей возвышенной природе разглагольствовать, – дескать, я не просто животное, я человек; полноте, уж что меня касается, я на своих ближних отныне вот так вот и смотрю: все они – фауна, хоть встречаются экземпляры опасные и не очень, умные и не слишком, здоровые и не особенно, ловкие и не больно-то; и пусть ближние чего-то достигли, я все эти их достижения воспринимаю просто как проделки выученных зверей, а может, и скверно натасканных. Про себя, во всяком случае, я с той ночи знаю это совершенно точно, и ни к кому – хоть бы это отец был, или Джейн, или я сам – по-другому относиться не в состоянии.
Да, а эпизод этот в ту самую минуту продолжался вот как. Противники вдруг опять появились по обе стороны – уж не знаю, где они раньше прятались, – и я наконец-то уразумел по-настоящему, что бой идет вовсю. Через овраг и с того края, и с этого шпарили из пулеметов; ползли по одному, а то и по двое-трое солдаты, перебежками продвигались, и кое-кто ко мне в воронку заглядывал; то и дело рвались снаряды, и крик стоял, вопль какой-то непрерывный, стоны, ругань. Бой, надо думать, бушевал уже не первый час. И я даже рвался принять в нем участие, хотя совсем потерял голову, – крикни мне кто-нибудь, прикажи, я бы повиновался, не сомневайтесь. Но я был совершенно один, а тело мое, пока я был один, цепенело в неподвижности. Волны страха прошли, но осталось полное изнеможение, заставлявшее сидеть – не шевельнуться.
Опять вступила в дело артиллерия, причем били как раз по оврагу, где шла рукопашная. Видно, с обеих сторон решили расчистить это месиво, накрыв крупными снарядами, а потом начать заново. Взрывы грохотали метрах в ста от моей воронки; вернулся страх. Я секунды не сомневался, что буду убит, и страшно было лишь одного – что придется умирать медленно, мучительно, а никто не придет на помощь. Ничего другого я и не хотел, только бы кто-то оказался рядом, когда меня смертельно ранит.
Считаете, я расчувствовался? Не без того, конечно, мне и самому впоследствии так казалось. Но такое уж было у меня чувство, и настолько сильное, что умалчивать о нем не могу – врать не хочется. То есть уж до того сильное, что, увидев, как какой-то солдат прыгает ко мне в укрытие, я так на него и повалился, обнял, сжал изо всех сил, поддавшись первому порыву. Он, понятно, решил, что я хочу его прикончить, и с криком вырвался. А я опять на него наваливаюсь, винтовку сдернуть не даю, только уж такое мое счастье – пока мы с ним возились, его штык вошел мне в левую лодыжку, неглубоко правда. Я ему ору прямо в ухо – мол, не бойся, я же не враг, я тебя люблю, – а при всем том сзади захожу и, поскольку был крупнее и явно сильнее, руки ему, ноги скручиваю. Он еще трепыхается и что-то по-немецки бормочет, – стало быть, противник. Ну как ему объясню? Даже если бы по-ихнему говорить умел и втолковал, что да как, он бы все равно подумал: чокнутый какой-то или от страха ополоумел, тут же бы меня и ухлопал, ясное дело. Ему же столько всего надо было за миг какой-то уразуметь.
Ну, я, конечно, мог бы его убить, и он, не сомневаюсь, понимал, к чему идет дело, он же ведь совсем был беспомощен. А сделал я вот что: одной рукой друга этого переворачиваю на живот, так что он лицом в грязь уткнулся, а другой подтягиваю к себе ружье и штык свой, то есть штык прямо к шее ему приставляю, даже кожу оцарапал – вижу, кровь у него выступила. Дружок, вижу, совсем перетрусил, чуть не в обмороке и лопочет что-то по-немецки, сдаюсь, мол, или там пощадить молит, а может, и то и другое. Чтобы уж никаких сомнений не оставалось, я его подержал так вот по грязи распластанным еще несколько минут, кажется, даже чуть поддавил штыком, ну тут он совсем чувств лишился, телом своим не владеет – в точности как я чуть раньше тоже собой не владел, – только ревет во все горло. Видно, ужас его охватил, я же помню, как со мной было, – в общем, животное перепуганное, и больше ничего.
Но армия-то американская куда запропастилась, хотел бы я знать? Поверь, друг-читатель, так я по сей день и не ведаю, где эти армии – наша и немецкая тоже – околачивались, пока тот бой шел.
Прошу тебя, друг, читай дальше без предвзятости, не всякую же минуту тебе напоминать, чтобы выводов избегал вроде напрашивающихся и очевидных, если хочешь верно обо мне судить. Я вот как действовал: винтовку свою в сторону отложил, штык воткнул в грязь рядом с животным этим, которое из-за меня прямо в параличе валялось, и обнимаю немца, целую, будто у нас с ним любовь, какой свет еще не видел. Щеки его перемазанные, щетинистые все исцеловал, и глаза, и шею трясущуюся. Вспомнишь теперь – не верится, хорош я был, да и он тоже! Он, видно, осмелел, страх из него вышел, как прежде из меня, и час, не меньше, мы вот так вот с ним ласкались.
Вы небось подумали, ясное дело, гомики оказались, – а кто бы не подумал, я же понимаю. Только глупость это, потому как сроду я себя никаким гомиком не чувствовал, и тот немец-сержант тоже нормальный был.
Ну, повисели мы друг на друге, дрожь и унялась, руки разжались. Между нами полное было понимание, по-моему, просто исключительное понимание. Я вроде бы себя человеком наконец почувствовал, первый раз, как с грузовика спрыгнул. Все ясно сознаю, вижу все, и слышу, и воспринимаю. А снаряды над головой все визжат, визжат, только взрывались-то они не так чтобы уж рядом, а бой рукопашный, похоже, где-то уже в другом месте идет, от нас далеко.
Сидим мы с немцем по краям воронки, метров этак пять между нами, и друг другу улыбаемся, -• ведь понимание-то полное. Раз-другой пытаемся жестами объясниться, только зачем, и так все ясно. У меня табачок сухой был, а он вообще без сигарет. Зато с пайком, а мой куда-то задевался. Патронов ни у меня, ни у него нет. А йод и бинты у обоих в сумке лежат. Стало быть, сигареты и паек мы поделили, я ему царапину на шее перевязал, он мне ранку на ноге. Тут он хлопает себя по заднице и нос зажимает. И я себя по штанам хлопаю – вонища, мол. И оба мы хохочем, пока слезы из глаз не покатились, и опять обнимаемся, хотя на секундочку только, – страх прошел, и, ясное дело, стыдно стало что мне, что ему. Оглядели мы друг друга по-приятельски этак. И кажется, вздремнули.
В жизни ни к кому я не испытывал такой близости, ни с кем из друзей или там из женщин такого абсолютного понимания у меня не было, как с немцем этим. Он был малорослый и некрасивый, старше меня намного – вон уж седина кое-где пробивается; никаких сомнений – вояка, причем профессионал. Я его поближе рассмотрел, как светать стало. Спит он, а я сторожу, глаз не смыкаю, – ну в точности как львица детеныша своего сторожит, подступись попробуй. Да сунься к нам в воронку какой американец, хоть бы собственный мой папаша, я бы, глазом не моргнув, тут же его прикончил, он бы на сержанта немецкого и замахнуться не успел. Много ли значат семья или там родные, если между нами двумя до того тесная связь установилась? – вот о чем мне думалось. И что с того, что мы с ним скоро разойдемся, даже имени друг друга не узнав, он опять в американцев палить примется, а я, значит, в немцев. Между нами-то двумя уже установлено частное перемирие. И даже если, думалось мне, даже если – на войне чего не бывает – потом мы вдруг снова сойдемся лицом к лицу и, даже друг другу не улыбнувшись, не признав, в штыки кинемся, что с того? Все равно несколько часов мы с ним были словно один человек и понимали друг друга, понимали так, как лучшие приятели один другого понять не могут, как влюбленным понять не дано, – только мудрому по силам себя понимать вот настолько.
Но расскажу до конца. Вы уже, думаю, догадались, что все эти риторические вопросы потихоньку сомнение во мне разбередили. Нет, про себя-то я все точно знал, что я к немцу этому испытываю. Только ведь чувства эти сам же я распалял в себе. А он всего лишь откликнулся, не спорю, душой откликнулся, но и то вспомнить, что он мордой в грязи при этом валялся и штык мой на шее чувствовал. Правда, когда мы без лишних слов установили между собой мир, он бы много раз мог на меня напасть, а вот не напал; но, с другой стороны, он, если помните, был с виду настоящий солдат-профессионал, много чего испытавший, а мне, обратите внимание, всего восемнадцать исполнилось. С чего же я так уверился, что мы оба немыслимую симпатию друг к другу испытываем, ведь, очень может быть, я все это просто навоображал, а он про себя посмеивается, решив, мол, гомик какой-то ему попался или чокнутый, вот обожди, покемарю малость, перекурю, с силами соберусь да и прихлопну тебя одним махом. Ведь это ж до чего воякой ко всему привыкшим быть надо, чтобы так вот храпеть да причмокивать в какой-то грязной воронке, когда кругом вовсю бой. Смотри-ка, вроде даже улыбнулся. Надо мной, что ли, посмеивается?
Становилось почти совсем светло, и ощущение кошмара потихоньку начало отступать. Бой, несомненно, идет где-то вдали от нашей позиции. Интересно, это я оказался на немецкой территории или, наоборот, он на нашей? Противный вообще-то тип. Простецкая рожа, глупая к тому же. Наверное, жутко тупой. Да что тут размусоливать, ясно же, ему и в голову не могли прийти все эти мои фантазии, расскажи – он и не поймет, про что я толкую. Он же мне ногу покалечил, нет, что ли? Правда, я первый на него кинулся…
Все больше нервничая, я высунулся из воронки. Ни души не видно, только разбросаны там-сям по земле тела, одно больше другого покалеченные, по-всякому скрючившиеся, – вон и на проволоке колючей висят, и в ямах разных валяются. В воздухе дым смешивался с пылью, поднимались испарения, было довольно-таки прохладно. Нога ныла. Я сполз обратно и недоверчиво разглядывал немца, дожидаясь знака, что он проснулся. Даже взял в руки ружье (а его винтовку зашвырнул подальше) – так оно спокойнее. Чувствовал я себя с каждой минутой все более беспокойно и опасался, уж не возвращается ли страх.
В конце концов я решил потихоньку вылезти и пойти к своим, если их отыщу, а немец пусть спит. Замечательно придумано! Я выпрямился во весь рост, не выпустив винтовки и глаз не спуская с немца. Он разлепил веки, и, хотя даже не шевельнул головой, выражение ужасной тревоги мелькнуло на его лице. Тут же я на него бросился и ударил штыком в грудь. От удара этого он отупел, а я, налегая всем телом, так и пришпилил его к стенке, только штык уперся в кость грудины и не шел дальше.
О Господи! – проносилось у меня в голове. – Прикончить не смогу, что ли? Он ухватился обеими руками за дуло моей винтовки, пытаясь ее от себя оттолкнуть, но я ведь стоял на ногах, так что мне давить было сподручнее. Какую-то секунду мы молча боролись. Я не мог оторвать взгляд от штыка, а он, боюсь, от моего лица. И тут острие соскользнуло с кости, это мы оба постарались, вот вам последнее наше общение! – издавая жуткий такой, хотя едва слышный звук, когда рвется ткань, вошло ему в шею, насквозь, и он начал умирать. Я бросил винтовку – никакая сила в мире не заставила бы меня ее выдернуть! – и, споткнувшись о его оседавшее тело, ринулся прочь. Мне повезло, наткнулся я на своих, на американцев, после этого сражение для меня кончилось.
Вот вам история моих боевых подвигов. Я рассказал все – а зачем, собственно? Да, не спорю, я вылечился. Сразу от нескольких вещей вылечился. Теперь я почти никогда не грежу наяву, даже мимолетно. И ничего хорошего не жду ни от себя, ни от прочих животных той же породы. Почти не бывает, чтобы я пробовал каким-нибудь словом или сентенцией выразить, что я о человеке думаю, я вообще стараюсь никому оценок не давать. И для себя не добиваюсь от знакомых ни похвал, ни поощрений. Стремлюсь все делать не спеша, последовательно, с тщанием. Вы не подумайте, что тот случай, такой травмирующий, я считаю единственной причиной, из-за которой все настолько у меня изменилось, честно говоря, сам иногда не вижу, как эти изменения с ним связаны. Но, задумавшись о них, всякий раз тут же вспоминаю воронку (особенно этот чуть слышный звук от рвущейся ткани, если уж все говорить до конца), и в этой соотнесенности я нахожу что-то существенное, хотя готов допустить, что все это, как говорит логика, – пример post hoc, ergo proper hoc[9][9]
После этого – значит, по причине этого (лат.).
[Закрыть]. Впрочем, мне безразлично.
Словом, когда в 1919 году я демобилизовался и поступил в университет Джонс Хопкинс, пришлось переучиваться, чтобы по-новому, правильно выучиться многим вещам, которым прежде был полуобучен, среди них и умению ясно думать. Оказалось, среди прочего, что, если правильно держать ракетку, для тенниса я почти не гожусь. Зато в гольфе достиг немалого, и тоже оттого, что начал все делать правильно. Играть на пианино я перестал. А снова почувствовав некоторый интерес к лодкам – в 1935 году это было, – стал строить правильно с самого начала. Нет, не то чтобы я, как большинство, склонен был считать, будто умение все делать как надо, а не как не надо, обладает каким-то особым этическим смыслом. Я не вижу этической обязательности в правиле, гласящем, что все стоящее надо делать как следует. Просто с 1918 года я не способен, по натуре своей не способен что бы то ни было делать не так, как надо, хотя прежде был почти не способен что угодно делать как полагается.
Лодка моя длиной тридцать пять футов, добротная шлюпка: корма закруглена вроде торпеды, а нос узкий и острый, – у нас тут много таких, они хороши в работе и в просторечии называются клещами. Шпангоут, киль, настилка – все из крепкого белого дуба, а боковины, палубы, днище – из крепкого кедра. Маленькая такая посудина, которая в плаванье надежна, и строил я ее без спешки, основательно все просчитывая. К июню 1937-го уже два года с нею возился, по часу ежедневно. Помню, нередко бывало, приду в гараж пораньше и сижу, на нее любуюсь да прикидываю, как мне всего лучше следующую операцию произвести, или просто стены оглядываю, и ни единой мысли в голове.
А в то утро положил несколько планок настилки, боковины-то и днище у меня уже закончены были, и корпус стоял правильно. Как обычно, не переоделся, рукава и то не закатал – так вот в пиджаке, при галстуке и шляпе стал класть настилку, кедровые планки, которые плотно подгонять надо – 3/4 дюйма на 3, их на бимсах крепят, внизу, медными шурупами и гвоздями с гальваническим покрытием: зенкуют и, когда гвоздь сидит, еще шпатлевать надо. Планку я нарезал накануне, так что за час почти всю палубу выложить успел, причем даже не вспотев. Отряхнул брюки (вообще-то так, для порядка, дерево я чистым держу), раскурил вторую свою сигару, несколько минут посидел, свою работу оценивая, а потом, заперев двери гаража, пошел в контору. Может, думал я, вовсе не печалясь, кто-нибудь решит доделать оставшееся, ну и прекрасно, отличная у него лодка будет.



