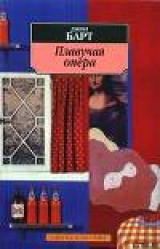
Текст книги "Плавучая опера"
Автор книги: Джон Барт
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
– Ой, мистер Эндрюс, напугалась я, жуть! – И смеется от души. – Вы чего к нам приехали-то? По Лиззи стосковались или как?
– Слушай, Стаси, – шепчу я торопливо. – Вопрос у меня к тебе есть, а за ответ пять долларов полагается. – Даю ей пятерку, она так и трясется от смеха. – Ты мне вот что скажи, куда удобрение старикашкино Лиззи подевала? В погребе оно, как и было?
– Удобрение? – фыркает. – Не слыхала про удобрение это.
– Да говно, Стаси, говно, – поясняю. – Ну, бутылки с говном, они у Лиззи где?
– Не пойму, вам про удобрение знать надо или при говно?
– Ну да, про бутылки эти, сто двадцать девять бутылок должно быть, – говорю. – Их в винном погребе складывали. Там они, нет?
Пришлось подождать, пока Стаси нахохочется, а потом говорит, не знаю, мол, надо в дом сходить, – сейчас схожу, подождите, я ее в щеку клюнул, забрался в кусты форзиции рядом с баками, а Стаси пошла порасспросить горничных. Я был готов, если нужно, не поскупиться, чтобы кто-нибудь бутыли эти перебил, только не хотелось мне такие вот шаги предпринимать, шантаж получается. А с другой стороны, не похоже было, чтобы миссис Мэк распорядилась с бутылями покончить, хотя это как раз и пришло мне в голову, когда миссис Лейк ту маленькую оплошность допустила.
Меня ждал приятный сюрприз, когда часа через три – уж за полночь было – Стаси приковыляла с известием, что бутылки, точно, в погребе винном, но на прошлой неделе миссис Мэк сказала садовнику, тщедушному такому, высохшему старикашке по имени Р. Дж. Кольер, что, кажется, пробки в бутылях слабоваты, попахивает, придется, видно, с коллекцией этой расстаться. Сама Стаси тоже может подтвердить – погода нынче жаркая, вонь от бутылок этих каждый день сильнее, даже на первом этаже вонять начало. Два дня назад Р. Дж. Кольер по собственной инициативе перетащил все хозяйство в дальний угол погреба и накрыл мокрым брезентом, думал приглушить букет, только не получилось, прахом эксперимент его пошел. Миссис Мэк обозлилась аж жуть. А Р. Дж. Кольер тут и говорит: мол, хорошо бы это вот особенное, что от покойного хозяина осталось, в работу пустить, ему по саду пригодится, циннии подкормить очень даже этим сгодится. Все другие слуги решили, что предложение садовника вовсе не бестактное, наоборот, трогательное, и я тоже думаю, правильно сказал, – и практично получается, и красиво прямо как в стихах. Только Лиззи ни за что не соглашается.
– Слушай, Стаси, – говорю, – никому ни слова про бутылки эти и что я к тебе заходил. А от меня еще десять долларов будет, умница ты моя.
– Ой, мистер Эндрюс!
– Вот, держи. Ты посматривай за бутылками-то. А если Лиззи или Р. Дж. Кольер чего с ними делать надумают, не упусти. Конверты вот для тебя приготовил. Видишь, с марками, на всех наклеены. И адрес написан, мой адрес, так что ты их получше спрячь, а внутри по листочку вложено. Значит, если хоть одну бутылку с места стронут, черкни мне два слова, заклей и в ящик почтовый брось. Все поняла?
Стаси все посмеивалась, головой мотала да отнекивалась, но я знал, что сделает, как сказано.
– Только очень тебя прошу, никому ни слова, – еще раз предупредил ее я. – Если все у нас выйдет как надо, Гаррисон машину тебе купит, новенькую. Желтый вездеход, а?
Тут Стаси со смеха чуть не рухнула. Но конверты запихнула за пазуху между гигантскими своими грудями и двинулась назад, вертя головой, – дескать, явно у меня шарики за ролики заходят. Я выбрался на шоссе, остановил попутку; двумя милями дальше был телефон. На следующий день я уже сидел в кабинете, раскуривая сигару, и разглядывал стену. Гаррисону я решил не говорить про свою экспедицию ни слова, – может, ничего еще и не выйдет.
Ну вот, с того дня ничем я и не занимался, никакой работы, если не считать редких геймов с Чарли Парксом, стряпчим, чей офис рядом с нашим, – мы представляли разные стороны в том автомобильном деле, я, кажется, уже упоминал, в чем там была соль; почти неделя прошла в праздности. Я ждал весточки от Стаси и все пытался придумать что-нибудь взамен, если мой план сорвется. Решил, что буду ждать до 1 июля. Если к этому дню с бутылями ничего не произойдет, пойду на риск подкупить Р. Дж. Кольера, чтобы он разбил несколько штук.
И пожалуйста, нынче утром приходит послание от Стаси, адрес моей рукой и написан. А в послании, может быть, одна чепуха, но возможно – ключ к трем миллионам долларов, так что лишь неукоснительное соблюдение дисциплины заставило меня отложить конверт, пока я не прочел все остальные письма, изучил афишку, а также позвонил Марвину Роузу. Но от тебя, читатель, подобной выдержки я не требую. Вот она, записочка эта:
"Мистер Эндрюс, миссис Мэк бутылки в теплицу унесла. Р. Дж. Колер вылил их под цыныи. Юстасия М. Калладер. Р. Дж. Колер вылил 72 бутылки под цыныи. Юстасия М. Калладер".
Я подколол записку в досье с другими документами о деле по мэковскому наследству, досье вложил в папку, а ее запер в сейф. Часа два я молча разглядывал стену, а потом вышел и отправился на встречу с Марвином.
Отлично поработал я в то утро, друг-читатель: прочел несколько писем и одно подколол в досье. Уж и не спорь, превосходно я поработал, учитывая, что было это мое последнее утро в нашем мире.
В результате этих трудов мой друг Гаррисон обогатился тремя миллионами.
XI. ПОУЧИТЕЛЬНОЕ, ХОТЯ НЕСАМООЧЕВИДНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Термометр на здании, где разместилась редакция нашей «Бэнкер», показывал восемьдесят девять градусов, – я это для себя заметил, проходя мимо. На улицах почти никого. У большого похоронного бюро стоял припаркованный черный катафалк, – дверцы закрыты, какие-то родственники и служащие в черных костюмах столпились во дворе. Я подошел поближе; крупный пес вроде дога, каких разводят по берегам Чесапика, выскочил из кустов и помчался по тротуару прямиком к подъезду бюро – ах, это дама, а вот и кавалер, сеттер с примесью, молодой, видно, скачет во всю прыть, и ноздри ходуном ходят. У самих ступенек дама притормозила, отряхиваясь, а сеттер тут же на нее вскочил, свесив язык чуть не до земли. Как раз в этот момент дверь открылась и стали выносить гроб. Собаки мешали, очутившись на самой дороге. Кое-кто из несших усопшего сконфуженно хихикнул, а еще один служащий огрел сеттера по боку концом башмака – на похоронах-то! Сучка сползла со ступенек и устроилась посреди тротуара, рядом с катафалком, – сеттер все не слезал. И, смущая собравшихся, парочка продолжила свои любовные утехи под жарким солнцем; дверцы катафалка открылись, гроб осторожно поставили внутрь, – оставалось просто делать вид, что никаких пиров страсти не происходит.
Улыбаясь, я пошел дальше. Угораздит же иной раз природу выдумать такую вот тяжеленную символику. Просто как дубиной по голове огорошит, разыграв сценку вроде этой – жизнь продолжается вопреки смерти и прочее, уж до того понятно, что только глаза от стыда отведешь. И так все время – то солнце выглянет из-за туч ну именно в ту секунду, когда нашим удалось перехватить мяч у соперников то сидишь себе, предавшись мрачным чувствам, тут же слышатся раскаты грома, или, наоборот, pешаешь взять себя в руки, и, разумеется, утро к этому случаю выдается ослепительное; а ураганы, которые непременно до фундамента разворотят жилище кого-нибудь, у кого репутация скверная, зато дом добродетельного соседа стоит себе, или, случается, наоборот; а автобан с обязательным знаком "Скорость не превышать", а улицы с односторонним движением, ведущие к кладбищу! Кто не очерствел, кто привычен к вкусам более или менее изысканным, при виде подобного поспешит прочь, покачивая головой да лишний раз себе напоминая: хороший вкус – плод трудов человеческих.
Но все равно не так-то легко сохранить невозмутимость, когда на каждом шагу все тебе напоминает, до чего жизнь изобретательна на этакие штуки. Вот добрался я до перекрестка Главной улицы и Поплар-стрит, остановился поболтать минутку с капитаном Осборном и двумя его приятелями, расположившимися на скамеечке для фланеров у лавки Джорджа Мелвила, и вижу – посреди улицы самая настоящая могила вырыта и табличка стоит: "Осторожно Люди!"; в витрине часы выставлены, только старые они, времени давно уж не показывают; пpямо над капитанской головой широченная афиша, новые фильмы с этой недели – "Жизнь начинается в сорок лет" и "Отважные капитаны"; еще знак -"Машины не парковать", а голубь прямо на этом знаке и припарковался, сидит, крыльями потряхивает, – целую страницу мог бы написать, дальше перечисляя. Право, за руку себя держать приходится, чтобы не поддаться обаянию всей этой примитивной символики, а если бы я на свои сэндвичи с маслом зарабатывал сочинением рассказов, так уж дал бы себе волю, не сомневаюсь.! Помнится, читал я одну историю, где под конец герой валяется мертвый – не то кокнули его, не то руки на себя наложил, – в общем, валяется на полу рядом с кассовым, аппаратом, а к аппарату дощечка такая приделана с надписью "Ошибки при расчете исключаются". И показывает этот аппарат – ничего удивительного для привычных к слоноподобной иронии жизни – круглые нули, вот я как раз думаю, что автор мог бы и поостроумнее сделать, допустим, пусть бы на аппарате значилось 4 доллара 37 центов или еще какая бессмысленная цифра. А то уж очень все само собой разумеется, клише выходит и ничего больше.
Так что, друг-читатель, случись тебе что-нибудь про жизнь написать, ты уж постарайся, удержись от этих соблазнительных аллегорий, которые со всех сторон тебя обступают, не то можно поручиться, что непременно такое ляпнешь, чего в уме не держал, а люди, которым так хотел приятное сделать, на тебя же и обозлятся. Если сумеешь, ты моего примера держись и тех, кто гроб нес: улыбнись, само собой, – на собак, когда спариваются, без смеха смотреть невозможно, – и ступай себе, ни слова не проронив, будто ничего и не заметил.
XII. УСТРИЧНЫЙ ХОР
О общественном отношении, равно и в экономическом, капитан Осборн с приятелями, облюбовавшие скамейку для фланеров, были чистой воды потребителями. Они ели и пили, носили пиджаки, курили сигары, при этом не производя ничего. На старой своей скамье они сидели рядком, вроде устриц под панцирями, заглатывая вое, на что падал глаз, но ни в чем не участвуя. Кембриджская жизнь проходила мимо них и сквозь, словно морская вода сквозь жабры, а они из нее вылавливали нужную им пищу, переваривая и происшествия, и людей, – то фыркнут, то откомментируют, и все это не сходя с места. Хор старых устриц, да и только, – устроились на излюбленной отмели и разглядывают проплывающую рыбку. Изредка одарят кого словечком-другим, а выговор скверный, старческий – все больше в нос, и пискляво так получается.
Ну, прогрохотал мимо голубого цвета вездеход: "Гляди-ка, Моуб Хенли раскатывает, – отметит один, – молодец парень".
– Только горячий он, – добавит другой. – Да, ловок, уж это точно. Палец в рот не клади.
– И не думай! – согласится третий.
– Славный парень у старика Моуба, – гнет свое первый и заходится кашлем, а может, это у него смех только, очень он собою доволен.
– Только горячий, – не уступает второй. – Весь в старика своего.
– А как же! – поясняет третий. – Яблоко-то от яблони недалеко падает.
А первый все не отдышится, пыхтит как паровоз, глаза все в слезах, физиономия – красная, потрескавшаяся – расплылась, и слюна на пожелтевших зубах вскипает, по тонким губам струйкой течет.
– Ха! Ух ты! – не уймется никак. – Нет, гляди-ка, а! Оп-па, ну орел, да погляди, погляди! Здорово! Вот это да! Давай, Моуб!
У меня выпала свободная минутка, и я присел к ним на скамеечку, устроившись в тени, – старикам больше солнышко нравится, и они сгрудились на другом краю, – послушаю бесхитростные их напевы. Катафалк отъехал от бюро, за ним следовали две машины с зажженными фонарями на крышах. У перекрестка процессия притормозила, потом тронулась на красный свет дальше – к Зеленой лужайке, так наше кладбище, которое у загородного клуба, называется.
– Кого хоронят? – спрашиваю.
– Вроде Клэренса Уэмплера жена померла, а, Осборн? – осведомился сидевший ближе всех от меня и проводил караван взглядом.
– Она, точно. К вечеру в понедельник долго жить приказала.
– Это которые Уэмплеры, с Генри-стрит, один, а раньше на Голден-хилле жили, они, что ли? – спрашивает третий.
– Нет, там Льюиса Уэмплера супруга жила, – уточнил капитан Осборн. – Дженни Фэруэлл, вот как ее имя, старенькая такая была.
– Старенькая? – переспросил первый. – Значит, старенькая Дженни?
– Точно, – говорит капитан Осборн и ногу вытягивает, приятно ему. – С норовом была женщина.
– Старенькая Дженни! – первый просто в восторге.
– Да, а то Клэренса Уэмплера жена, – растолковывает капитан Осборн. – На Росс-стрит жила, у самой реки.
– А, знаю, – говорит первый. – Она вроде из Кэплонов родом?
– Сейчас, дай-ка вспомнить. – И капитан Осборн задумывается. – Ну да, из Кэплонов, старшая ихняя дочка, значит, Луиза Мэй ее звали.
– Луиза Мэй Кэплон. Ха, да она вроде не такая и старая была, правда?
– Луиза Мэй Кэплон, – подтвердил капитан Осборн. – Дочка капитана Билла Кэплона, старшая дочка, на Голден-хилле у них дом. Лет двадцать ей, должно, было, как с Клэренсом Уэмплером поженились. В тот год, помню, шхуну Кэплона льдами затерло, я-то сам тогда первую навигацию на своей шхуне сделал, на "Джун Филлипс", у старика Джорджа Филлипса ее купил, в рыбачьем затоне. Стало быть, в восемьдесят пятом году это было, если не спутал.
– Это какая шхуна Кэплона? – осведомляется третий, который все больше помалкивал. – "Сэмюел трейс", что ли?
– Да нет, на "Сэмюеле трейсе" раньше он плавал, – втолковывает капитан Осборн. – Сгорел он вроде, "Сэмюел трейс" этот, в Балтиморе сгорел, в сухих доках. А льдами-то новую его шхуну затерло, как ее? "Лавери Кэплон" вроде. В честь жены назвал. Ну, только-только на воду он ее спустил, вся оснащена была, гвоздик к гвоздику, и обшита внахлестку, да тут залив-то ни с того ни с сего льдом забило, не повезло Кэмплону, вмерзла у него шхуна-то и переломалась вся. Тогда ледоколов не было еще.
– Не было конечно, – соглашаются остальные.
– Я в ту зиму сам чуть без "Джун Филлипс" не остался, у острова Шарпа это было. Гляжу, вода, черт бы ее, прямо на глазах мерзнет, ветер как саданет – она и становится, хоть коньки надевай. Потом сбавит малость, ну мы вперед поползем, только не очень-то двигаемся. Слава Тебе Господи, у меня цепи жутко тяжелые были – якоря хорошо держали, я и говорю Уолтеру Джонсу, давай, говорю, цепью, цепью работай, скалывай, а шут его раз берет, как у/к мы там управились, обледенело все чертовой матери, того гляди вниз утянет. Ладно, слава Богу, ветер был подходящий, куда надо нас толкал, а то бы никакие цепи с таким льдом не управились, и якорей в мире нет, чтобы удержали, точно говорю.
– Да, – качает головой первый. – Нынче льдов таких не бывает, куда!
– Капитан Джеми Снайдер – помните старика Джеми? – ну вот, поглядел он, как Уолтер Джонс цепью-то здоровенной по наростам колотит, когда еще "Джун Филлипс" в гавани стояла, поглядел и говорит: Осборн, тебе шесть штук черномазых на борт надо взять, говорит, а то худо будет, дифферент как установишь? Правильно, сэр, говорю, только вот оно дело-то какое, капитан Джеми, нынче лед уж больно сильный, говорю, так я уж, ладно, шесть черномазых в команду наберу, все лучше, чем в море за борт прыгать да на своих до дому добираться.
– Здорово сказал!
– Да, сэр, выложил ему что надо!
– Ну, сказал и сказал, чего тут раздумывать, – продолжает капитан Осборн. – А лед совсем нас давить начал, еле доползли мы на "Джун Филлипс" с острова Шарпа, ночью пришли, не видать ни черта, – корму устрицами для тяжести завалили, цепь молотит, крошит лед, что голодная свинья початок кукурузный. А на другой день встречаю капитана Джеми, стоит смотрит, как льдом краску с бортов содрало до самой ватерлинии и цепи вмерзли – не отдерешь, да, посмотрел-посмотрел, только головой качает. А как заметил меня, говорит, Осборн, зря я, мол, тогда над тобой шутки шутил, ты умный оказался, умнее меня. Как это? – говорю. Да так, говорит, ты разве не знаешь, я же вчера "Джона Гора" во льду бросил, примерз, говорит, как моллюск приклеивается, прямо за Хорновской косой встал – и ни с места. Что сделаешь, прыгать пришлось да до фермы Сима Рипли по льдинам добираться за лошадью, все как ты мне напророчил. Хреновые дела, Осборн, так-то, говорит. И смеется – а, ладно, пошли по стаканчику возьмем, я ставлю. Славный он был, капитан Джеми, уж это точно.
– Да, старый капитан Джеми – он что надо был.
– Еще бы! Сейчас где такие?
Бедная Луиза Мэй Кэплон Уэмплер! – устричный хор, как видно, воспоет тебе хвалу в другой раз.
Я поднялся, чтобы уйти, но тут те две собаки, которые оказали честь покойной миссис Уэмплер, приковыляли к скамейке для фланеров. Дог прямиком двинул к капитану Осборну в надежде, что тот ему почешет за ушами. Сеттер, у которого уши обвисли, а язык все так же болтался, следовал за дамой след в след, пыхтя, и вновь попробовал утолить страсть, на этот раз зайдя сбоку.
– Пошел вон! – зашипел кто-то из стариков. – Так не делают.
– Хм, – промямлил другой. – Нет, ты посмотри! Что тебе маяк на Седер-пойнт – то высунет, то не видно. Вали отсюда!
– Брось, чего привязался, – попенял ему капитан Осборн, усмехаясь. – Подрастет скоро, научится, если машиной не сшибут. Как хочет, так пусть и дерет.
– Ой, ну балда!
– Дает, во так дает! Ха! Двигай, ну! Капитан Осборн даже немножко помог сеттеру, пододвинул ногой куда надо и придержал, чтобы его старания были вознаграждены. Сеттер, пристроившись, вовсю принялся за работу; капитан ласково трепал даму за уши, устрицы посмеивались.
Я посмеивался вместе с ними и охотно понаблюдал бы еще, но было уже почти четверть двенадцатого. Всю дорогу по Поплар-стрит к приемной Марвина Роуза я тихо улыбался, стоило вспомнить собачий коитус и происходившее у меня в спальне на день рождения, когда мне стукнуло семнадцать. А за моей спиной устрицы деловито переваривали Кембридж:
– Ничего себе!
– Вот это да!
– Ох ты, чтоб его!
XIII. ЗЕРКАЛО, В КОЕМ ЖИЗНЬ
Мать умерла, когда мне было семь лет, и поэтому я оказался предоставлен бессистемным заботам отца, а также сменявших друг друга горничных и экономок. Отец вечно беспокоился о моем благополучии и правильном воспитании, только выходило так, что много внимания уделять мне он не мог или не хотел. Что до горничных с экономками, одним я нравился, другим не очень, но у всех были свои заботы, а у отца массу времени отнимала служба, так что по большей части я рос совсем один.
При всем том почти никогда я не походил на плохих мальчишек. Держался тихо, но был общителен, чувств своих не выдавал, однако ни от кого и не прятался, энергии, когда требовалось, проявлял сколько надо, хотя редко случалось чем-нибудь загораться. Не скажу, чтобы мне многое запрещали, нужды не было. От природы я всегда был склонен соблюдать принятые правила – таким и остался, – так что в своих желаниях нечасто переступал границы дозволенного. И поскольку волноваться по моему поводу отцу почти не приходилось, он не очень-то интересовался, что у меня да как.
Вот так, а стало быть, когда мне действительно хотелось предпринять что-то такое, чего он явно не одобрит, сложностей не возникало.
Сексуальная моя жизнь, друг-читатель, до семнадцати лет была столь невыразительной, что и говорить тут не о чем. Всему, чему юные антропоиды с восторгом предаются, пока не подрастут, я тоже предавался; в школе любовные приключения не шли дальше страстных поцелуев, так что скулы болеть начинали, да еще бесконечных разговоров на рискованные темы, – так все и оставалось до моего романа с мисс Бетти Джун Гантер.
Бетти Джун было семнадцать – худющая, просто костлявая такая малышка, остроносенькая, лицом совсем не вышла, хотя глаза чудные, нежная кожа, но вот зубы кривоваты, русые волосы торчат как пакля, а ни бедер, ни груди вообще не видно. В моей компании считалось, что она ничего, только положение занимает явно ниже, чем наше. В классе ничем она не блистала, но девочка была неглупая, иной раз такое скажет – сразу видно, сообразительнее многих, кто в первых ученицах ходил. А кроме того – тут и было главное ее преимущество, – Бетти Джун знала, что к чему, не какая-нибудь там простушка, наивности у нее куда меньше, чем у всех весьма благовоспитанных девиц из моего круга. Отец у нее умер, а мать – Бог ее знает, никто бы не решился определить, что за человек ее мать. С одноклассниками, особенно с девочками, Бетти Джун мало общалась, – правда, были существенные исключения: ее считали близкой подругой две-три девочки из самых респектабельных. А мы, мальчишки, само собой, пялились на нее во все глаза и по косточкам ее разбирали, только проку никакого, – сталкиваясь с ее холодностью, ее искушенностью, вели мы себя неловко, сразу терялись. Видимо, считала она нас просто сопляками, ничего больше.
Мои с нею отношения завязались, когда Бетти Джун втрескалась в такого Смитти Херрина, холостяка, которому уж двадцать семь стукнуло, – он жил через два дома от меня. Смитти в упор ее не видел, а она прямо с ума по нему сходила и завела в ту зиму привычку часы проводить рядом с моим домом, а то и в моем доме, все надеялась, что Смитти ее наконец удостоит внимания. Меня это более чем устраивало. Бетти Джун рассказывала мне про все свои несчастья – ужасные несчастья, а самое главное, невыдуманные, вот так оно в жизни и бывает. Выходило с ее слов, никто никогда так сильно не любил, как она любит Смитти, а ему хоть бы что. А ей все равно, как он с ней обходиться будет, пусть обругает, пусть прибьет (в семнадцать-то лет от одной этой мысли мурашки по спине бегают), только пусть заметит ее существование, но ведь надо же, не замечает, и все тут. Да она ради него готова муки принять (и мы вместе изобретали эти муки, на которые она пошла бы с наслаждением, все их по очереди как следует обмысливали), да умереть она готова, если ему так нужно (и мы принимались во всех подробностях разбирать, какая смерть самая ужасная), только бы он хоть капельку страсти к ней проявил. Но Смитти был чурбан чурбаном. Я сострадал Бетти Джун всей душой и вдруг понял, что с нею, когда мы про невзгоды эти беседуем, разговор у меня получается легче, естественнее, чем со всеми остальными, кого я знал: ни стеснительности, от которой во рту пересыхает, а с другими девочками всегда так, ни жажды произвести впечатление, а из-за этого никак у меня с мальчишеской компанией не складывалось. Главное же, с Бетти Джун разговаривали мы все о вещах новых для меня и захватывающих, и чем больше мы о них разговаривали, тем я себя увереннее мужчиной чувствовал, опытным таким, кое-что повидавшим, да и думать обо всем стал не так узко, как прежде, понимание появилось, терпимость, трезвость суждений.
Короче говоря, друг-читатель, должен тебе признаться, что тут я и распрощался со своей невинностью. Ты спросишь: ну и что, велика важность, что я ее в итоге трахнул. Но видишь ли, Бетти Джун, тощая эта Бетти Джун, у которой всюду кости торчали, она ведь все во мне расшевелить смогла, а до нее я был какой-то оцепенелый и ни на что не годился, – она меня от духовной девственности избавила, от ребячливости этой, наивности, глаза мне открыла на ту настоящую жизнь, какою взрослые живут, – да так это сделала нежно, так безболезненно. Повезло мне, несмышленышу, угодить прямиком в эти треволнения страсти, а заодно и в жестковатые объятия, и то, что Бетти Джун у меня забрала, я ей с большим удовольствием отдал.
Заявлялась она ко мне каждый день сразу после школы и сидела, пока экономка не придет ужин готовить. А по субботам часто весь день со мной проводила. Сидим мы вдвоем то в гостиной, то у отца в кабинете – мне в кабинете больше нравилось, – я ей напитки всякие готовлю и то рома подмешиваю, то виски, в шкафчике у прислуги были, я и отливал потихоньку. И говорим мы с ней, все говорим, говорим, непринужденно этак болтаем, как добрые друзья, она про беды свои рассказывает, а я покрасивее выразиться стараюсь. И чувствую, какой я взрослый стал, в убогую ее жизнь погрузившись, как все хорошо понимаю и правильно оцениваю, – так вот и щеголял бы напрягшимися мускулами своей проницательности да искушенности. Что при этом Бетти Джун чувствовала, судить не берусь, – может, заметила, что я на глазах мужаю, а может, по-прежнему считала бестолковым сосунком.
Увы, сосунок, и заметить не успеешь, вдруг становится жеребец хоть куда, по крайней мере жеребцом себя ощущает, как я себя ощутил, глядя, как она кости свои по кушетке разложила, у меня только что ноздри не раздулись. Нелегко мне тут пришлось. Боялся: полезу я к ней – и прощай наше с ней особенное друг к другу расположение. И еще – о, край бездны, тайна эта волнующая – а вдруг она согласится?
– У тебя лед в стакане растаял совсем, – бывало, прервет эти мои мысли Бетти Джун, и я поскорей уткнусь себе в бокал.
До какого-то момента, до конца зимы – наверно, уж февраль был, – мне удавалось в общем объективно оценивать ситуацию. Ну ясно, Бетти Джун влюблена в Смитти, а я для нее вроде как брат по духу, хотя, по правде говоря, ни к Смитти, ни к дей я особого благоговения не испытывал, а что до нее, то влечет меня к ней более прочего, пожалуй, ее доступность: как вспомнишь, что в отличие от остальных моих одноклассниц у Бетти Джун есть кой-какой опыт, прямо с ума сходить начинаешь, ведь, стало быть, не то чтобы уж совсем к ней не подступиться, и тогда…
О, сколько мучительных, потных ночей пожертвовал я на алтарь этой ее доступности!
Как-то сидели мы с ней у отца в кабинете, я в его кожаном кресле развалился, и подходит она со спичкой, чтобы я прикурил. Спичку она поднесла, словно специально училась, как это делать, и, пока я затягивался, ладошкой волосы мне взъерошила. Хватаю я ее за руку, она как расхохочется и плюх ко мне на колени. Вытащил изо рта сигарету и поцелуй ей влепил со всей страстью. Заерзала она, заелозила, но ничего, не вырывается, а я ее все целую, целую, ужас до чего распалился. Глазам своим не верю, как все удачно получается, даже онемел от восторга. А Бетти Джун посмеивается и тоже меня целует – еще ни одна девочка меня раньше не целовала! – да трется об меня, лицом в меня тычется, слегка так покусывает то ухо, то нос, то под глазами. Я неуверенной рукой провел ей по груди, так и ждал, что пощечину залепит, а вот и нет – вытянулась, и вроде ей нравится. Быть не может! Полный триумф. В полчетвертого она ушла, предоставив мне радоваться достигнутым успехом.
С того дня все у нас с ней пошло иначе. Не сомневаюсь, она по-прежнему считала меня безвредным, только мы уж теперь разговорам игры наши предпочитать стали. Чудесные игры: каждый раз я хоть чуточку переступал границы, молча ею определенные, и все ее уговаривал мне уступить, хоть был убежден, что она откажет. И на этих уговорах мы прощались.
Совсем теперь по-другому начал я ситуацию оценивать. Объективность с меня прочь, как с нее блузочка, которую я сдирал и швырял в угол, чтобы не мешала. Смитти этого я просто ненавидел, исподволь всячески порочил – прямых нападок Бетти Джун ни за что бы не допустила – и вынашивал планы полного его ниспровержения. Стоило ей заговорить, как она его любит, я разражался рыданиями от ярости, и она поскорей прижмет, бывало, мокрую мою физиономию к маленьким грудкам. А свою любовь – о ней, правда, и слова между нами сказано не было – я считал неприкосновенной и беспорочной, этакая целомудренная духовная страсть, и только. Вид у меня в те дни был мрачный, ничего вокруг не замечаю, бледен, испепелен. Приятели держались от меня подальше, ведь, кажется, никто из них и не догадывался, что Бетти Джун моя частая гостья. Мне думалось, что мы с ней погибшие души, которых мойры (Клото, Лахесис, Антропо – помнится, по словарю выяснил, что каждая из них символизирует[11][11]
Клото – прядущая нити жизни; Лахесис – определяющая судьбу еще до рождения человека; Антропо – неотвратимая.
[Закрыть], и чуть не расплакался: до того точные имена) обрекли любить друг друга, но вовеки не соединиться, поскольку между нами непреодолимые барьеры общественного неравенства, сословные перегородки (об этом я, понятно, и намеком ей не дал понять) и прочая, и прочая.
Так оно все и шло до 2 марта 1917 года, когда мне исполнилось восемнадцать лет. Бетти Джун я ждал лишь к вечеру, а с утра – праздник все-таки – решил повозиться со своей недостроенной лодкой, остов которой понемножку гнил и разваливался у нас на дворе. Но только отец отправился к себе в суд, а экономка, как обычно, к своей сестре, и вдруг врывается Бетти Джун, зареванная – смотреть страшно. Обнимаю я ее, утешаю, а она все не успокоится, и тут я тряханул ее изо всех сил, схватив за плечи, – вроде бы так вот по-мужски, в самом деле, подействовало. Все еще всхлипывает, бормочет что-то, но, кажется, потише.
– Что случилось? – спрашиваю, и до того мне ее жалко, что сам чуть не реву, а колени так и подгибаются.
– Смитти женатый! – И опять в слезы.
– Брось!
Головой затрясла – точно, мол, – и колотит ее всю.
– Уже год он женатый, только тайно, – говорит, – на Моне Джонстон женился, а я-то, дура…
– Ну хватит, – прикрикнул я на нее. – Слушать противно. – Строгостью ее пронять решил.
– А она сейчас подзалетела, ну ее родители и требуют, чтобы они пошли записались и в газетах объявление напечатали.
– Здорово! – говорю я, и никаких сантиментов. – Так ему и надо, суке этой!
– Прекрати. – Бетти Джун опять вся в слезах. – Он в армию уходит, потому что Мону эту выносить не в состоянии! Его же в Европу пошлют, Тоди! Я его вообще не увижу, никогда, понимаешь?
Вижу, сейчас у нее истерика начнется.
– Да, не позавидуешь ему, – говорю и засмеялся ей прямо в лицо, до того мне нравилось, что теперь на моей стороне сила.
А Бетти Джун со всех ног в кабинет кинулась и на кожаный диван повалилась, скверно ей. А я, хмыкнув, направился к шкафчику и прямо из бутылки глотнул виски – от души. Внутри у меня так все и ошпарило, кровь закипела. Дал я ей несколько минут выплакаться (да сообразить, куда это я подевался), еще разок глотнул, закашлялся, поставил бутылку обратно и решительным шагом двинул в кабинет. Бетти Джун уставилась на меня, глаза от слез совсем распухли, а сама ничего не понимает.
Я и не объяснял ничего (не смог бы, даже захоти). Уселся на краешек дивана и с ходу расстегнул ей все пуговицы на блузке. Хватит дурака валять!
– Не порви, – Бетти Джун бормочет, видно, немножко в чувство пришла.
– Ничего, заштопаешь, – говорю и губами в нее впиваюсь. – А чтобы не порвалась, лучше сама сними.
Выпрямилась она, блузку, потом и маечку стягивает. Я стою рядом, почти не смотрю, будто мне это безразлично.



