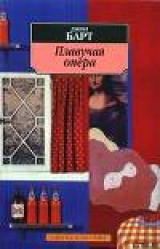
Текст книги "Плавучая опера"
Автор книги: Джон Барт
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Джон Барт
Плавучая опера
ПРЕДИСЛОВИЕ К ИСПРАВЛЕННОМУ ИЗДАНИЮ
«Плавучая опера» написана в первые три месяца 1955 года; в последние три месяца того же года я написал связанную с этим романом книгу «Конец пути». Что касается «Оперы», она была моим первым произведением; мне было двадцать четыре года, и уже пять лет, как я прилежно сочинял прозу, не имевшую – и по справедливости – никакого успеха у издателей. Один из них в конце концов согласился спустить на воду «Плавучую оперу», но при условии, что строитель внесет изменения в конструкцию корабля, особенно кормовой его части. Я согласился, роман вышел в свет; критики разругали книгу, и прежде всего ее финал, так что мне был преподан ценный урок, пригодившийся при постройке других судов. В этом издании восстановлен первоначальный вариант концовки, какой она и должна была бы остаться, а также восполнено несколько мелких купюр. «Плавучая опера» остается, впрочем, всего лишь первой книгой очень молодого автора, но меня утешает мысль, что, даже если она пойдет ко дну – или, может быть, выплывет, – причиной будет исключительно планировка, которую исходно предполагал конструктор.
Джон Барт
I. НАСТРАИВАЮ ИНСТРУМЕНТ
Для человека вроде меня, чьи литературные занятия с 1920 года ограничивались только составлением юридических документов и записями в тетради, названной «Размышления», самое трудное в предстоящем деле – а конкретно оно потребует объяснить один день в 1937 году, когда я переменял свой взгляд на вещи, – это сдвинуть его с места. Ничем таким мне раньше заниматься не приходилось, но себя-то я знаю достаточно: стоит льду дать хоть маленькую трещину, и тогда потечет, потечет, только успевай записывать, ведь от природы я уж никак не из скрытных, мне бы суметь досказать историю до конца да вовремя заткнуться, а о прочем и думать нечего– Сомнений на этот счет у меня никаких нет, я ведь почти всякий раз могу безошибочно предсказать, как поступлю, потому что действую всегда очень даже объяснимо, пусть у нас, в Кембридже, думают по-другому. Считается, что я человек странный, непредугадуемый (между прочим, мой друг Гаррисон Мэк и его жена Джейн тоже так считают), но тут вся штука вот в чем: и поступки, и мнения мои не ладят с понятиями окружающих, допуская, что у них вообще есть какие-то понятия, а с моими-то взглядами, поверьте, они гармонируют вполне. И хотя принципы мои время от времени меняются – напоминаю, книга эта как раз о том, как они изменились, – их у меня зато много, больше, чем требуется для жизни, так что храню я их обычно невостребованными до подходящего случая, однако все выходит в моей жизни совершенно логично, ничуть не менее логично по той причине, что живу я не так, как все остальные. А главное, чаще всего действительно все выходит.
Ну вот хотя бы, начал же я эту книгу, и пусть до самой истории нам еще добираться и добираться, но мы хотя бы двинулись к ней, а я и этому рад, не знаю, как вы. Может быть, когда я наконец опишу тот самый день – 21 июня 1937 года, если не ошибаюсь, – к тому времени, как настанет поздний вечер и надо будет спать ложиться, да, не исключено, что тогда я перечту только что написанное и брошу эту страничку в корзину, я ведь пока всего лишь инструмент свой настраиваю. А может, и не брошу: надо ведь сразу объяснить, кто я такой, и еще хочу, чтобы не возникало неверных мыслей, когда вы узнаете мое имя, и заглавие тоже хотелось бы растолковать, и вообще кое-что для вас облегчить, потому как я себя воспринимаю, ну, хозяином, что ли, а вы мои гости, вот и стараюсь, чтобы вам было покойно, удобно, а там уж окунетесь в петляющую речку, по которой предстоит плыть, погружаясь в мою историю, – зачем на всякую ерунду отвлекаться, силы-то вам еще понадобятся.
Да, с вашего позволения, еще два слова насчет этой петляющей речки: когда мне случается прочесть какой-нибудь роман, у меня всегда такое чувство, что автор уж слишком многого требует от читателя, швыряет его сразу же на самую стремнину, начиная со всяких бурных событий, а надо бы потихоньку к ним подводить. Бухаемся прямиком в чью-то жизнь, когда там все перевернулось, ну совсем как ранней весной в нашу речку Чоптенк нырнуть, – то еще удовольствие, доложу я вам. Доверься мне, добрый читатель, и оставь страх, что сердце твое не выдержит, у меня самого с сердцем неважно, и уж я-то знаю, погонять тебя незачем, входи в мою историю осторожно, неспешно, пальчиком сначала воду попробуй, потом ладонь погрузи, а там уж по колено можно зайти, по грудь, окунешься, ну и поплывешь. Я ведь не собираюсь тебя в ледяной купели окрестить, Боже сохрани, просто искупаешься, освежишься, и приятно тебе станет.
Ладно, на чем это я остановился? Ах да, я собирался пояснить, что мне предстоит "конкретно", так, кажется, было сказано? Или нет, пояснить, что подразумеваю под настройкой инструмента? Или насчет того, что у меня с сердцем неважно? О Господи, ну тяжелое дело – писать романы! Как, объясните мне, расскажешь историю, если не утрачена способность понимания смысла событий, из которых она состоит? Со мной все ясно, в рассказчики я совсем не гожусь: вот написал фразу, и тут же в ней оказываются какие-то метафоры да скрытые значения, которые я бы с вами вместе охотно загнал назад, пусть себе скрытыми и остаются, но вот беда, пока загоняешь эти, повылезают другие, а их тоже придется загонять, так что до самой истории мы вообще не доберемся, само собой – не доведем ее до конца, если этим своим метафорам я позволю резвиться как вздумается. Вообще-то я не против, пусть резвятся, по мне, и такие книги не хуже прочих, но ведь дело-то вот какое: мне действительно нужно объяснить тот день 21 или, может, 22 июня 1937 года, когда я окончательно переменил свой взгляд на вещи. И оттого придется нам с вами держаться основного русла, хоть поплывем мы в лодочке для одного мелководья пригодной, что же до притоков всяких да бухточек живописных – увы, хоть и жаль, а обойдемся без них. (Тоже метафора, и она-то как раз не просто для украшения, – впрочем, оставим это.)
Так. Значит, зовут меня Тодд Эндрюс. Имя можно писать с одним "д" или с двумя, в письме ко мне и так и этак обращаются. Но вас я предупреждал уже, чтобы не возникало по этому случаю неверных мыслей, а то еще подумаете: "Тод? Так ведь по-немецки „тод" – это „смерть", символика, стало быть". Сам я пишу свое имя с двумя "д" еще и для того, кстати, чтобы никакой символики в нем не подозревали. Только получается-то, что ничего я своим предостережением не добился, потому как сейчас вот пришло в голову – Тодд (с двумя "д") тоже символикой припахивает. Сами судите: Тод – "смерть", а в этой книге как раз про смерть много всего будет сказано; а Тодд – звучит все равно как Тод, то есть почти как смерть, – ну так книжка-то и будет почти про смерть, верней, про почти смерть.
И вот еще что напоследок. Вам, наверно, -случалось досадовать, когда книжка вроде бы сулит какое-то откровение, а под конец убеждаешься, что автор ловко этак вывернулся, и никакого откровения нет? Я-то уж сколько раз читал истории про разные удивительные штуки – ну, допустим, про то, как преодолели земное притяжение, или про телескоп, в который видно, что по Сатурну люди ходят, и еще про тайное оружие, которым можно всю Солнечную систему взорвать, – а потом оказывается, что ничего-то мне не объяснили, ни как же это наладились они с притяжением справляться, и насчет Сатурна тоже, – а люди там живут или нет? – и касательно Солнечной системы: это что же за оружие такое, чтобы ее вдребезги разнести? Но с моей книгой никаких разочарований вы не испытаете, это я обещаю..Беля прочтете, что я что-то там такое придумал, будьте уверены, я все вам объясню, насколько сумею, толково.
Стало быть, мое имя Тодд Эндрюс. А теперь полюбуйтесь, как я могу все нужное изложить в двух словах, если по-настоящему постараюсь: мне пятьдесят четыре года, роста во мне шесть футов, а веса – всего килограммов семьдесят, не больше. Вроде бы я похож на Грегори Пека, киноактера этого, если бы ему тоже пятьдесят четыре уже стукнуло, вот только стригусь коротко, чтобы не возиться с расческой, да еще бреюсь через день. (Я не хвастаюсь, сравнивая себя с Грегори Пеком, просто хочу, чтобы вы ясно представили, каков я на вид. Будь я Создателем, вылепил бы его лицо и свое тоже чуть иначе, подправил бы кое-где.) В обществе я занимаю неплохое положение, если судить по обычным меркам: я компаньон юридической фирмы "Эндрюс, Бишоп и Эндрюс" – второй Эндрюс это я и есть, – и практика приносит вполне достаточно, тысяч десять в год, ну, может, девять, никогда особенно этим не интересовался и не подсчитывал. Живу в Кембридже, а это центр округа Дорчестер, штат Мэриленд, восточное побережье залива Чесапик. Там я и родился, и отец мой тоже – Эндрюсов в Дорчестере издавна пруд пруди, – и никуда оттуда не уезжал, если не считать тех нескольких лет, когда был сначала в армии (Первая мировая шла), потом в университете Джонс Хопкинс, наконец, в юридической школе Мэрилендского университета. Холостяк. Занимаю одноместный номер в гостинице "Дорсет" по Хай-стрит, прямо напротив здания суда, а контора моя находится в. Адвокатском доме на Корт-лейн, всего квартал от отеля. Хотя деньги на житье зарабатываю юридической практикой, призванием своим вовсе ее не считаю, сотни других есть вещей, которые точно так же можно бы рассматривать– как мое призвание: я люблю плавать под парусом, выпивать, слоняться по улицам, пополняю свои "Размышления", могу часами разглядывать пустую стену у себя в кабинете, езжу стрелять уток и енотов, почитываю, интересуюсь политикой. Вообще многим интересуюсь, хотя ничем не увлекаюсь. Костюмы выбираю себе подороже. Курю сигары марки "Роберт Бернс". Из напитков предпочитаю ржаной виски "Шербрук" и еще имбирное пиво. Читаю много, но без всякой системы, точнее, система-то у меня есть, но не как у других. Спешить мне некуда. В общем, живу себе потихоньку – во всяком случае, после 1937 года стал так жить – и потихоньку добавляю страничку за страничкой к своим "размышлениям", вот точно так же, как дописываю теперь первую главу "Плавучей оперы".
Да, чуть не забыл упомянуть о своей болезни. Видите ли, здоровье у меня скверное. А вспомнил я об этом вот отчего: сижу у себя в номере "Дорсета", обложенный старыми тетрадками с "Размышлениями", размышляю, как бы мне написать, что такое "Плавучая опера", и вдруг замечаю, что пальцы барабанят по столу, в точности воспроизводя ритм вот той вон рекламы, где неоновые буквы то вспыхивают, то гаснут. А вы бы видели мои пальцы. Тело у меня вообще-то ладное, случалось кой от кого слышать, даже довольно красивое, так что пальцы – единственное на нем уродство. Зато какое! Просто-таки канаты перекрученные – разбухли, оплыли, а ногти-то, ногти, прямо панцири тяжеленные. Дело в том, что был у меня (а может, и сейчас есть) какой-то там вялотекущий бактериальный эндокардит со всякими осложнениями. Еще в юности привязался. Из-за него и пальцы скрючились, и, кроме того, бывают – хотя не так часто – приступы слабости. А осложнения такие: инфаркт мне угрожает, вот что. То есть в любую минуту свалюсь вот и не встану – может, случится это лет через двадцать, не раньше, а может, и фразу не успею дописать. Известно мне об этом с 1919 года, уже тридцать пять лет, значит. Да ко всему остальному у меня хроническое заболевание предстательной железы. Когда помоложе был, из-за этой болезни случались в моей жизни всякие неприятности, потом обязательно объясню, какие именно, – ну а потом, вот уже много лет просто принимаю гормоны в капсулах (миллиграмм диэтилстилбэстрола или эстроген) каждый день и, не считая того, что выпадает иногда бессонница, особых беспокойств больше не испытываю. Зубы у меня хорошие, только в нижнем коренном слева есть пломба да еще коронка на верхнем правом клыке (сломал в 1917 году, когда поехали с приятелем на пароме по Чесапику и затеяли бороться на палубе). С глазами, с пищеварением у меня полный порядок, запоров отродясь не бывало. Ну а еще меня царапнул штыком один сержант-немец – в Аргоннах это было, на войне. Остался шрам на левой лодыжке, и мышца там немеет, хотя совсем не больно. Немца того я убил.
Вы потерпите одну-две главы, я втянусь, и дело веселее пойдет – никаких отступлений, только история.
Еще минуточку, и мы к ней приступим, вот только заглавие объясню. Шестнадцать лет назад, когда я решил описать, как в один июньский день 1937 года переменил свой взгляд на вещи, ни о каких там заглавиях и речи не было. Честное слово, всего час с небольшим назад, когда наконец-то взялся за дело, я уразумел: получится книжка величиной с обычный роман, так, стало быть, и заглавие ей, как в романах, потребуется. А поначалу-то, в 1938-м, сочтя, что надо изложить случившееся на бумаге, я думал – выйдет просто заметка для моих "Размышлений", черновая запись, у меня такими записями да сведениями разными вся комната завалена. Человек я аккуратный, ничего не упускаю. И раз уж вздумал записать одно за другим события того июньского дня, то первым делом постараюсь восстановить до последнего пустяка все свои мысли и все поступки, чтобы ни единого пробела не осталось. Понадобилось мне для этого девять лет – я ведь себя не погонял,– и вон они, заметки мои, целых семь ящиков из-под персиков там у окна, видите? Да еще почитать кое-что пришлось, романы разные, чтобы разобраться, как истории рассказывают, и медицинские книжки, и справочники по кораблестроению, по философии, сборники народных песен, труды по юриспруденции, фармакологии, истории Мэриленда, химии газов, ну, еще там всякое, – а как же иначе, в причины-то и следствия надо же было проникнуть, чтобы уж точно знать: происходившее тогда мне более или менее ясно. На все это я ухлопал три года, не скажу, что с удовольствием, потому как ради дела я был вынужден отказаться от обычной своей системы чтения и читал только нужное, а книги эти довольно-таки специфичные. Да, а еще два года я занимался тем, что разбирал да сортировал свои записи, пока от семи ящиков не остался всего один, но потом я стал записывать пояснения, разные материалы добавлять, и снова семь ящиков набралось битком набитых, а тогда я свои комментарии опять просеял, из семи ящиков вышло два, которые теперь под рукой стоят, вот и буду оттуда записи доставать и попробую использовать какие подвернутся – попишу с полчасика да и запись старую вставлю.
Н-да. Выходит, любая мелочь существенна, только, боюсь, на самом-то деле ни одна не важна. Что уж там, у меня и сомнений не осталось, что шестнадцать лет, которые на подготовку ушли, никакой особенной пользы мне сейчас не принесут, а если принесут, так не ту, какой я ждал: события того дня мне теперь вполне уже понятны, а что до комментариев, лучше, думаю, вообще без них обойтись, попробую просто записать факты, только и всего. Хотя не отклоняться в сторону все равно не смогу, точно не смогу, уж очень искушение велико, прямо-таки неодолимо, а особенно когда наперед знаешь, что конец-то совсем не такой получился, как логика вещей требовала, – ну и пусть, зато хоть надежда остается, что до конца я рано или поздно доберусь, а если так выйдет, что добираться окольной дорожкой, – утешением послужат добрые намерения, которые у меня были.
Так почему же все-таки "Плавучая опера"? Хоть до Судного дня объясняй, все равно полностью не растолкуешь. Я того мнения, что полностью объяснить вообще ничего нельзя, даже сущую чепуховину, ведь тогда надо и все остальное объяснять, что в мире имеется. Оттого я, случается, капитулирую перед самыми простыми вещами и оттого же ничуть не против хоть до смертного своего часа накапливать заметки к "Размышлениям", а за сами "Размышления"-то и не приниматься. Да, насчет "Плавучей оперы". Так называлась оборудованная для театральных представлений баржа, которая курсировала по нашим рекам да по заливу вдоль побережья Виргинии и Мэриленда, точней, называлась она "Оригинальная и неподражаемая плавучая опера капитана Адама", поскольку владельцем ее и капитаном действительно был некто Джекоб Р.Адам; входные билеты стоили 20, 35 и 50 центов. В тот день 1937 года, когда я переменил свой взгляд на вещи, "Плавучая опера" была пришвартована у нашей большой верфи, и на этой барже происходят некоторые события, которые дальше описаны. Уже поэтому я был вправе озаглавить свое сочинение, как оно озаглавлено. Но есть и более серьезный резон. Мне всегда казалось, что сама эта мысль замечательна – переоборудовать баржу под театр, построить на ней просторную открытую палубу и разыгрывать там какой-нибудь спектакль дни напролет. Якоря надо поднять, пусть баржа плывет себе, подхваченная течением, а по берегам пусть расположатся зрители. Пока сцена в поле их зрения, что-то из разыгрываемого на ней они уловят, а потом пусть •ждут, чтобы течение переменилось и баржа поплыла назад, тогда еще эпизод-другой посмотреть сумеют, если хватит терпения досидеть. А вот что случилось между этими эпизодами, это уж они собственным воображением пускай угадают или у других спросят, которые посмекалистей, или прислушаются, что рассказывают видевшие остальное, которые повыше на берегу уселись или пониже. Большей частью, наверное, так ничего в толк и не возьмут, а то, возможно, уверятся, будто все поняли, хотя не поняли ни черта. Актеров им придется в основном только разглядывать, слышно-то не будет. Надо ли распространяться, что по преимуществу так вот проходит и вся наша жизнь, – появляются друзья, а потом исчезают, плывут себе куда-то, и только слухи о них доносятся, если хоть слухи; и вдруг они возвращаются, снова мы вместе, пробуем все начать сызнова, словно разлуки не было, иной раз удачно, но, бывает, выяснится, что мы просто перестали понимать один другого. И эта моя книга, не сомневайтесь, получится точно такой же. Она тоже плавучая опера, друг-читатель, и нагружена она всякими курьезами, мелодрамой, зрелищами, поучительными случаями или просто занятными историями, – последи за ней, пока у тебя на виду она покачивается на слабых волнах нестройной моей прозы, и будь готов, что затем она уплывет, но вернется; так вот, по прихоти ветра, который то надует ее парус, то стихнет совсем, и будет она перед тобой возникать, исчезая, а ты уж присматривайся повнимательнее, запасись терпением, мобилизуй всю свою фантазию, особенно если ты человек обыкновенный и заурядный, – может, тогда тебе и удастся уразуметь, что же такое в ней рассказывается.
II. КЛУБ «ДОРЧЕСТЕРСКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ»
Кажется, проснулся я в то утро – будем считать, 21 июня 1937 года, – в шесть. Ночь прошла плохо; простата в тот год меня еще беспокоила напоследок. Несколько раз я вставал покурить, бродил по комнате, что-то записывал в тетрадку к «Размышлениям» или просто разглядывал здание почты на главной улице, прямо напротив отеля. Заснуть удалось только перед рассветом, но солнце ли, еще ли что-то, как всегда бывает летним утром, подняло меня ровно в шесть, как по часам.
Мне тогда было всего тридцать семь, и по давно заведенному обычаю день я начал со славного глотка из бутылки "Шербрука", стоявшей на подоконнике. Она и сейчас там стоит, большая такая бутыль, само собой другая – сколько их уже сменилось. Привычка приветствовать восход солнца высоко занесенным над головой локтем осталась как напоминание о моих студенческих временах – очень было приятно потянуть всласть, жаль вот, давно уж пришлось от этого отказаться. Сделал я это совершенно сознательно, хотел убедиться, что рабом своих привычек не стал и не стану.
Глотнул как следует, протер глаза, размял затекшее тело и огляделся. Утро было солнечное, и, хотя мое окно выходит на запад, свет заполнил комнату уже почти целиком. А жаль; отель "Дорсет" строился в начале прошлого века и, подобно достойным старым леди, производит более приятное впечатление, когда подступают сумерки. Окно было испещрено кружочками от высохших дождевых капель – оно и сейчас такое же пыльное, – стены, выкрашенные светло-зеленым по штукатурке, покрылись сеточкой давно образовавшихся трещин, напоминая рельефную карту дорчестерских топей; валялась пустая банка из-под говяжьей тушенки, в пепельнице (я в ту пору предпочитал сигареты) причудливого вида горой высились окурки, вываливаясь на письменный стол, зачем-то поставленный у меня в номере дирекцией, а заметки к "Размышлениям", которые накапливались уже седьмой год, тогда умещались всего в трех ящиках из-под персиков да помятой коробке с надписью "Чудесные помидоры от Мортона". Часть стены закрывала – и сейчас закрывает – геодезическая карта округа Дорчестер и побережья, правда тогда еще без подробных пояснений, появившихся позже. А напротив нее висело полотно кисти любителя, видимо решившего изобразить, как слепец представляет себе начинающийся на Атлантике шторм и стаю из четырнадцати встревоженных лебедей, которые ищут укрытия среди волн. Не вспомню уже, как эта живопись ко мне попала, но почему-то я решил – пусть красуется. Она и теперь красуется на той же стене, только мой друг Гаррисон Мэк, маринадный магнат, как-то, напившись, карандашом набросал поверх картины что-то вроде нагой натуры. На полу всюду валялись – хочу сказать, тогда валялись – кальки с чертежей лодки, которую я в то время строил, оборудовав под мастерскую гараж, находившийся чуть ниже у речки, – эти чертежи я накануне захватил домой, намереваясь кое-что подправить.
Я считаю, что вещи у меня располагаются продуманно. Если и вам так кажется, значит, никакого беспорядка в моем номере не обнаружится, просто особенный такой порядок, вот и все.
Только не подумайте, пожалуйста, что я в ту пору, как какой-нибудь там художник с Монпарнаса, вел богемную жизнь и прочее. Насколько я себе представляю богему, ничего подобного не было. Достаточно сказать, что к 1937 году я никакого благоговения перед искусством не испытывал, так, слегка интересовался, но и только. И комната у меня вовсе не была грязной или там неуютной – просто я натащил туда всякой ерунды. Может быть, как раз предстояла уборка, а горничные вечно переворачивают все вверх дном, расставляют по местам, то есть делают так, что потом ничего не найдешь. Да и слишком хорошо я в жизни устроен, чтобы какой-то там богемой считаться. "Шербрук" стоит четыре с половиной доллара за кварту, а уж поверьте, мне кварты не так чтобы надолго хватает.
Ну вот. Значит, номер у меня вполне приличный, а в данный момент я как раз дома, в номере. Проснулся, стало быть, глотнул из бутыли, осмотрелся, потихоньку вылез из-под одеяла и стал одеваться – в контору пора. Помню даже, что я в то утро надел, хотя какое было утро – 21 июня? 22-е? – хоть убей, забыл, как-никак шестнадцать лет прошло, а надел я серый костюм в беленькую полосочку, спортивную такую рубашку телесного цвета, носки тоже цвета загара, галстук там какой-то и соломенное канотье. Само собой, умылся, пустив холодную воду, выполоскал рот, мягкой бумагой протер очки – без очков мне читать трудно, – ладонью провел по подбородку, доказывая себе, что можно без бритья обойтись, и взъерошил волосы, потому как причесываться терпеть не могу, – в таком порядке я совершаю свой туалет каждое утро, начиная этак года с 1930-го, когда поселился в этой гостинице. И вот как раз когда я совершал ритуальную эту процедуру, кажется, в ту секунду, как плеснул себе водой на щеки, – как раз тут для меня стал абсолютно ясен весь порядок вещей что на земле, что на небе, и я понял, что начинающийся день я сделаю последним своим днем, руки на себя сегодня наложу.
Я стоял, улыбаясь, и рассматривал в зеркале собственное мокрое лицо.
– Ну разумеется!
Радость-то какая! У меня невольно вырвался хрипловатый смешок.
– На весь мир крикну: я против! Ах как замечательно. Истинный миг вдохновения, и давно меня мучившая проблема сразу исчезает, и глаза мои открылись: да вот же оно, решение, – простое, последнее, единственное. Покончить с собой!
Стараясь не шуметь, я вышел из номера и двинулся по коридору, чтобы за чашкой кофе перемолвиться двумя словами со своими коллегами, постоянными членами клуба "Дорчестерские путешественники".
Как водится в маленьких городах, гостиницу у нас отгрохали не по надобности. В "Дорсете" пятьдесят четыре номера, и зимой многие стоят пустыми, а когда потеплеет и появятся жильцы на все лето, все равно остается предостаточно свободных номеров, хоть бродячий цирк размещай, хоть съезд охотников на выдру, если вдруг они в наш городок наведаются. Хозяин пока не прогорел по той, надо думать, единственной причине, что платежи за строительство гостиницы погасили еще его деды, и теперь никакие проценты не набегают, – содержание стоит недорого, накладные расходы минимальны, а главное, не переводятся почтенных лет дамы и джентльмены, которым не повезло обрести под старость собственный кров в данном мире, так что пришлось довольствоваться отелем как последним пристанищем по пути в мир иной. Вот они-то, постояльцы до гробовой доски, а особенно мужская их половина, и составили клуб "Дорчестерские путешественники" – заседания ежедневно с 6.15 до 6.45 утра. КДП, как для краткости именуют они ими же созданную организацию, существует по сей день, хотя из постоянных членов в живых остаюсь я один.
А в то утро, помнится, за столом сидели еще двое: капитан Осборн Джонс, удалившийся от дел восьмидесятитрехлетний владелец устричного промысла – пальцы от артрита совсем не разгибаются, – и мистер Хекер: ему семьдесят девять, был когда-то директором школы, ушел на пенсию, и, хотя мужчина он еще крепкий, семьи нет, так что род Хекеров на нем прервется. Поскольку капитану Осборну по лестницам карабкаться трудно, клуб собирается в его номере – мы живем на одном этаже.
– Доброе утро, капитан Осборн, – говорю я, а старик ворчит себе что-то под нос, у него так заведено. На нем была засаленная кепка, какой-то немыслимо заношенный черный шерстяной свитер и джинсы, почти сплошь белесые от стирок.
– А, и мистер Хекер уже здесь, доброе утро, – говорю. На мистере Хекере, как всегда, наутюженный, чистенький костюм из саржи, шелковый галстук и рубашка в полоску – кое-где светится от ветхости, зато ни одного сального пятнышка.
– Здравствуйте, Тодд, – говорит он. Помню, он как раз раскуривал свою первую сигару, а другой рукой помешивал в стаканчике. Несколько месяцев назад я купил для нужд клуба плитку с одной горелкой, ее по общему согласию поставили в номере капитана Осборна. – Наливайте, – говорит, – горячий еще и крепкий сегодня получился. – И протягивает мне кофейник.
Я поблагодарил. Тут капитан Осборн принялся монотонно ругаться и постукивать тростью по правой своей ноге. Мы с мистером Хекером, прихлебывая кофе, молча наблюдали за этим ритуалом.
– Что, никак не проснется? – посочувствовал я. Каждое утро, стоило капитану Осборну одеться и сесть за стол, нога у него цепенела, и он по ней колотил что есть силы, пока кровь не оживет. Случалось, времени для этого нужно было немало.
– Вы бы лучше кофе выпили, капитан, – говорит мистер Хекер мягко так, успокаивающе. – Толку-то больше будет, чем все на свете разносить.
Капитану от натуги бросилась в голову кровь, я заметил, как он цепляется за ручки кресла, чтобы не свалиться. Вздыхая и бормоча сквозь сжатые зубы слова благодарности, он взял чашку, протянутую мистером Хекером. Потом, не говоря ни слова, стал усердно поливать дымящимся кофе свою непослушную ногу.
– Послушайте! – мистер Хекер нахмурился, ему не нравились такие выходки, да, признаться, они и меня удивляли, – у него же, старого дурака, кожа слезет, хотя нет, ничего, посмеивается себе да опять колотит тростью по лодыжке.
– Дайте ей как следует! – Похоже, я стал входить во вкус.
Капитан успокоился, откинулся на спинку кресла, а кофе, все еще дымясь, понемногу стекал со штанины па пол.
– Шут с ним, – заметил, он, тяжело дыша, – ну и пусть. Я что, не понимаю, что помирать пора? Мне бы только уж сразу, а не так вот, по кусачкам. – Он с отвращением разглядывал ногу. – Черт ее дери совсем. – Правым носком он сильно ударил пониже колена. – Все равно как булавками всего искололи. А ведь было времечко, я ногой этой так наподдать мог, не сунулись бы. Даже лодкой управлял, обопрусь на правую, в руках по канату, а левой-то ногой и управляю. Только когда это было!
– Вообще-то неплохая мысль, чтобы он умирал в рассрочку, – шепнул я мистеру Хекеру, наливавшему для капитана вторую чашку. – Глядишь, и хоронить по частям будут, значит, плату внесем не всю сразу, а помесячно.
В "Клубе путешественников" это была ходячая шутка, сколько раз, завидев капитана Осборна, ее вспоминали, и, хоть мистер Хекер человек ужасно серьезный, обычно он тоже посмеивался, а вот сегодня чем-то очень уж озабочен, молчит.
– Умирать-то всем придется, вам тоже, капитан, – сказал он, передавая Осборну кофе, – вот и Тоди про это же. Но ведь не сию минуту, правда? Вы просто старый человек. Сделать-то все равно ничего нельзя.
– Сделать нельзя ничего, – отозвался капитан, – но не скажу, чтоб так уж мне это нравилось.
– А почему? – всколыхнулся мистер Хекер. – Как, скажите, мне правда интересно.
– А почему это должно мне нравиться? – парировал капитан. – Работать нельзя, размяться хорошенько тоже нельзя. Сиди себе, жуй табак, пока не загнешься– Вы с этим смирились, а я вот не хочу. – Он вытащил.из кармана платок и яростно высморкался. Карманы у него вечно набиты мокрыми платками, а другие подсушиваются на спинке кресла, гниют в ящиках стола, -.капитан, как многие, чья жизнь проходит на воде, страдал острым синуситом, который усугублялся сырым климатом округа Дорчестер, так что доктора оказывались бессильными. Помогает ему только полстакана "Шербрука", которым в виде лекарства я его потчую каждое утро, уходя на службу. До полудня он от этой терапии слегка пьян, а к обеду синусит немножко отступает.
– И зря не хотите, – возразил мистер Хекер, – умные-то люди старости всегда радовались. Послушайте-ка, я вот вчера специально из одной книжки выписал, чтобы вам прочесть.
– Да ну вас, ничего слушать не буду.
– Сейчас, капитан, он вас уму-разуму научит, – говорю.
– Нашли дурака, как же! – усмехнулся старик. Его всегда ужасно смешат мои намеки в том духе, что пора бы ему утихомириться, стать, как другие.
– А вы все же послушайте, – настаивал мистер Хекер и уже разглаживал сложенный листок, поднося его поближе к свету. – Я из Цицерона это выписал, смотрите, что Цицерон про старость пишет. Вот, пожалуйста: "И если бы кто-нибудь из богов даровал мне возможность вернуться из моего возраста в детский и плакать в колыбели, то я решительно отверг бы это"[1][1]
Цицерон. О старости. Перевод В. О. Горенштейна. – Здесь и далее прим. перев.
[Закрыть] . Так-то. Уж Цицерону можете поверить, а?



