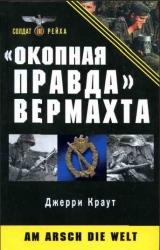
Текст книги "«Окопная правда» Вермахта"
Автор книги: Джерри Краут
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
Также и Гарри Милерт считал одной из худших особенностей передовой «жестокое безразличие, в пучину которого нас так легко втягивает непосредственное столкновение с войной». Милерт утверждал, что он чувствовал «полную отстраненность от всех личных проблем. Заботы были обезличены: обустройство позиций, боеприпасы, снаряжение, боевая техника, оружие, общие технические вопросы войны… То, что время от времени кто-то из товарищей падал раненым или убитым, стало такой же повседневностью, какой когда-то были многие вещи дома». Ни хорошая и ни плохая, смерть стала всего лишь одной из превратностей фронтовой жизни. «Во время войны приходится пройти через многое, но ты закаляешься и становишься невосприимчив ко всему, – признавался Вильгельм Прюллер. – Но фронт есть фронт… Это не место для проявления слабости». Ужасное, невообразимое входило в повседневную жизнь, к которой простому солдату приходилось приспосабливаться, как к домашней жизни.
Несмотря на изображаемые в кино и литературе огромные массы людей, противостоящих друг другу, на самом деле поле боя нередко оказывается на удивление безжизненным, пустым и безлюдным. «Мое поле зрения охватывает всего метров сто, – отмечал один из солдат. – И в нем всего человек сто». С ним соглашался ефрейтор Ф. Б.: «Мы, простые солдаты, видим лишь небольшой участок фронта и не знаем общего замысла». Столь ограниченный кругозор лишь усиливал чувство недоумения и покинутости, охватывавшее многих солдат. «Здесь во мне снова растет старое чувство, знакомое каждому солдату, – пишет Гарри Милерт. – Полное одиночество человека, оказавшегося на переднем крае». Вспоминая об ожесточенных боях в Сталинграде в феврале 1943 года, Милерт говорит: «Они отбиваются саперными лопатками и прикладами винтовок. Когда солдат остается без патронов – он одинок. Патроны… придают ему уверенности и ощущение безопасности. Они же сверхъестественным образом успокаивают его сердце. Это похоже на схватку между дикими зверями». После тяжелого боя Ги Сайер также чувствовал себя одиноким: «Мне было тошно от всего этого. В животе все бурлило. Было холодно. Я искал Хальса или еще кого-нибудь из друзей, но не видел ни одного знакомого лица… Их отсутствие подавляло меня. Я был одинок… и пытался найти хоть какой-нибудь повод для надежды и радости».
Когда его часть была потрепана серией страшных ночных атак русских, опасаясь близкой смерти, Леопольд фон Тадден-Триглафф написал печальное письмо, последнее, в котором говорил о «чувстве утраты, одиночества и потерянности». Эта печаль оказалась пророческой: на следующий день он погиб. Похожим образом в апреле 1943 года размышлял и Фридрих-Андреас фон Кох, которому было суждено погибнуть через несколько месяцев: «Бои и сражения не представляют для меня ничего особенного. Они грубы и обезличены». Майнхарт фон Гуттенберг также говорил о предчувствии беды, отмечая после боя: «Не могу собраться с мыслями. Вокруг все так пустынно, и мне кажется, что и сам я становлюсь все более одиноким и внутренне опустошенным». Такое одиночество не было чем-то из ряда вон выходящим, и Эрнсту Кляйсту казалось, что он знает почему. «Меня часто охватывает беспокойство, – размышляет он. – Это не страх перед боем или смертью. Но события обретают такой гигантский масштаб, что мне кажется, будто я ничтожнее самого ничтожного». С выводом Кляйста соглашается Гарри Милерт: «Ничего личного больше не происходит».
Подавленный грандиозностью войны, терзаемый страхом оказаться незначительным, перед лицом смерти в полном одиночестве – все эти ощущения усиливают чувство экзистенциального одиночества солдата. Жизнь на фронте означала жизнь на грани невообразимого ужаса и страданий. «Я прошел через ад», – заметил Гаральд Хенри, рассказывая о событиях октября 1941 года, которые он сам назвал «невероятными». В другом письме он отзывался о бое как о «бесконечной агонии». «В аду кипят все котлы», – так через несколько дней он начал письмо, где говорил о себе как об одном из «Измученных человеческих существ», которые более не в силах переносить страдания. «Однако последний ад, – заключил он, цитируя Бертольта Брехта, – никогда не бывает самым последним».
Учитывая ужасный характер военных действий, некоторые солдаты, что неудивительно, оказались неспособны описать свои страшные переживания. Гельмут фон Харнак попытался в письме к отцу описать окружающий его мир, но не нашел подходящих слов. «Картину можно будет считать завершенной, – писал он, – лишь тогда, когда простые фронтовики этой войны приедут в отпуск и смогут вновь обрести дар речи». Другой солдат признавался, что хотел бы облегчить себе душу, рассказать обо всем, что он испытал, но «не имел ни возможности, ни права написать обо всем». Рембранд Элерт попытался описать дикость немецкого отступления из России зимой 1944 года, но остановился и заключил: «Тому, кто в этом сам не участвовал, никогда не понять, на что это было похоже». Вильгельм Прюллер доверил своему дневнику схожие мысли: «Те, кто не сражался на фронте, не знают, что такое война». Неизвестно, что было тому причиной: неумение выразить свои мысли, страх перед цензурой или просто отчаяние от осознания того, что домашние этого не поймут, но многие солдаты считали невозможным передать реальность своего мира, даже несмотря на то что, как признал Вальтер Вебер во время отпуска после ранения в марте 1942 года, два месяца зимней войны в России дали ему жизненный опыт, жестокость которого была навсегда запечатлена в его памяти.
Тем не менее, несмотря на ужасы, через которые им пришлось пройти, и ограниченность мира фронтовика, многие солдаты показывают удивительно яркую и реальную картину боевых действий войны. Для некоторых война была почти живым существом, а поле боя стало пугающе личным местом, в котором властвовали опасность и смерть, постоянно искавшие новые жертвы. Гарри Милерт отметил однажды: «Такое впечатление, будто нам угрожает дикий зверь». Это же ощущение вдвойне разделял Курт Ройбер, попавший в ловушку под Сталинградом. «Представь себе загнанное до смерти животное, – писал он жене в конце декабря 1942 года, – которое бежало сломя голову, мечась в поисках спасения, а потом вдруг оказалось в центре борьбы между жизнью и смертью». Это была неравная борьба, поскольку, как сказал об одном особенно опасном месте Фридрих Групе, «смерть таилась повсюду».
Несомненно, зловещая судьба грозила каждому фронтовику. Описывая в письме к жене ожесточенные бои под Гомелем в октябре 1943 года, Милерт признавался:
«Хуже всего было четыре дня назад, когда мне пришлось держать оборону с четырьмя солдатами против пяти… русских танков с пехотой на броне, а потом получить приказ не оставлять позиции без сигнала. Это было ужасно… Я лежал вместе с солдатами на оставленной позиции… Мы стреляли по пехоте почти в упор, а страшные стальные колоссы с ревом пронеслись мимо нас, стреляя из всех стволов… Сквозь пыль, грязь и грохот боя я разглядел зеленую сигнальную ракету – сигнал, по которому мы должны были отступать. Началось бегство. Танки преследовали нас больше двух километров, постоянно стреляя и перекрывая нам путь. Вернуться к своим удалось только мне и одному из пехотинцев. Остальные были раздавлены, затоптаны или расстреляны. Эти минуты отняли у меня последние силы».
Чувство преследования, атаки на личность также не оставляло Милерта. «Это были ужасные дни, – писал он двумя месяцами позже, всего за пару недель до гибели. – Никому, кроме тех, кто в этом участвовал, не под силу понять, что здесь произошло… За мной охотились, словно за раненым зверем. Я просидел пять часов в болоте, в ледяной воде по пояс, под непрерывным огнем вражеского танка».
Стоит ли в таком случае удивляться, что Милерт с горечью говорил о том, что мир всегда был жесток. «Только теперь, – отмечал он, – волк воет и пьет кровь в открытую». Так же недвусмысленно говорил он и о том, кого именно он подразумевает под волками. «Мы прогрызли себе дорогу, – писал он. – За это время мы обзавелись крепкими зубами». Крепче некуда. Милерт бесстрастно рассказывает об уличных боях в России: «Город горит. На базарной площади стоят два танка и беспорядочно стреляют во все стороны. Мы ждем, пока они не расстреляют все боеприпасы, а потом «накрываем» их. Мы сбрасываем прорвавшуюся русскую пехоту обратно в холодную реку. Спастись удалось немногим. Мы безжалостны. Теперь здесь столько же покоя и романтизма, сколько и опасности». Люди безжалостно охотились на других людей в опасной азартной игре, победителем из которой выходила только смерть. Как было известно и Милерту, и большинству других солдат, «военное счастье меняется каждый день, и каждая секунда решает наше существование».
В этой «игре» не было ничего более страшного или опасного, чем выход на ночную разведку в тыл противника. После одной из казавшихся бесконечными ночных стычек с русскими Клаус Хансманн и его товарищи сидели в окопах, перегруппировываясь и выясняя, кто убит и кто ранен, но тут случилось страшное. «Над бруствером показалась тень. Это был Карл. «Слушай, Клаус, – зло прошептал он. – Нужно сходить вперед и притащить [убитого] лейтенанта… С вами пойдут еще трое саперов, чтобы подобрать оставшийся там огнемет. Командир тоже считает это полной чушью, но приказ пришел из батальона». Если говорить язвительным жаргоном пехоты, то Хансманн только что получил «вызов в небесную канцелярию», или приказ отправиться на самоубийственное задание, чтобы «собрать кости», то есть подобрать тела убитых товарищей.
Усталый, испуганный и шатающийся под гнетом одиночества и отчаяния, Хансманн все же отправляется в зловещий мрак ночи.
«Я ползу вперед. Луна слегка затянута дымкой… Остальные ждут меня в тени домов. Последняя сигарета, торопливые затяжки. Мы тихо переговариваемся… «Не, это бесполезно. Да что там, пошли уже!..»
Мы медленно ползем по траве, влажной от росы… По одному мы пересекаем участок голой земли и доползаем до заросшего клевером поля… Стоит тяжелая, гнетущая тишина. Вдали видны вспышки выстрелов… Боже мой! И это все ради мертвого лейтенанта и разбитого огнемета. Вдруг из-за облака выглядывает луна. Мы лежим неподвижно. Сердца бешено стучат… Впереди, метрах в сорока, мы слышим голоса. Двое русских разговаривают между собой. Потом они вылезают из окопа и ползут в нашу сторону. Они нас заметят! В этот миг мы осознаем всю бессмысленность нашей затеи: даже если мы найдем труп, как мы потащим его обратно через вражеские окопы? Ползком волочь мертвеца очень трудно. Да и в конце-то концов, он и так уже покойник! Поэтому единственное спасение – гранаты! Первая, потом остальные: взрывы, треск, крики…
Мы быстро бросаем все гранаты и вскакиваем на ноги, одновременно стреляя короткими очередями… Мы несемся со всех ног. Нас нагоняют свистящие пули; сзади доносится стук попаданий в землю. Вот наконец и наши блиндажи. Все целы? Последний солдат соскальзывает в окоп. Все в порядке. Отлично. Спокойной ночи».
Все в порядке, по крайней мере, в физическом плане, но для простого солдата такие вылазки были вызовом счастливой судьбе и собственному благополучию, ведь каждого, кто оказывался на нейтральной полосе, пугали уязвимость, одиночество и беспомощность, психологическая мука балансирования между жизнью и смертью, а единственным утешением служила ночная мгла.
Леопольд фон Тадден-Триглафф хорошо описал то ощущение, которое возникает в бою при близком знакомстве со смертью. «Я стою пред вратами рая и жду свидания с Эрнстом-Дитрихом, – писал он в марте 1943 года. – Позади осталась самая страшная ночь и самый трудный бой в моей жизни… Ночью противник атаковал нас огромными силами на шестикилометровом участке фронта и прорвался правее нас… Я сам бросился на передовую, чтобы руководить боем… Я знал, что это верная смерть, но господь не оставил меня. Прошло несколько неописуемо ужасных минут, прежде чем мне удалось собрать тринадцать человек и занять с ними оборону в дыре, которая должны была называться дзотом». Но для Тадден-Триглаффа испытания только начинались. Эту жуткую ночь он описывал так:
«Чуть ли не со всех сторон доносятся крики «Ура!» наступающих русских, крики, стоны, ураганный огонь… Мы сполна расплатились с русскими, обошедшими нас справа, и отвечали насмешливыми криками на их «Ура!»… Мы стояли, словно дубы, сознавая, что смерть неминуема.
Наконец в половине третьего утра противник прорвался и слева. Мы поняли, что теперь мы полностью отрезаны и брошены на произвол судьбы…
Мы продержались до утра. Я знал, что гауптман М. на танках пробьется ко мне и вытащит меня… Тем временем в нашем отряде появились первые раненые. Перевязочные пакеты вскоре кончились. Мне было жаль бедняг… К утру положение стало еще страшнее».
Страшнее некуда – с рассветом русские неизбежно должны были возобновить атаки. «С первыми лучами солнца справа и слева на нас обрушился шквал огня, – подтверждает Тадден-Триглафф. – Через несколько минут в нашем дзоте уже было полно раненых, и я изо всех сил пытался успокоить парней… Крики, хрип и пение. Я из последних сил старался сохранить прежнее спокойствие. В момент глубочайшего отчаяния я обнаружил, что соседняя рота отошла… Я же находился метрах в шестистах позади новых позиций русских… Неужели на нас махнули рукой?» В минуты страданий и отчаяния Тадден-Триглафф боялся, что его вместе с солдатами бросили на произвол судьбы. Но это было не так: «Около 6 утра наконец послышалось немецкое «Ура!». Заревели двигатели немецких танков. Донесся звук стрельбы немецких пулеметов и зениток… Мы спасены!..Возвращаясь в деревню, где находился командный пункт, я видел убитых товарищей. Я был потрясен и едва ли не плакал… Когда же закончатся ужасы оборонительных боев? Когда, наконец, наступит весна? Глубокий снег, яркое дневное солнце… По ночам в этих отвратительных местах стоит ледяной холод. Чтобы зарыться в землю, приходится потратить немало усилий». Для двадцатилетнего Тадден-Триглаффа ужасные бои и попытки зарыться в землю закончились слишком быстро. Он погиб на следующий день.
Бой мог становиться делом на удивление личным. На позднем этапе войны немецких новобранцев учили бороться с русскими танками, пропуская их над своими окопами и подрывая проходящий танк магнитными минами или вставая и расстреливая танк сзади из «Панцерфауста». В теории этот способ был наиболее эффективным. Наделе же он мог оказаться сущим мучением. Один солдат вспоминает такой случай:
«Первая группа «Т-34» с лязгом выехала из кустов. Я услышал, как наш командир кричит, чтобы я взял на себя правую машину… В моей памяти вдруг всплыло все, чему меня научили во время подготовки, и это придало мне уверенности… Предполагалось, что мы дадим первой группе «Т-34» проехать над нами… У гранаты был предохранительный колпачок, который нужно было отвинтить, чтобы добраться до запального шнура. Я отвинтил колпачок дрожащими пальцами и вылез из окопа… Я ползком подобрался поближе к монстру, дернул запальный шнур и приготовился закрепить заряд. Теперь у меня было всего девять секунд до взрыва гранаты, и тут я, к ужасу своему, обнаружил, что снаружи танк покрыт бетоном… К такой поверхности моя граната просто не могла прилипнуть… Вдруг танк развернулся на правой гусенице прямо на меня и двинулся вперед, словно собираясь меня раздавить.
Я дернулся назад и скатился прямиком в недостроенную щель, глубины которой едва хватило, чтобы скрыть меня. К счастью, я упал лицом вверх, все еще крепко сжимая в руке шипящую гранату. Вдруг вокруг потемнело – танк был прямо надо мной. Стенки щели начали осыпаться. Я инстинктивно выбросил вперед руку, словно пытаясь их удержать, и… ткнул гранатой прямо в гладкий, ничем не прикрытый металл… Едва танк проехал надо мной, как раздался громкий взрыв… Я остался в живых, а русские погибли. Меня била дрожь».
Ги Сайер тоже остро почувствовал личный характер боя, когда в пылу схватки солдаты осыпают друг друга бранью. «Подтянув танки, русские продолжали атаковать, – вспоминал он. – Наши отчаянные крики смешивались с воплями двоих пулеметчиков и мстительными возгласами экипажа русского танка, прокатившегося по окопу, вминая останки обоих солдат в ненавистную землю… Танк долго утюжил окоп, а… русский экипаж все время кричал: «Капут! Немецкий солдат – капут!» Осматривая поле боя, Клаус Хансманн отмечал не только знакомые сцены бойни – «трупы лошадей в лужах крови, разбитые колеса, переломанные оси… разбросанные вокруг горы боеприпасов всех калибров, оружие», – но и куда более личные вещи. «Белье и жалкие пожитки убитых сброшены в болото. Пожелтевшие семейные фотографии и растекшиеся следы чернил в письмах, когда-то написанных от всего сердца, примитивные бритвы и памятные вещицы стали обезличенным хламом, выпавшим из вещмешков и карманов неизвестных людей. Мутные волны прилива окатывают поблескивающие тела и смывают кровь с трупов».
Если Сайер и Хансманн описывали ужас битвы, то Вильгельм Прюллер рассказывает эпизод, свидетельствующий о том, что в бою находилось место и для абсурда. «Командирская машина снова застряла, – пишет он. – Пытаясь придумать, как бы заставить ее ехать дальше, водитель вдруг обнаружил, что машина застряла прямо над окопом, из которого высовывается ствол миномета. Пришлось ему бросить машину и спасаться, пустившись вприпрыжку через русские окопы, набитые хорошо замаскированными солдатами… Замечательная история», – сдержанно заключает он. Пробиваясь в Курск в ноябре 1941 года, Прюллер столкнулся с угрозой для собственной жизни, и тут уже было не до смеха: «Каждая вторая пуля пролетает совсем рядом. Никогда не знаешь, откуда она прилетит. Прижимаясь к стенам домов, пригибаясь, держа оружие на изготовку, сжимая в другой руке гранату, продолжаешь ползти вперед». Но месяцем позже Прюллер писал о случае, когда русский танк «играл с нашими солдатами в прятки вокруг домов».
Бернгард Бекеринг также отмечал нередко нелепый характер происходящих в бою событий. «Противник атаковал деревни, занятые нами. Во время спасения американских раненых в поле мы были атакованы с воздуха четырьмя американскими машинами. Эта глупая неразбериха почти смешна». Как ни абсурдно, но другим, как и Прюллеру, каждый день что-нибудь да напоминало об их собственной опасной маленькой войне в условиях общей борьбы. «Однажды мы попали под огонь со всех сторон, – вспоминал Вернер Паульсен об одном из таких моментов. – Спереди, сзади. Грохотало со всех сторон… Мы понятия не имели, откуда стреляют… Куда лучше бежать??? Я убежал в поле и залег там… Я слышал только голоса русских… Когда стемнело, я пополз назад, к дороге… Я был совершенно один. На следующий день подошли немцы. По дороге двигались танки. Эти танки меня и подобрали». Это была исключительно близкая и зловещая встреча со смертью – из пятидесяти человек взвода Паульсена назад вернулись лишь четверо.
Ганс-Вернер Вольтерсдорф тоже получил возможность почувствовать себя добычей в игре в кошки-мышки. Накануне Рождества 1943 года под Житомиром он вместе с пятью другими солдатами был отрезан атакой русских. Группа Вольтерсдорфа пробиралась через густые леса, отчаянно пытаясь выйти к немецким позициям. Выйдя из леса, Вольтерсдорф заметил «открытую местность, поля, а в добром километре за ними – деревню… Кто в ней? Наверное, свои…Выбора не было – пришлось идти по открытой местности… Метров через пятьдесят грохнул первый выстрел. Мы заметались из стороны в сторону, а по нам стреляли, словно по кроликам на охоте… В полусотне метров перед нами оказалась… канава, спасительная канава!» Хотя его солдатам удалось добраться до канавы, один из них был ранен в ногу. Вольтерсдорф с трудом полз по вязкой грязи, вытаскивая за собой раненого. «Неужели конец? – думал он. – Я зафиксировал в памяти дату своей смерти… Парой прицельных выстрелов я заставил группу русских укрыться…Через каких-то полсотни метров нашу канаву пересекала другая, более широкая, глубокая и заполненная грязно-бурой водой».
Они добрались до более глубокой канавы, но русские продолжали наступать. Вольтерсдорф уже был готов сдаться, но тут его внимание привлекло какое-то пятнышко. «Оно двигалось слишком быстро для танка или грузовика. Это оказалась легковая машина. Немецкая… Еще сто метров. Мы приготовились вскочить. Еще сорок метров. Теперь мы выбежали на дорогу с автоматами в руках. Водитель остановился… «Ради бога, только не делайте глупостей! – крикнул он. – Залезайте! Они уже близко!» Потрясенный, но живой, Вольтерсдорф вспоминал впоследствии о милости бога войны: «В следующие несколько дней более шестидесяти вернулись к своим столь же причудливым образом. Остальные, те, кто сидел, пел и смеялся вместе с нами тогда на мосту…» Вольтерсдорфу не было нужды договаривать – он знал, какая судьба постигла остальных. Настоящая война была глубоко личным делом, и это прекрасно понимал каждый солдат, который вел собственную битву.
Вольтерсдорфу еще раз довелось испытать на себе сближение с противником на поле боя, когда вся война сводится к противостоянию отдельных личностей. Он отмечал, что уничтожение танков в ближнем бою стало делом привычным, но один случай произвел на него огромное впечатление.
«Мы подкрались к нему сзади через лес… Мое сердце бешено стучало… Я осторожно залез на танк сзади и подполз к крышке люка… Проклятие! Как же забраться внутрь? Я покрепче прижался к башне и тянул крышку, пока не понял, что задвижка закрыта на висячий замок.
Значит, экипаж был зацерт внутри… Они ехали в запечатанном гробу… Я быстро убрал бедро от бойницы и крепко сжал закрывавший ее диск. Что теперь?.. Бойница была слишком мала, чтобы просунуть в нее гранату.
Тогда я вспомнил о ракетнице… Я осторожно поднес ствол ракетницы к бойнице… Быстро засунул ствол внутрь. Они тут же открыли огонь, но я уже убрал ракетницу…Они кричали. Изнутри доносились громкие приказы и испуганные крики… Потом раздался ужасный грохот… Башня подскочила на несколько сантиметров, сдвинулась в сторону и с лязгом упала… Я долго не мог забыть этих парней из Московской танковой бригады. Какая драма, должно быть, разыгралась в этом гробу».
Тем же ощущением личной борьбы были полны и размышления немецкого лейтенанта, воевавшего в Сталинграде:
«Мы пятнадцать дней воевали за один дом минометами, гранатами, пулеметами и штыками. Уже на третий день в подвалах, на лестничных клетках и ступеньках лежали пятьдесят четыре немецких трупа. Линия фронта проходила по коридору между выгоревшими комнатами, по тонкому потолочному перекрытию… С утра до ночи шел беспрестанный бой. С этажа на этаж мы, почерневшие от пота, перебрасывались гранатами среди взрывов и облаков пыли и дыма, луж крови, обрывков человеческих тел. Спросите любого солдата, что значит в таком бою полчаса рукопашной… Протяженность улицы измеряется теперь не метрами, а трупами…
Сталинград больше не город. При дневном свете он похож на огромное облако пылающего, ослепляющего дыма, на гигантскую печь, освещенную отблесками пламени. А когда наступает ночь, одна из тех обжигающих, ревущих, кровавых ночей, собаки бросаются в Волгу и отчаянно плывут к противоположному берегу. Сталинградские ночи вызывают у них ужас. Животные бегут из этого ада, и только люди способны его выдержать».
Выдерживали только люди. Жестокости войны натолкнули на схожие мысли и двадцатилетнего Ганса-Генриха Людвига. «Человек очень вынослив» – такими словами заканчивалось его письмо, и к этому уже ничего не требовалось добавлять.
Эти рассказы дают ощущение войны как глубоко личного опыта, как столкновения индивидуума с жизнью, судьбой и страданиями там, куда не смогла добраться большая война. В сражении солдат мог чувствовать себя забытым и брошенным, и утешением ему могли служить лишь оружие и немногие товарищи. Фактически многие сражались, молча ожидая смерти. Как в отчаянии писал с Восточного фронта Фридрих-Леонард Мартиус: «Мы сидим в своей норе, но некоторым приходится каждый день выходить наружу. Оружие и сталь ведут борьбу против плоти и сердец». Макс Аретин-Эггарт размышлял: «Личность всегда будет все глубже и глубже погружаться в пучину войны. Но даже в процессе такого погружения наши войска добиваются невообразимых успехов». В борьбе, которая до самого конца оставалась личным делом, некоторые солдаты считали себя профессионалами и странным образом гордились этим.
Если некоторые жили в ритме смертоносной машины, не помышляя ни о чем, кроме необходимости питать ее, то они не могли протянуть дольше, чем эта машина. Поэтому для многих солдат определяющей характеристикой войны стала ее разрушительность. Вильгельм Прюллер так рассказывает об одной из многочисленных атак русских в декабре 1941 года:
«В четыре часа нас подняли по тревоге. Русские при поддержке артиллерии атаковали к северу от железной дороги… Я повел взвод между домами и развернул стрелков в редкую цепь… Один пулемет должен был постоянно вести огонь по залегшим перед нами русским, чтобы не дать им продвинуться вперед. Остальные пулеметы и стрелки с карабинами должны были занять позиции. По моему сигналу белой осветительной ракетой мы должны были открыть прицельный огонь из всех видов оружия… На 9 секунд стало светло, как днем, и мы могли разглядеть всю местность перед собой… Мои парни уже открыли бешеную стрельбу…
Постепенно начинает светать, и теперь противник перед нами как на ладони…Я во весь голос кричу русским: «Руки вверх! Сдавайтесь!» Они один за другим поднимают руки…
Пленных сгоняют в дом, но их не так много, как мы ожидали. Вернувшись, мы поняли, почему: многие из них остались лежать мертвыми. Все убиты выстрелами в голову… Некоторые из убитых горят – их подожгли остатки осветительных ракет. Потом мы начинаем считать… 150 убитых».
Жестокая бойня стала синонимом войны и для пришедшего в ужас Ги Сайера. О немецком наступлении под Белгородом весной 1943 года он вспоминает: «Мы должны были участвовать в полномасштабном наступлении. Всех охватили тяжелые предчувствия, и на лицах отражалось понимание, что вскоре кого-то из нас не будет в живых… У каждого в голове роилось столько мыслей, что разговаривать между собой было невозможно… Спать тоже было невозможно из-за тревожного ожидания». Наступлению предшествовали страх и чувство неопределенности, но этим людям уже доводилось принимать участие в бою. Но, как было прекрасно известно Сайеру, невозможно привыкнуть к хождению по тонкой грани между жизнью и смертью. Более того, когда холодная сталь крушит черепа, словно яичную скорлупу, солдата охватывает всепоглощающее желание зарыться поглубже в землю… Но все же они отправились в ночь. «В голове было пусто, точно под действием наркоза, – пишет он. – Все просто взяли оружие и плотным строем пошли по траншее к передовой позиции… Мы выступили в полной готовности, как нас и учили… Один за другим мы покидали передовые немецкие окопы и выползали на теплую землю нейтральной полосы… В такие моменты даже люди, от природы склонные к размышлениям, внезапно ощущают пустоту в голове и полное безразличие ко всему».
Обучение, возможность спокойно выполнять заученные действия, позволили Сайеру и его товарищам побороть страх и выйти на нейтральную полосу. Однако никакое обучение не может подготовить молодого человека к столкновению с ужасами войны, со страшным одиночеством предстоящей встречи лицом к лицу с замаскированным противником. «Совсем рядом с нами земля содрогнулась от мощных взрывов, – вспоминает Сайер. – На мгновение нам показалось, что солдат, ползком пробиравшихся вперед, разорвало в клочья. Повсюду ребята вскакивали на-ноги и пытались бегом преодолеть переплетения колючей проволоки… Я с большим трудом мог разглядеть, что происходит вокруг… Сквозь дым мы могли наблюдать ужасные результаты попадания наших снарядов в красноармейцев, растерянно сгрудившихся в окопах перед нами».
Несмотря на хаос и замешательство, Сайер получил яркое впечатление о том, насколько хрупки тела даже самых выносливых людей, о том, как они в одно мгновение могут быть разорваны на куски.
«Огромный танк катился по земле, усыпанной телами русских солдат. За ним второй, третий танк устремились в кровавое месиво и двинулись вперед, наматывая на гусеницы изуродованные останки людей. При виде этого наш унтер невольно вскрикнул от ужаса…
Трудно даже попытаться вспомнить моменты… когда под стальной каской не оказывается ничего, кроме удивительно пустой головы и пары глаз, в которых мысли не больше, чем в глазах животного, столкнувшегося со смертельной опасностью. Нет ничего, кроме ритма взрывов… и воплей безумцев… И еще крики раненых, умирающих в мучениях, визжащих при виде того, как части их тела превратились в месиво… Трагические, невероятные видения: кишки, разбросанные по обломкам и опутывающие тела убитых, клепаная броня пылающих и стонущих машин, разорванных, словно вспоротый живот коровы, деревья, расколотые на мелкие щепки… И крики офицеров и унтеров, пытающихся докричаться сквозь грохот катастрофы до солдат, чтобы перегруппировать свои отделения и роты.
Бой еще не закончился, и напряжение становилось почти невыносимым… Двигаясь вперед, мы миновали место страшной бойни… С каждым шагом нам попадались все новые ужасные картины того, во что может превратиться наша бренная плоть…Мы набрели на санчасть, из которой доносились громкие крики и стоны, словно там шпарили свиней. Увиденное потрясло нас. Мне казалось, что я вот-вот упаду в обморок… Мы прошли мимо, подняв взгляды к небу, видя словно во сне, как молодые парни, воя от боли, с раздробленными руками, с зияющими ранами на животах, непонимающе рассматривали собственные внутренности».
Как и на многих других солдат (Хайнц Кюхлер утверждал: «Предстающие перед глазами картины граничат с бредом и кошмаром»), ужасные сцены производили на Сайера впечатление нереальности, и этому кошмару не было конца.
«Русские начали невиданную по ожесточенности артподготовку. Все вокруг заволокло дымом. Солнце скрылось из виду… Крики ужаса застряли в наших сдавленных глотках…
Вдруг в наш окоп скатился человек… и крикнул: «Моя рота полностью уничтожена!..» Он осторожно высунул голову над бруствером окопа, и в этот миг несколько взрывов разорвали воздух позади нас. Его каска вместе с куском черепа отлетела, а сам он с ужасным криком повалился навзничь. Его расколотая голова упала прямо в руки Хальсу, и мы все были забрызганы кровью и ошметками мяса.
Хальс оттолкнул отвратительный труп подальше и зарылся лицом в землю. Тем, кто прошел через такое, не остается ничего, кроме ощущения неконтролируемой паники и острой, омерзительной боли… Мы чувствовали себя заблудшими душами, забывшими, что люди сотворены для чего-то другого».








