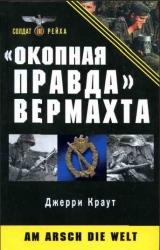
Текст книги "«Окопная правда» Вермахта"
Автор книги: Джерри Краут
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
Их не обнаружили, а вот другим солдатам из их части не так повезло.
«Мы продолжили путь… Потам мы увидели дерево. Великолепное дерево, ветви которого, казалось, упирались в небо. На этих ветвях висели два мешка, два пустых пугала, раскачивавшихся на ветру, подвешенные на коротких веревках. Мы подошли к ним и увидели серые, обескровленные лица повешенных, в которых узнали нашего несчастного друга Фреша и его товарища.
– Не беспокойся, Фреш, – прошептал Хальс. – Мы все съели.
Линдберг закрыл лицо ладонями и заплакал. Мне с трудом удалось разобрать надпись на табличке, привязанной к сломанной шее Фреша: «Я – вор и предатель родины».
Бедный Фреш был одним из тех сбитых с толку людей, которые так и не приспособились к фронтовой жизни, человек странного вида, которого Сайер описывал ранее как придурковатого на вид и ангельски дружелюбного парня, на лице которого всегда было написано выражение трогательной глупости и банального дружелюбия. Для таких, как Фреш, кто отбился от своей части или потерял оружие в беспорядочном отступлении «сумерек богов» нацистского режима, это неразборчивое «правосудие» служило отрезвляющим напоминанием о том, что щупальца гитлеровского государства все еще держали их в своих цепких объятиях.
Солдаты, пойманные без необходимых документов или подозреваемые в дезертирстве, также становились жертвами упрощенного судопроизводства. Для достижения максимального эффекта казненных обычно оставляли висеть на деревьях или столбах с табличками, предупреждающими остальных о последствиях любого предполагаемого нарушения долга. Макс Ландовски вспоминал о таких картинах во время бегства на запад из-под Данцига в январе 1945 года. Особенно ему запомнилось, что многие из повешенных обвинялись в «трусости перед лицом врага». По его словам, «пощады не было». Явившись в распоряжение вермахта в Коттбусе, Ландовски увидел перед входом в здание штаба «лежащего на траве расстрелянного немецкого солдата. На груди у него была табличка, гласившая: «Вот как мы поступаем с трусами». Эрвин Л ешь вспоминал не менее «пугающую картину», которую видел в Данциге: «На деревьях вдоль улицы были повешены немецкие солдаты. Некоторые были босы, и почти у всех на груди висели таблички со словом «трус». У многих из них на мундирах были видны боевые награды. Это нас поразило». А 16-летний Ганс-Рудольф Фильтер никак не мог забыть картину хаоса в Берлине, особенно «дезертиров» и арестованных солдат, повешенных на фонарных столбах и деревьях с табличками: «Я вишу здесь, потому что слишком труслив, чтобы защищать родину».
В последние месяцы войны линия фронта укорачивалась, и ужас начинал преследовать солдат повсюду. По всей Германии фельджандармерия, которую солдаты презрительно именовали «похитителями героев», усердно выискивала так называемых «врагов народа». Макс Ландовски вспоминал, что «сторожевые псы» армии проверяли центры Национал-социалистского благотворительного общества, которые вполне эффективно решали задачу обустройства перемещенных лиц, в поисках солдат, чтобы отправить их в фольксштурм (народное ополчение) или повесить. Все зависело от клочка бумаги – письменного пропуска, снабженного всеми необходимыми подписями и печатями. Предприимчивые солдаты, которые, как Отль Айхер, имели доступ к пишущим машинкам и типографским бланкам, дававшим разрешение на различные поездки, успешно преодолели опасный путь в безопасное место. По иронии судьбы однажды события обернулись так, что ефрейтор Карл Гребе помог офицеру добраться до его родного города, подписав проездной документ, заполненный, но без подписи командира. Как вспоминал Гребе: «Я быстро написал жирными буквами: «Полковник Гребе, командир полка». Он взял документ… Я пошел своей дорогой». Часто для выживания требовалась не только удача, но и наглость.
Однако путешествие по поддельным документам оставалось очень опасным занятием, поскольку патрули казались вездесущими. Но солдатам приходилось бояться не только фельджандармерии. Один из них с горечью вспоминал, как осенью 1944 года немецкие офицеры, угрожая оружием, заставили его часть атаковать вражеские позиции. Альтернатива была ясна: расстрел на месте собственным командиром. В некоторых частях даже были созданы специальные подразделения, которым предписывалось «незамедлительно применять оружие для восстановления повиновения и дисциплины». Как едко отмечал Гельмут Альтнер, многие солдаты оказались в чертовски простом положении: «Вариантов было всего два. Смерть от вражеской пули или от рук головорезов из СС».
Возможно, щадя тех, кто оставался дома, солдаты обычно на удивление мало писали о дисциплинарных мерах в армии, а те, кто это делал, говорили в основном о дезертирах и уголовниках. Тем не менее казнь товарищей-солдат могла иметь самые печальные последствия. «Я несколько дней нес караульную службу, и вчера вечером мне пришлось охранять заключенного, приговоренного к смерти за дезертирство», – писал Фридрих-Андреас фон Кох из Голландии.
«С часу ночи до четырех утра была моя смена. После долгих колебаний я вошел в коридор, где была камера заключенного, и заставил себя открыть дверь и заглянуть внутрь. Сердце сжалось от боли, когда я увидел, как он резко вскочил на ноги… «Что случилось?» – спросил он тихим, хриплым голосом. Я что-то пробормотал в ответ, в испуге отступил и вышел из коридора. Только через час я снова смог набраться сил. Я вернулся и, пока заключенный спал, сказал военному священнику, что хочу выполнить то, что считаю должным… Я попросил, чтобы он почитал заключенному стихи, которые я записал, и передал ему привет от меня.
В семь часов утра пришли жандармы… Когда закованный в кандалы заключенный проходил мимо, он заметил меня и кивнул. Он был спокоен, шел прямо и совсем не выглядел жалким… Пока я пишу все это, приговор приводят в исполнение».
Этот эпизод, судя по всему, долго беспокоил Коха. Двумя месяцами позднее в письме он упомянул, что слышал, будто «заключенный перед смертью вел себя очень достойно, отказавшись от предложения завязать глаза».
Других также беспокоила очевидная необходимость жестких дисциплинарных мер. «Солдат нашего батальона украл из дома набор столового серебра и несколько других ценных предметов, – писал ефрейтор Й. Ш. из 79-й пехотной дивизии. – Солдат был отдан под трибунал и приговорен к расстрелу. Мне также было приказано присутствовать при казни… Приговоренный в сопровождении католического священника был привезен к месту расстрела на машине. Зачитали смертный приговор. Приговоренный, двадцатидвухлетний парень, попрощался со священником. К нам он обратился со словами: «Товарищи, выполняйте свой долг!» Это были его последние слова». Даже офицер, выносивший приговор, мог делать это с неохотой. Так, подполковник Г. Ц. в августе 1944 года писал: «Есть одна вещь, которая всегда дается мне с большим трудом. Я говорю о случаях, когда для сохранения дисциплины я должен принять окончательное решение о жизни и смерти человека и после самого тщательного изучения обстоятельств дела… вынести смертный приговор. Это всегда остается для меня самым трудным делом, но бывает так, к счастью, очень не часто, что другого пути просто нет».
Возможно, этому офицеру и казалось, что необходимость в подобных дисциплинарных мерах возникает редко, однако для простого солдата самые суровые наказания стали частью повседневной жизни. Уже в конце 1941 года в одной из немецких дивизий предпринимались шаги для поддержания дисциплины таким образом, чтобы страх перед русскими беспокоил солдат меньше, чем последствия трусости: «Ефрейтор Айгнер… был приговорен к смерти судом военного трибунала по обвинению в трусости, – гласил особый приказ. – Несмотря на то что он видел, как его часть выступила к передовой, он вошел в дом, выпил бутылку шнапса… и, бросив пилотку и оружие, бежал в тыл, где и был задержан в неопрятном виде и нетрезвом состоянии. Каждый случай трусости будет сурово караться смертью. Приказ довести до сведения войск через командиров рот». Летом 1943 года в той же дивизии был отдан приказ, по которому «каждый офицер, унтер-офицер и рядовой… должен принимать все меры для предотвращения возникновения паники». В действительности от офицеров требовалось «беспощадно применять все имеющиеся в их распоряжении средства против солдат, создающих панику и покидающих своих товарищей в опасности, а также, в случае необходимости, не воздерживаться от применения оружия».
Эти решения принимали всерьез и их исполнители, и рядовые солдаты. «Новости по радио совсем поганые. Сейчас, кажется, без пяти минут полночь, и теперь они, наверное, возьмут нас за задницу, – с явной горечью писал ефрейтор Б. в августе 1944 года. – Похоже, нам придется поработать на русских. В любом случае положение угрожающее… Соответственно, никто из нас не задается вопросом, может он что-то сделать или не может. Мы должны, а если не хочешь, то тебя прихлопнут, и беспокоиться будет уже не о чем». Несмотря на попытку скрыть истинное значение слов, письмо ефрейтора Б. было отложено цензорами в сторону со штампом «изучить дополнительно». Вполне возможно, что он сам пал жертвой суровой дисциплины, которую порицал.
Однако дисциплинарные меры не всегда применялись в равной степени. Если на Западе вермахт заботился о наказании за уголовные преступления, такие как кражи, убийства и изнасилования, совершенные в отношении мирного населения, то в России немецким войскам нередко разрешалось безнаказанно убивать евреев и других так называемых идеологических или расовых врагов. Учитывая то, что враги характеризовались как недочеловеки, подлежащие уничтожению, солдаты редко подвергались судебному преследованию за преступления, совершенные в отношении славянского населения на Востоке, а те, кто попадал под суд, обычно легко отделывались. Одним из примеров неравномерного применения наказаний военной юстицией могут служить слова рядового Г. К., который в июне 1940 года писал о деле ефрейтора, «отца пятерых детей», который изнасиловал беременную женщину, женщину старше 50 лет и пытался изнасиловать двух других «25 июня в период с полуночи до часа ночи»! Хотя в конечном итоге наказание оказалось не настолько суровым, как можно было ожидать, учитывая обвинения, – насильник был приговорен к двум годам заключения, больше всего рядового Г. К. поразил тот факт, что «за этим солдатом уже числилась попытка изнасилования в Польше», но в тот раз он не только не был наказан, но и получил повышение в чине. Другим примером избирательного применения наказаний может служить случай, когда за убийство еврейки в России солдат получил всего лишь полгода заключения.
Учитывая постоянное непреодолимое беспокойство, мрачное ощущение, что смерть теперь живет собственной жизнью, и тайный страх, что война закончится только после его смерти, даже мгновение, проведенное в бою, навсегда оставляло след в душе солдата. Зигфрид Кнаппе утверждал:
«Несмотря на сумятицу, царящую вокруг солдата в бою, он сохранял ясное понимание собственных сил и сил тех, кто его окружал. Он ощущал почти осязаемое чувство единения с другими солдатами. Это было боевое солдатское братство.
Какой бы невероятной ни казалась жизнь в боевых условиях, со временем она становилась единственной реальностью, и солдат на передовой вскоре уже с трудом мог вспомнить что-то иное. Он пытался вспомнить лицо любимой, но не мог. Солдаты слева и справа от него становились для него единственно реальными и поистине любимыми людьми». Для солдата на передовой жизнь становится бесконечной чередой тяжелых физических нагрузок, суровой отваги, редкого смеха и ужасного ощущения преодоления безжалостной судьбы».
На фронте этот взгляд разделяли все. «Я нередко думал, что, если мне удастся пережить войну, едва ли я буду ждать многого от жизни, – признавался Ги Сайер. – Страх развеял все мои предубеждения, и я… больше не знал, от каких составляющих повседневной жизни нужно отказаться, чтобы сохранить хотя бы жалкое подобие равновесия… В момент величайшего ужаса я уже поклялся себе, что готов пожертвовать чем угодно: благополучием, любовью… даже ногой или рукой, лишь бы выжить». Само выживание нередко оказывалось отважным вызовом судьбе. «Кто говорит о победе? – горько вопрошал Гаральд Хенри в ноябре 1941 года. – Главное – выжить». Более того, некоторые солдаты в выживании видели акт высочайшего героизма. «В последнем письме ты считала меня героем и даже назвала меня героем, – занимался самобичеванием в письме к жене 23-летний командир роты. – Пожалуйста, не пиши больше так, потому что… я представляю себе героя совершенно иначе, и пока мне еще не попадался человек, который был бы героем. Или тогда уж героями нужно называть всех солдат на фронте». «Каждый солдат, – язвительно отмечал ефрейтор О. Ш., – должен получить Железный крест, но многие в придачу к нему получают еще и деревянный».
Многие солдаты вследствие тягот повседневного существования и капризов смерти склонялись к фаталистической отстраненности, которая представляла один из способов решения проблемы. По мнению Вильгельма Рубино, на войне случались «тяжелые часы, когда ты стоишь, ничтожный и беспомощный, перед ликом судьбы, которая решает, будешь ты существовать или нет». Бернхард Брекеринг в отчаянии писал: «Раз за разом мы, беспомощные и преисполненные страха, сталкиваемся лицом к лицу со смертью». Готфрид Грюнер выразился более сжато, совершенно пассивно отметив: «Все идет так, потому что так и должно быть». Гарри Милерт соглашается с ним, отмечая: «Странно, как иногда можно поддаться апатии. В действительности преодолеть эту слабость помогает, пожалуй, лишь угроза твоей собственной жизни».
Тем не менее ощущение рока как самостоятельного существа, отсутствия возможности контролировать собственную судьбу, положения, в котором «судьба человека находится в руках слепого случая», могло приносить некоторым странное облегчение. «Смерть сложна, иногда невероятно сурова, – объяснял Ганс Питцкер. – Но мы, кому приходится часто заглядывать ей в лицо, куда бы мы ни пошли, научились хладнокровно противостоять ей. Конечно же, рано или поздно она все равно добьется своего». Зигфрид Кнаппе стал «фаталистом в том, что касается смерти» и смирился с тем, что рано или поздно она настигнет его и он не в силах будет этого предотвратить. «Я не ждал, когда она наступит, но знал, что рано или поздно буду убит или тяжело ранен… Я смирился с тем, что мне суждено в конечном итоге погибнуть или стать калекой. Однажды я заставил себя с этим смириться, чтобы выбросить эти мысли из головы и выполнять свой долг дальше», – писал он. Лейтенант К. также пришел к тому, чтобы «противостоять смерти, как подобает мужчине, то есть с тихой, но непреклонной решимостью и четким осознанием опасности». Гельмут Фетаке считал, что угроза смерти приучала человека к «чистому, абсолютному смирению… Смирению, которое заставляет задуматься о бесконечной чистоте и совершенстве каждого растения и каждого цветка».
Другие солдаты, казалось, восхищаются таинственной игрой случая. «Передовая, окопавшиеся там стрелки, поразили меня, – писал Ганс-Генрих Людвиг в октябре 1941 года. – В особенности своим отношением к войне. Это потрясающие парни. Они совершенно покорны судьбе». Для Хайнца Кюхлера война не имела смысла. Точнее говоря, смысл войны заключался в ее бессмысленности. Тем не менее он утверждал: «Наше величие должно состоять не в способности управлять своей судьбой, а в способности сохранять свою личность, свою волю, свою любовь вопреки судьбе и, не подчиняясь ей, принести себя в жертву». Самопожертвование и страдания как совершенное выражение славы также подчеркивал Зигберт Штеман в сентябре 1944 года: «Насколько же повлияли на нас ужасы нашего времени, если мы принимаем вездесущесть ужаса с хладнокровием, которого раньше никогда не смогли бы себе представить! Германский народ почти превзошел легендарную способность России переносить страдания. Возможно, именно в этом и состоит величие. Кто способен попрать ногами свои горести, тот стойко преодолевает трудности… Ведь разве мы, солдаты, не попрощались внутренне со всем миром и не воспринимаем каждый прожитый день… как милость?» Вили Хубер ценил то, что «война, даже такая ужасная и жестокая, как эта, снова явила нам великолепные примеры достойных и гордых людей, принесших себя в жертву». Лейтенант Г. Г., попавший в окружение под Сталинградом, измученный упорными боями и нехваткой продовольствия, когда его возможности сопротивления были уже на исходе, тем не менее еще мог говорить: «Когда перед глазами маячит смерть, сохранение верности присяге показывает, что мы – достойные люди». Гауптман Г. утверждал, что он «очень горд тем, что стал частью невероятной, героической, эпической истории». Самопожертвование считалось благородством, особенно если учесть, что «личности умирают, но народ продолжает жить». В конце концов, как говорили многим солдатам, самопожертвование естественно, поскольку «человек, погибающий смертью героя, «тем самым способствует продолжению самой жизни».
Однако для Гаральда Хенри судьба и понятие геройской смерти были всего лишь жалким оправданием продолжения этой «борьбы за собственное существование». «Только абсолютная неизбежность судьбы заставляет нас переносить то, что в иных условиях было бы невыносимо», – писал он. Гельмут Пабст также роптал против своенравия смерти и тех, кто утверждал, что «такова судьба, так было предначертано». Он писал: «Так ли это? Разве это не жалкая попытка наделить смыслом каждое событие лишь из-за того, что мы слишком трусливы, чтобы честно признаться себе в их бессмысленности?.. Война бьет без разбора, как будто существует закон, по которому надлежит сразить лучших… Здесь никто не покоряется своей судьбе. Мы – не агнцы божьи и стремимся защититься… И наша уверенность основывается не на вере в бога, а на спокойствии и тщательном выполнении того, что необходимо».
Эти экзистенциальные муки, эти «крики проклятых душ», как называл их Пабст, выдавали отчаянное желание верить, придать войне хоть какой-то смысл. В своем последнем письме Бернгард Бекеринг с пугающей прямотой выразил утрату веры: «Это – затянувшееся прощание. Боги оставили меня. Я с ужасом понимаю, какие проблемы создает ощущение, что покинут богами». Меньше чем через неделю Бекеринг погиб. Когда, как утверждал Гарри Милерт, «гнев с ревом рвется из всех щелей мира», причиной этой ярости служит опасение, что война бессмысленна. Тем не менее Милерт настаивал, что война должна иметь какой-то замысел, даже если сам Милерт и не в состоянии разумом постичь его. «Я все яснее ощущаю, – писал он, – что даже бессознательной стороной моего существования и моих действий руководят благие цели». Другие солдаты также отчаянно пытались найти какую-нибудь осмысленную схему. «Из хаоса общего ужаса я по кусочкам создаю конкретные картины, – заявлял Гюнтер фон Шевен. – Главное, чтобы была четко определена внутренняя структура».
Однако конфликт между упорядоченностью и хаосом не исчезал и подталкивал к навязчивым мыслям о смысле жизни. «Я верю в предназначение, даже если не всегда могу понять, в чем оно заключается, – писал Хорстмар Зайтц. – Теперь я наверняка знаю, что моя жизнь имеет духовную цель. – И добавил: – Нужно немало сил, чтобы сохранить твердость и не забывать о самых важных вещах, в сравнении с которыми твоя собственная судьба незначительна». «Единственное, что поддерживает меня, – это осознание, что в конце концов все имеет свой смысл», – настаивал Готфрид Грюнер. Молясь о том, чтобы этот хаос имел все же какой-то смысл, некоторые солдаты в отчаянии обращались к мистическому романтизму. «Нам, одиноким людям в безнадежном положении, стало ясно одно: реальность – ничто, чудо – все. Это придает нам сил. Ни один человек не в силах нам помочь – только бог», – писал Зигберт Штеман.
Неудивительно, что многие солдаты искали утешения в религии, но их вера нередко несла в себе оттенок высокомерной жалости к себе, выдававшей озлобление оттого, что они считали незаслуженной участью для себя и для Германии. «Немцам, этому вечному Иову мировой истории, остались лишь безмолвные руины их обожаемого мира, – жаловался Зигберт Штеман в сентябре 1944 года, – и они усердно ждут слова божьего, которое восстановит разрушенное». Для него вера в бога была одновременно и простой, и сложной. «Настоящее, – размышлял он, – это темный путь между богом и богом, ибо те, кто лучше всего знает, кто такой бог, уже находятся в беспощадном пламени ада. Мы не должны спорить с судьбой». Тем не менее Штеман не смог окончательно смириться с таким выводом и продолжал ворчать, если не по поводу собственной судьбы, то по поводу участи Германии: «Материальные соображения не имеют большого значения, если подумать о том, что ждет наш народ… Тысячелетний рейх катится в могилу… Господь поможет нам, потому что священная благодать, которая уже тысячу лет не покидает нашу страну, не может быть утрачена. Нет в мире более святого народа, чем наш, корни которого крепки и сегодня».
Наконец, Германию необходимо было спасти от разрушения хотя бы ради мудрости немцев. Каким бы дерзким и высокомерным ни было утверждение Штемана, его нельзя назвать нетипичным. «Чтобы примириться с судьбой, даже трагической, нужно знать, – писал Рольф Хоффманн в феврале 1945 года, – что все имеет свой конец. Даже война… Потом мы снова построим достойную жизнь. Как говорил Эйхендорф: «Пока я дышу, я не сдамся». То же и с нашей обожаемой Родиной. Шесть долгих лет мы противостояли всему миру. В нашей жизни были только сражения, труд и вновь сражения. Заслужили ли мы в конечном итоге разгром и уничтожение? Мы хотим верить в господа бога, в то, что он не оставил немецкий народ и в конце этой великой битвы вернет ему право жить на этой земле. Это значит, что нужно ждать, пока нам будет даровано лучшее будущее».
Однако другие прекрасно понимали, что, несмотря на плаксивую жалость к самим себе, немцы заслужили свою судьбу. Вильгельм Хайдтманн сожалел о том, что «многие англо-американцы сражаются в полной уверенности, что говорят от имени Христа, потому что, защищая демократическую форму государственного устройства, западные державы имеют преимущество открытого исповедания христианской веры, что вынуждает нас выступать в роли противников христианства. Более того, они превосходят нас в нерушимости веры в практические последствия проявления божественной силы в этом мире… Возможно, в этом отношении нам есть чему поучиться у них. Кто почитает господа, тому он помогает. История это подтверждает». Вальтер Венцль пришел к похожим размышлениям с более резким выводом. В конце марта 1945 года он писал: «То, что выпало и все еще продолжает выпадать на нашу долю, целиком и полностью нами заслужено. И лишь тогда, когда пройдет срок наказания и слово «мир» снова будет означать для нас больше, чем тишину и праздность, только тогда закончится наше искупление… И то, что наступит потом, будет даровано Им, и мы должны встретить Его милость с готовностью».
Некоторые солдаты справлялись с трудностями, сохраняя неистовую жажду жизни. В конце концов, как отмечал Зигберт Штеман: «Райнер-Мария Рильке писал, что «у всего прекрасного ужасное начало… А наша жизнь прекрасна, бесконечно прекрасна». «На фронте мы все одинаковы, – доказывал Гельмут Пабст, – потому что мы все отрезаны от беззаботной жизни. Но это не приводит к усталости или смирению… Скорее, в нас вырабатывается могучая жажда жизни… Мы живем текущим моментом… Жить – уже само по себе счастье. Но даже в часы напряжения каждый из нас ощущает жизнь во всей ее полноте. Она горька и сладка одновременно… потому что мы научились видеть самое важное». Бернгард Бекеринг, до того как впал в отчаяние, настаивал: «Наша любовь к живому и прекрасному должна стать настолько великой, чтобы нас охватило ощущение вечности. Тогда мы постепенно придем к пониманию, что даже страдания и смерть можно принимать как должное и второстепенное». Любовь к жизни могла достигать такой силы, что некоторые, как, например, Вильгельм Шпалек, удивлялись: «Разве мы не любим так сильно жизнь? Разве наша любовь – это не есть жизнь, жизнь, яркое проявление жизни?» Гарри Милерт признавался: «Я так дорожу своим телом, я так люблю красоту, что мертвецы меня не пугают».
Независимо от того, испытывал ли он страх, покорность судьбе или жажду жизни, каждый солдат должен был совладать с множеством различных эмоций. Как отмечал Гарри Милерт в ноябре 1942 года, никто не был в состоянии понять «невероятную смесь трепета, ужаса и других чувств, не имеющих названия, и противоположные им храбрость и стремление к преодолению трудностей, которые этим людям приходится находить в себе ежедневно и ежечасно». Несмотря ни на что, из смирения ли, из веры ли в какой-то высший смысл или из уверенности в лучшем будущем, но даже самые подавленные и разочарованные солдаты обычно находили в себе силы продолжать борьбу и до последнего демонстрировать поразительную волю к самопожертвованию. «В глубине души я знаю, что значит отвага, – утверждал Ги Сайер, – благодаря дням и ночам покорного отчаяния и непреодолимого страха, который человек продолжает испытывать, несмотря на то что мозг уже перестал нормально работать. Я знаю, что означает это слово, когда вспоминаю, как лежал, прижавшись к мерзлой земле, холод которой пробирает до мозга костей, а из ближайшего окопа доносился чей-то вой». «В мире, созданном нами, – заключал он, – немецким солдатам пришлось бы пережить все. Мы подходили только для этого мира и не могли приспособиться к другому».








