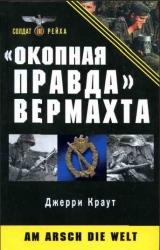
Текст книги "«Окопная правда» Вермахта"
Автор книги: Джерри Краут
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Вид убитых и раненых нередко пугал сильнее, чем собственные раны. В письме, написанном в начале декабря 1941 года, Гаральд Хенри упомянул о своем ранении мимоходом, бесстрастно заметив: «Выглядело это жутковато – шинель была разорвана в клочья и залита кровью, но ничего страшного не произошло. Это оказалось лишь легкое ранение мягких тканей». Зигфрид Кнаппе также отмечал: «Я был ранен в первый раз… Я удивился, но когда это случилось во второй раз, я просто подумал: «Ну вот, это случилось во второй раз, а я все еще жив». Хенри и Кнаппе, выжив после ранения, лишь укрепились в сознании собственной неуязвимости.
Однако мрачное осознание того, что его товарищи убиты или ранены, вынуждало солдата встречать свои сомнения и страхи лицом к лицу. Ричард Холмс отмечал, что вид трупа вызывает чувства, подобные тем, которые вызывает мрачная эпитафия, нередко встречающаяся на средневековых гробницах: «Таким, как ты, когда-то был и я; таким, как я, тебе стать суждено». Ганс Вольтерсдорф лаконично указывал: «Не стоит заглядывать в подбитый танк, смотреть в лицо печальной реальности. Сразу представляешь себе, что это ты размазан по стенкам и обезглавлен». Хотя смерть оставалась частым явлением, многие солдаты так и не привыкли к ее виду. Ганс-Фридрих Штэкер признавался, что при виде убитых товарищей у него всякий раз начинает кружиться голова. «Перед моими глазами предстают погибшие товарищи, – писал Гюнтер фон Шевен. – Накрытые серыми шинелями, преждевременно окоченевшие, безмолвные и безжизненные, они лежат там, и их лица обезображены морозом… Безжалостная, тяжелая смерть. После многодневных боев они лежат длинными рядами… То, что мы видим здесь, и есть лицо войны в России».
«Мы шли мимо странного места, – рассказывал Фридрих Групе о первом случае, когда ему пришлось увидеть сразу большое количество убитых немцев. – Там в сумерках рядами лежали немецкие солдаты, накрытые брезентом, из-под которого торчали только окоченевшие ноги. Вокруг копали могилы. Я похолодел от ужаса. Давай, иди дальше. Не думай». Онемение охватило и Гарри Милерта, который бесстрастно отмечал после ночной атаки: «Мы не лили слез по павшим товарищам. Их укладывали на носилки и относили в тыл… Странно было видеть, как солдаты из похоронных команд, дрожа, приходили на передовую, всегда на рассвете, чтобы забрать павших. Потом они быстро, слишком быстро уходили в тыл… Было что-то театральное в том, как это происходило – с множеством жестов и официальных условностей, но почти без слов». Однако сохранить такое отстраненное отношение оказалось нелегко. «По мере того как сходил снег, показывались все новые и новые трупы убитых русских. Когда видишь эти тела, – позднее признавался Милерт, – невольно думаешь, что и ты тоже мог бы выглядеть точно так же». Более того, Милерт высказал тайный страх каждого солдата: «Когда падают убитые или раненые товарищи, я всегда удивляюсь и задаюсь вопросом: «Когда придет мой черед?» Через две недели Милерт получил ответ на этот вопрос: он был убит в бою на юге России. Представляя те сцены сегодня, можно понять, что имел в виду Фридрих Берингер, когда писал: «Смерть, возможно, не самая плохая вещь, но нам-то приходится постоянно терпеть ее рядом!»
Конечно, основную роль всегда играл этот страх перед смертью, «страх, который уже давно не покидал его, и, как ему представлялось, стал неотъемлемой частью его естества, отделил его от окружающего мира плотной завесой тупого равнодушия». Так писал Вилли Хайнрих в романе «Железный крест». Однако для других страх принимал более активные формы. Еще до первого своего боя Фридрих Групе писал в дневнике: «Меня охватило предчувствие смерти в бою, изувеченных тел, которых можно опознать только по жетонам». «Я вдруг ужасно испугался, – вспоминал Ги Сайер об одном эпизоде осенью 1943 года. – Вскоре могла настать и моя очередь. Меня точно так же убьют, и никто этого даже и не заметит. Мы все привыкли почти ко всему, и по мне будут скучать лишь до тех пор, пока не получит свое следующий товарищ… Меня охватывала паника, руки начинали дрожать. Я знал, как страшно выглядят убитые. Я видел достаточно ребят, упавших ничком в море грязи и оставшихся так лежать. Одна эта мысль заставила меня похолодеть от ужаса».
Жена одного из солдат упрекнула его в том, что он всегда говорит в своих письмах о смерти, требуя, чтобы он «всегда сохранял желание жить». Но кто мог винить солдата в постоянной одержимости смертью, если, как говорил Гарри Милерт, смерть была для него «частью повседневной жизни». Фридрих Групе признавался в своем дневнике: «Смерть таится повсюду. Вокруг сияют нежной майской зеленью кусты, солнце освещает несколько уцелевших берез. Но здесь торжествует смерть». Другой солдат объяснял жене: «Жизнь продолжается до тех пор, пока однажды ты сам не окажешься там, где есть лишь одна темная дверь, из-за которой никто не возвращается… Для нас, солдат, смерть, конечно же, не совсем то, чем она кажется людям среднего класса. Мы лучше знакомы с ней и воспринимаем ее ближе к сердцу». Бернгард Бекеринг также отмечал: «Смерть всегда рядом, и ей предшествуют беспокойство, тревога, страдания и злоба». В другом письме он же писал: «Мы всегда стоим в растерянности и тревоге перед лицом смерти, которая кажется мне бесконечно загадочной».
«Смерть – это не то, что ты понимаешь, – отмечал один из персонажей «Железного креста». – Она наступает словно ночь. Когда среди деревьев наступают сумерки, она уже здесь, и ее не избежать». Более того, Гюнтеру фон Шевену казалось, что «каждый час наполнен сумерками смерти». Смерть была естественным, предсказуемым, пусть и загадочным явлением, таким же верным, как день и ночь, и таким же неизбежным. Рейнгард Беккер-Глаух вполне справедливо упоминал о нераздельности жизни и смерти. Ощущение того, что жизнь и смерть сплетены в один пугающий узел, что красота и страх постоянно переплетены между собой, возникало и у Клауса Хансманна: «Можно было совершать длительный марш… и проходить через деревни и поля, полные разрушений и следов жестокой битвы. Но тут же находились и пасторальные пейзажи, которые война пощадила: деревенские сады и загорелые, сильные девушки и женщины. И перед твоими глазами предстают фруктовые деревья, утопающие в зелени… Везение и острый солдатский глаз помогают найти нужное дерево…
Тогда ты уже ни о чем больше не думаешь, срывая спелые, налитые сладостью сливы… Ты почти ничего не сознаешь, снова и снова отправляя сладкую мякоть в пересохшую глотку». Но, проходя через деревню и наслаждаясь нежданной добычей, Хансманн наткнулся «на привычное зрелище – подбитый танк… Рядом лежит человек. Он обгорел. Он лежит в странной позе: на спине, руки приподняты, словно он собирается обороняться, а ноги придавлены танком!.. Перед тобой – обгорелая человеческая плоть, и ты выбрасываешь сливу, потому что горячие пальцы вдруг слабеют, и в этот момент ты невольно задумываешься и вдруг слабеешь сам».
Если одни солдаты считали смерть частью повседневной жизни, во многих других ее капризность и беспорядочность порождали страх и отвращение. «Пять дней назад на огневой позиции у тропинки к наблюдательному пункту я сидел с нашим начальником разведки, и мы говорили о Вюрцбурге, – писал Герхард Майер. – Потом он взял китель, который сушился метрах в пятнадцати от нас, и помахал мне рукой. В этот момент ему в голову ударил осколок. Сегодня я… на его могиле… Если человек не был солдатом, ему этого не понять».
Непостоянство смерти производило впечатление на многих. «Из блиндажа мы видели, как новыми взрывами нашего товарища бросило на землю, – бесстрастно описывает Фридрих-Андреас фон Кох. – Тяжелые осколки дождем осыпали его. Если бы он чуть приподнял голову… В общем, в него не попало, и он вернулся в блиндаж, чтобы дописать начатое письмо». Сказанные Кохом ранее слова о том, что война «так груба и так безлична», безусловно, относились к этому эпизоду повседневной жизни. Тайна выживания перед лицом неминуемой гибели поражала Клауса Лешера, который отправил жене простреленную записку, которая лежала сложенной в кармане брюк, когда пуля пробила ногу. «Слава богу, в этот раз она просвистела выше ручной гранаты, которая лежала в том же кармане», – писал он. Проспер Шюккинг был не столь впечатлен, говоря почти безразлично: «Вчера я сидел за домом и чистил картошку, когда в пяти метрах от меня разорвался минометный снаряд и меня окутало огромным облаком пыли и пороховой гари». Вот гак: никаких упоминаний о потерях, никаких размышлений о жизни – просто повседневное событие которому было уделено три предложения из письма длиной в страницу.
Гарри Милерт также с кажущимся безразличием писал: «Я стоял рядом с гауптманом О. метрах в ста пятидесяти от кустарника, в котором засели русские снайперы. Он получил пулю, мне же повезло успеть броситься на землю, как только я увидел парня, лежащего впереди нас. Гауптман среагировал на долю секунды позднее и был ранен». Зигфрид Кнаппе описывает попадание шального снаряда в его группу с похожим фатализмом. Он пишет: «Убитый рядом со мной обер-лейтенант был из резерва. Только что мы обсуждали свои планы, и вот уже лежим рядышком в грязи – один убит, другой невредим. То, что я упал именно здесь, а он – там, выглядело полнейшей случайностью… Я понял, что в следующий раз может не повезти и мне… Я принял возможную смерть или увечье как часть своей судьбы».
Но каждый солдат берег свое время, понимая, что в следующий раз удача может ему изменить. Наверняка Франц-Райнер Хоке почувствовал, что его лимит везения исчерпан, после одного происшествия: «Недавно англичане трижды выгоняли меня огнем из дома, где я устроил наблюдательный пункт. Сначала подъехал танк и выпустил по дому с расстояния в тысячу метров пять или шесть снарядов, которые прошили хижину насквозь. Потом последовал артиллерийский обстрел, и, наконец, меня сшибли с крыши из миномета. В прошлый раз меня спасло только то, что мина угодила прямо в тридцатисантиметровой толщины балку». Неудивительно, что Хоке показалось, будто его «носит на обломках по штормовому морю». Несомненно, многие солдаты поняли бы слова, записанные в дневнике Конрада-Вильгельма Хенкеля об «одиноких людях, которые каждый день встречаются лицом к лицу с отвратительным произволом войны». Чувство одиночества и беспомощности перед лицом неразборчивой, равнодушной смерти было способно в конечном итоге сокрушить даже самые крепкие нервы. Как признавался Гарри Милерт, он невольно начал познавать истину старого военного афоризма, гласившего, что нужно быть в полной мере осведомленным о смерти, нужно впитать ее в себя, чтобы больше о ней не беспокоиться.
Для многих солдат чувство внутренней свободы во время войны вызывали не объятия смерти, а высвобождение ярости, которая вела к смерти. Возбуждение войны, красота ужаса давали выход темному, эмоциональному и иррациональному началу человека, высвобождали беспорядочное и необъяснимое в человеке, полностью отдавая его во власть очарования абсолютной свободы. Внезапный прилив опасности и стихийных сил, разрушительной страсти нередко оказывал неожиданно пьянящее действие. «Те парни поняли, что не смогли самореализоваться в жизни, – размышлял Гельмут Пабст в апреле 1942 года. – Все их мелочные доводы бледнели по сравнению с силой природы, с зовом крови, толкая их на предельную жестокость». Предельную – значит, испытано уже все. Гарри Милерт утверждал, что «испытывать страх перед трупами могли только сентиментальные и привередливые… Это не омерзение – скорее, побуждения, которые вызывает отвратительное зрелище. Это смутное ощущение… мы не показываем никогда, но душа всегда… что-то подозревает». В глубине нашей психики таигся секрет, который большинство из нас предпочло бы похоронить навсегда: понимание того, что многим мужчинам война доставляет удовольствие не только благодаря первобытному «зову крови», как назвал его Пабст, но и благодаря ощущению полной свободы, которое они испытывают во время боя. Несмотря на тревогу, которую вызывали у него эти чувства, Милерт тем не менее поведал своему дневнику, что «солдатская жестокость чувственна». Эта чувственность казалась ему дьявольской, хотя он и признавал, что результатом была «чувственная эстетика». Другим тоже виделось что-то соблазнительное, что-то злое, но прекрасное, выходящее за рамки морали в совершении любых поступков в жизни, включая убийство. «Убивать легко, – соглашался Ги Сайер. – Особенно тому, кто уже не чувствует особой связи с жизнью».
«Эти сутки, пожалуй, самые незабываемые и точно самые беспокойные и прекрасные в моей жизни, – подтверждал Вольфганг Деринг, говоря о недавней атаке. – Такие ощущения совершенно по-особому влияют на людей. Одни просто прячутся в животном ужасе. Часто находятся те, кому все кажется просто каким-то несчастным случаем. Другие впадают в панику и теряют способность принимать решения… Есть и дерзкие наемники, и прирожденные авантюристы, которые наслаждаются такими моментами и впадают в состояние на грани эйфории». Деринг не сомневался в том, к какой категории относится он сам, указывая, что он в такие моменты ощущал «полнейшее спокойствие и уверенность в себе». Для него внезапное ощущение силы и свободы от традиционных ограничений оказалось опьяняющим.
Эта повышенная настороженность, приятное возбуждение человека, заглянувшего в бездну, нередко служило стимулятором, вызывавшим ощущения, «совершенно не похожие на те, что описывались в книгах о Великой войне», ощущения, будто «заново родился». Хайнц Кюхлер, практически не раздумывая, писал: «Война приносит странную радость». Однако другие стремились выразить особые ощущения, которые вызывала в них война. «В жизни боль и радость, отчаяние и счастье нередко идут рука об руку, – утверждал Рудольф Бадер. – Их столкновение болезненно, но оно может приносить плоды. Великие вещи и поступки совершаются в этом мире только через боль. Кто ищет жизни, должен познать горечь смерти». Рудольфу Хальбею все казалось очевидным. «Жизнь больше нельзя принимать как должное, – заметил он в январе 1943 года. – Она – дар». Ги Сайер объединил оба этих объяснения, пытаясь расшифровать притягательность войны. «Мир принес мне много удовольствий, – размышлял он, – но ни одно из них не сравнится по мощи со стремлением выжить во время войны… и с ощущением абсолютных истин».
Некоторые настаивали на том, что оценить глубину жизни можно лишь побывав на пороге смерти. Вольфдитрих Шретер считал, что пьянящее возбуждение войны порождает жизнь, «как будто наступила последняя ночь, последний день; постоянное пребывание на пороге вечности пробуждает великую радость». «Для нас, солдат, эта война, наверное, станет невероятным опытом, – размышлял Вольфганг Деринг, – который снова позволит нам прожить жизнь с совершенно особым осознанием глубинных законов бытия. Нет сомнения, что война наполнила все новым содержанием и позволила совершенно по-новому взглянуть на те немногие прекрасные и важнейшие вещи, что есть в нашей жизни». «Только те, кто прошел войну, способны определить пределы человеческого существования», – утверждал Хорстмар Зайтц. Гельмут Пабст заметил: «Даже в эти мрачные часы чувствуется, что жизнь полна значения. Это горькое и сладкое чувство одновременно, потому что мы научились видеть суть… В такие часы возникает желание… прожить вторую жизнь, построенную на этом понимании». Гарри Милерт также размышлял: «Мы живем суровой жизнью, в которой перед нашими глазами каждодневно предстает правда земного существования: из смерти и эфемерности рождается благословенная радость наслаждения красотой, которое способен как следует понять лишь тот, кто почувствовал на себе и осознал существование между эфемерностью и смертью». Вольфганг Клюге соглашался: «Мы, принужденные идти по темной стороне жизни, больше цепляемся за красоту, чем те, кто ею обладает». Более того, некоторые, как Мартин Линднер, начали верить, что «только тот, кто прошел через бездну и ужас множества сражений, способен понять, как спокойны и прекрасны земля и жизнь, как красивы цветы, как трогательна музыка и какой искренней может быть картина… Человек лучше всего ощущает любовь и тепло господа после боя, и тогда его переполняет чувство великой благодарности и радости».
Другие солдаты вместе с Рейнгардом Беккер-Глаухом утверждали, что война принесла «осознание предела всех вещей, когда ложные ценности предаются забвению, а истинные вещи остаются». «Природа, – заявлял Рольф Шрот, – создала нас существами, впадающими в привычки». Эту тенденцию он считал «не только ложной, но также свидетельствующей о безволии и стремлении к покою». Таким образом, ценность войны состояла в том, что она «требовала постоянно проявлять себя, снова и снова преодолевать очевидное… В конечном итоге здесь я счастлив: я хочу заглянуть еще дальше в глубины жизни». Некоторые, как, например, Эберхард Вендебург, ценили войну, потому что она учила «судить о людях не по званию и положению, имени и регалиям, а только по характеру и поступкам… Война учит видеть настоящую цену людям». Наконец, немногие, как Ганс Питцкер, заявляли, что гордятся тем, что «жили» в этих жалких и беспокойных условиях, а «не просто переживали их». В письме, написанном незадолго до Рождества 1942 года, Питцкер размышлял: «Судьба сложна, иногда необъяснимо сурова, но мы и в самом деле научились ценить жизнь больше, чем те, кто остался дома… Мы любим жизнь, полную опасностей, потому что граница между жизнью и смертью освещает чистую истину. Опасность для нас больше не означает новые ужасы, а смерть больше не предстает пугающей тьмой. Смерть – словно бы сестра жизни… Жаль только, что мы не сможем применить в жизни то, что испытали в эти тяжелые часы. Пожалуй, не может быть ничего лучше, чем передать этот опыт другим».
«Пугающе прекрасная мощь войны», ее «ужасающее великолепие» также были обусловлены возбуждением, порожденным победой над страхом. Рейнгард Гесс признавался: «Сильнее всего я ощущал близость к жизни во время разгула смерти, которая перемалывала и уничтожала все вокруг… Жизнь среди опасностей – самая лучшая и раскрепощающая. Когда перед человеком стоит только цель и задача, страх исчезает, и приятное возбуждение увлекает за собой даже слабейших». Чередование жизни и смерти, опасности и раскрепощения, возбуждения и выполнения задачи – бой и в самом деле вызывал сложную смесь эмоций. Ганс-Фридрих Штэкер отмечал: «Я буквально почувствовал, как в трудную секунду по моему сердцу пронеслась волна горячей крови, которая толкала меня вперед». Некоторые вслед за Эрнстом Юнгером повторяли: «Война – мать всех вещей», воссоздающая положение до сотворения мира.
Даже те, кто не был заведомо увлечен «отчаянным великолепием» войны, мог выражать сходные мысли. Очутившись в водовороте боев на Восточном фронте, Ги Сайер чувствовал «пьяное возбуждение», преисполненное, как и он сам, «духом разрушительного восторга». Столкнувшись с, казалось бы, бесконечными боями, Сайер тем не менее отмечает «неведомую доселе пронзительность, обостряющую все чувства». В то же время, «в момент, когда задание было почти выполнено», он отметил сильное ощущение нервной энергии и избавления от напряжения. Преодоление страха, жизнь на грани опасности, освобождение от напряжения, выполнение задачи – все это вызывало настолько яркие ощущения, что некоторые рассматривали бой как ужасную и прекрасную по своей силе драму.
И все же некоторых солдат посреди ужасов и разрушения поражала странная красота битвы. «Смоленск горел! – восклицал Ганс-Август Фоуникель в июне 1941 года. – Это была невероятная картина… Пламя с волшебной силой притягивало взгляды, заставляя заглянуть в его глубины, словно хотело втянуть в себя людей и машины». В столь же благоговейных тонах один солдат описывает, как он впервые увидел действие «небельверферов» (немецких реактивных минометов) во время наступления немецких войск на Воронеж в середине 1942 года: «Ночь была темная, но ясная… Три батареи «небельверферов» открыли огонь… Зрелище повергало в трепет, а от звука готовы были оборваться нервы. Низкий вой быстро перешел в пронзительное крещендо, а потом вспыхнули огромные пятна пламени, отправляя ракеты вверх, словно огромные кометы, несущиеся в воздухе… Маршрут их полета в небе обозначали огненные стрелы, за которыми тянулись облака красноватого дыма».
Гельмут Пабст тоже был заворожен красотой боя. «Южнее огромный пожар отбрасывал в небо тонкие лучи света, словно прожектора, – восторгался он в марте 1943 года. – Из-за красных отсветов снег казался мягким и теплым… Мелкие снежинки и разорванные в клочья облака кружились в сверкающем, ясном ночном небе. В 20.30 позади нас блеснула какая-то молния, заполнившая все пространство от горизонта до горизонта. Разрывы оглушали нас. Это была ужасная и прекрасная по своей силе картина». В одном из последних писем, написанных во время немецкого отступления к Киеву осенью 1943 года, Пабст вновь говорит о чарующей силе разрушения:
«Двое саперов бегали туда-сюда, подкладывая под рельсы взрывчатку… Потом из земли вырвались тонкие лучи белого света… Но это была только часть разрушения, смехотворно малая часть… Деревни горели. Они горели с яростной силой. Улица была усеяна тлеющими углями. Мы пронеслись галопом, укрывая лица от тучи искр… Дым смешивался с густой пылью и образовывал такую густую смесь, то мы были покрыты ею в два слоя. Еще задолго до вечера солнце покраснело и висело над головой, больное и иссохшее, взирая на разрушения. Облака над армейской колонной, освещенные двойным светом, были окрашены в самые прекрасные цвета, какие я когда-либо видел: война расцвела во всем своем ужасном великолепии. Мы видели дома на всех этапах разрушения… Первые проблески красного пламени, пробивавшиеся сквозь облака дыма, победный танец красного петуха над крышами. Мы неслись по раскаленным добела, умирающим улицам».
Пожалуй, лучше всего смешение эмоций, вызываемых боем, чувство чистого восторга от осознания, что не существует никаких границ, что бессмысленное разрушение стало одной из обычных способностей человека, описал Гарри Милерт:
«Русские обстреливали город артиллерией. Почти все дома горели. В промежутках между обстрелами взрывались большие склады с боеприпасами, а саперы подрывали здания и сооружения. Все вокруг грохотало, пылало, содрогалось, ревела скотина, солдаты обыскивали дома, на телегах вывозили бочонки с красным вином. То тут, то там пили и пели. В промежутках снова гремели взрывы, и вспыхивали новые пожары… Но самым странным был беспорядок цветов… Это было великолепно. Все преграды были сметены… Злоба с ревом вырывалась из каждой щели».
Чувственное очарование войны не ограничивалось визуальными образами. Многие солдаты отмечали также и своеобразные звуки и запахи, окружавшие их. «Одного лишь грохота боя было достаточно, чтобы сокрушить волю солдата, – утверждал Зигфрид Кнаппе. – Но бой – это не только шум. Это вихрь стали и свинца, ревущий вокруг солдата, пронзающий все, с чем он сталкивается. Как это ни странно, но даже в грохоте битвы солдат может различить свист пуль и жужжание осколков, воспринимая все по отдельности: разрыв снаряда тут, раскаты пулеметных очередей там, еще где-то – укрывающийся вражеский солдат». Гюнтер фон Шевен также был поражен буйством звуков, которыми сопровождался бой. «Невозможно даже и представить себе это место, где царит смерть, – писал он в марте 1942 года, – с криками и стонами, торжествующими криками наступающих и диким, пронзительным воем вражеской пехоты. Неподалеку раскатисто рвутся бомбы, сброшенные с мягко гудящих самолетов. Все это сопровождается грохотом артиллерии. Мы живем в землянках, вырытых в постоянно содрогающейся земле». Ганс-Генрих Людвиг со страхом и удивлением говорил о «безумных атаках» русских, сопровождавшихся «диким хором неистовых русских «Ура!». Склонность русских сопровождать свои атаки леденящими кровь криками выбивала из колеи многих немецких солдат. Леопольд фон Тадден-Триглафф в своем последнем письме писал об ужасе, который внушают «фанатичные русские крики «Ура!». Лай, с которым русские партизаны гнали немецких солдат, словно гончие псы, не давал покоя и Гансу Николю. Другим внушал отвращение «пугающий гул всеобщего уничтожения», как назвал его в Сталинграде Курт Ройбер. Рудольф Хальбей был поражен изобилием звуков: «свист пуль, вопли, приказы, выстрелы», в то время как Гарри Милерта преследовали «ужасные крики раненых, звучавшие в этой пустыне без эха».
Особенно сильно действовали на нервы крики раненых. «Ужасные вопли тонули в шуме двигателей, – вспоминал после одного из боев Ги Сайер, – такие протяжные и ужасные, что у меня кровь стыла в жилах… Мы слышали, как звуки стрельбы и взрывов приближаются, перемежаясь с леденящими душу криками… Мы окаменели от страха». В другом бою он отмечал «крики раненых, умирающих в агонии, глядящих на месиво, оставшееся от части их тела, крики людей, ошеломленных безумием боя». Еще в одном случае Сайер вздрагивает от «предсмертного хрипа тысяч умирающих, наполнившего воздух ужасным звуком». Неизвестный солдат писал из Румынии в июне 1944 года: «Рядом со мной лежали раненые товарищи. Они не могли ходить и страшно кричали. Никогда не слышал, чтобы люди так кричали… Начинаешь колебаться и спрашивать себя – остаться с ранеными или идти дальше? Остаться было бы самоубийством, поэтому я пошел дальше». Крики раненых были способны потрясти даже самых сильных. Рудольф Хальбей ошеломленно писал в дневнике: «…крики и стоны раненых действуют на нервы».
Если не считать человеческих криков, у некоторых солдат звуки войны не вызывали никаких эмоций. Фридрих Групе писал в своем дневнике: «Русская артиллерия била по краю наших позиций. Неприятное и грозное музыкальное сопровождение». Но затем он же отмечал: «Вечером я сидел на КП батальона и слушал армейское радио, чтобы поймать музыку из дома. В это время забываешь о реальности, о серой земле, об опустевших деревнях, о шуме боя». «Мы находимся под сильным артобстрелом уже больше двенадцати часов, – отмечал в письме к матери в феврале 1945 года Вальтер Хаппих, – но нас это ничуть не тревожит… Часы артобстрелов иногда могут быть довольно приятны… Это единственные часы отдыха, которые мы получаем, если не считать коротких минут сна, которые удается урвать ночью».
Некоторые также отмечали разнообразие ритмов, производимых войной. Групе поражали «резкий стук подкованных сапог по асфальту и булыжнику, шаги лошадей, цокот их подков и шелест покрышек военных машин; время от времени просто нельзя не петь, и тогда из охрипших глоток вырывается какая-нибудь старая или новая солдатская песня». Спустя несколько месяцев Групе снова отметил в своем дневнике, как «звенел гулкий ритм марша тысяч армейских сапог по булыжной мостовой», когда его часть проходила маршем по улицам города. В день вторжения в Польшу Групе писал о шуме «военных маршей по радио», «постоянных криках газетчиков, рекламировавших специальные выпуски», «звенящих звуках национального гимна, доносившихся из громкоговорителей». Более того, в своем дневнике Групе фиксировал какофонию звуков войны во всем их несогласии: «дождь барабанит по каскам», «на лесных просеках гудят моторы», «шаги десятков тысяч человек гулко стучат по сырой земле… Они проходят мимо, словно безмолвные тени, исчезают в темноте, сопровождаемые топотом лошадей, скрипом колес… Потом громкоговоритель доносит что-то из далекого-далекого мира… Рота за ротой проходят мимо, мелодия проносится над солдатами, рассеивается и поглощается стуком марширующих ног».
Кроме гула битвы практически все солдаты отмечали особенные запахи войны. «У нее странный запах, – писал Гаральд Хенри о России. – Наверное, у меня он всегда будет ассоциироваться с этой кампанией – эта смесь запахов пожара, пота и лошадиных трупов». Другой ветеран войны в России также утверждал, что никогда не забудет «смешение запахов: засохшей мочи, экскрементов, гноящихся ран и противный запах гречневой каши». Фридриха Групе поразила «отвратительная вонь пороха, горящего железа и земли». Зигфрид Кнаппе «узнал, что запах гниющей плоти, пыли, пороховой гари, дыма и бензина – это и есть запах боя». Во время ночной атаки Кнаппе также отметил, какую важную роль сыграл запах в успешных действиях его части: «Окруженные русские… атаковали мою батарею, и моим парням приходилось отбиваться… Они не видели русских, в которых стреляли, но зато могли… чуять их! От русских солдат несло махоркой, имевшей сильный и неприятный запах… Этот ужасный запах въедался в их толстые шинели, и его можно было учуять с довольно большого расстояния».
Итальянский военный корреспондент Курцио Малапарте отмечал в первые месяцы войны в России, что «запах гниения доносился отовсюду… Запах ржавеющего железа заглушал запах людей и лошадей… Даже запах зерна и пронзительный, сладкий аромат подсолнухов тонул в этой кислой вони опаленного железа, ржавеющей стали, мертвых машин… Запах железа и бензина в пыльном воздухе усиливался, словно запах людей и животных, запахи деревьев, трав и грязи уступали место «аромату» бензина и горелого железа». Зигберт Штеманн упоминал «сладковатый запах разложения», наполнявший воздух после боя, так же как и Вольфганг Клюге, говоривший, что «повсюду чувствуется отвратительный сладкий запах» гниющих тел. Йоханнес Хюбнер утверждал, что худшим на войне был «ядовитый запах пожаров, трупов, раненых и сгоревшего скота». Ги Сайер объяснял просто: «Мы могли почуять присутствие смерти, и под этим я подразумеваю не процесс разложения, а тот запах, который издает смерть, достигнув определенного размаха. Любой, кому довелось побывать на поле боя, поймет, что я имею в виду».
Для многих солдат одним из самых острых и мучительных впечатлений войны стало ее ужасное действие на лошадей. «На пути лежала раненая лошадь, – писал Гаральд Хенри в октябре 1941 года. – Она вдруг встала на дыбы, и кто-то выстрелил в нее, чтобы добить, она снова вскочила, еще один выстрел… Лошадь все еще боролась за жизнь, прозвучало еще много выстрелов, но винтовочные пули не скоро погасили огонь в глазах умирающей лошади… Лошади повсюду. Разорванные на части снарядами, с глазами, выпадающими из пустых красных глазниц… Это едва ли не хуже, чем оторванные лица людей, обгорелых, полуобугленных трупов с проломленными грудными клетками». Несмотря на все кровопролития и увечья одного боя, Фридрих-Рейнгольд Хааг больше всего был потрясен видом прекрасной белой лошади, пасшейся у канавы. «Артиллерийским снарядом ей оторвало правую переднюю ногу. Она паслась мирно, но в то же время медленной невыразимо печально покачивала из стороны в сторону окровавленным обрубком ноги… Не знаю, смогу ли я точно описать ужас этой сцены… Тогда я сказал одному из своих солдат: «Добей эту лошадь!» И солдат, который всего десять минут назад упорно сражался, ответил: «Мне не хватит духу, герр лейтенант». Такие случаи угнетают куда сильнее, чем вся «сумятица битвы» и грозящая тебе опасность».








