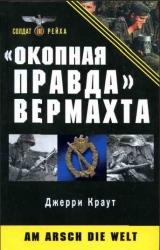
Текст книги "«Окопная правда» Вермахта"
Автор книги: Джерри Краут
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Разумеется, большинство солдат просто хотели как можно быстрее вернуться к мирной жизни и начать процесс строительства новой жизни, но и они чувствовали себя жертвами обмана. Они не могли вернуться к прежней карьере, поскольку большинство из них ранее попросту не получили возможности ее начать. «Да, это время тоже было потеряно, – отвечает Эвальд Деринг на вопрос о его впечатлениях от военных лет. – Сегодня люди… могут заниматься своей профессией, а те годы мы потеряли… И в день капитуляции… работать стало больше негде».
Другие также вспоминали о войне в основном как о препятствии на пути их профессиональных устремлений. Вальтер Новак, родившийся в 1926 году, также говорил о проблеме потерянных лет, которая казалась ему особенно острой из-за того, что он должен был вот-вот начинать профессиональную деятельность. «Они украли десять лет моей жизни, – утверждал он, – во имя фюрера, народа и родины. Видите ли, я начинал ученичество в 41-м, закончил его в 43-м, сдав экзамен на подмастерье, а через два месяца меня забрали в армию… У меня отняли десять лет жизни, десять лучших лет». Попав в плен к французам в 1945 году, Новак на пять лет завербовался во французский Иностранный легион, чтобы избежать плохих условий содержания в лагере для военнопленных, поэтому его оценка, что десять лет отняла у него служба в вермахте, не вполне точна. Тем не менее Новак считал, что война систематически препятствовала его карьере и поэтому противоестественным образом ограничила его возможности в дальнейшем. И Деринг, и Новак, как и многие другие солдаты, чувствовали, что они утратили способность определять собственную жизнь, что они отстали от нормального течения обучения, работы, брака, карьеры и так и не сумели нагнать упущенное время.
Некоторым и вовсе не удавалось приспособиться к мирной жизни. Михаэль Хербах, ветеран войны, в своем послевоенном романе «Преданные сыновья» описывал послевоенное разочарование, проблемы перехода к мирной жизни, трудности избавления от наследия войны. Персонажи Хербаха – Вальтер Рихарде и Гуго Фишер – люди, безуспешно пытающиеся обеспечить себе стабильное существование после войны, дают автору возможность показать яркую картину утраты, пустоты, оставленной войной, которую невозможно заполнить даже спустя семь лет после капитуляции.
«– На войне мы потеряли все, – сказал Рихарде. – Они все у нас отобрали. Мы до сих пор ищем, но не можем найти… Все молодые ребята ищут что-то, чего больше не существует.
– Почему они не могут просто забыть об этом? – спросил Фишер.
– Можно ли забыть все эти годы? – спросил в ответ Рихарде. – Годы, которые мы потеряли? Которые сделали тебя тем, кто ты есть? Огромную дыру?.. Когда меня забрали, мне было семнадцать. Когда меня выплюнули обратно, мне было двадцать один. А потом этот период несчастий. Я повсюду ищу потерянные годы, но знаю, что мне их не найти никогда».
Позднее, размышляя об этом разговоре, Фишер задается вопросом: «Что же нас одолело?»
«Ответа он не знал… Разговор с Рихардсом не шел из головы, и он снова вспомнил о потерянных годах… Он гнался за потерянными годами, но так и не смог их нагнать…
Он говорил себе, что и без войны все могло пойти не лучшим образом. Но из-за войны по-другому быть и не могло… Война его уничтожила… Он не был единственным, но это не утешало. Были еще и миллионы других, но главным было то, что он – один из этих миллионов».
Для литературного Фишера и тех, кого он символизировал, война была вечной. Неважно, как быстро они бежали, но убежать от воспоминаний о пережитом или вернуть утраченные годы они не могли. «Огромная дыра» была не столько физической потерей этих лет, сколько чувством отчаяния, разочарования и меланхолии, сопровождавшим их в последующей жизни. Вот как Рихарде пытался объяснить это тем, кому не пришлось пережить эти годы:
«В начале 1946 года я вернулся во Франкфурт. Я жаждал новой жизни… Я говорил себе, что нужно забыть боль… Это позволило мне протянуть некоторое время… В первые месяцы после войны приходилось изрядно потрудиться, чтобы получить крышу над головой и набить желудок едой. Но, по мере того как все приходило в норму, появлялось все больше времени на раздумья… Тогда я понял, что живу без цели и смысла…
Проблема больше даже не в том, что это случилось, а в том, как это случилось… Они погибли бессмысленной смертью… Выброшенная жизнь. На этой войне миллионы людей погибли бессмысленно… и это было важно».
Для Рихардса, как, возможно, и для его создателя Хер-баха, покончившего с собой в 1988 году, единственным уроком войны стала ее бессмысленность: люди гибли ни за что, а другие потом влачили бесцельное существование.
Значительная часть военной литературы, опубликованной в Германии в первое десятилетие после войны, была литературой «маленьких людей», ефрейторов и рядовых, которые видели эту войну из окопов. Бывшие солдаты, писавшие, основываясь на личном опыте, такие как Михаэль Хербах, Генрих Герлах, Ганс-Гельмут Кирст, Вольфганг Отт и Вилли Хайнрих, стремились передать сущность войны «снизу», возможно, пытаясь таким образом прорвать собственную послевоенную изоляцию, донести сложность и неоднозначность своего жизненного опыта до других. Критики такого подхода, сами бывшие солдаты, такие как Генрих Бёлль и Альфред Андерш, отказывались воспринимать «нормальность» повседневной военной жизни, особенно на войне, которая велась за достижение целей национал-социализма, стараясь вместо этого показать, как война уничтожала жизни и индивидуальность тех, кто оказался втянут в нее. Между этими двумя полюсами лежала проблема интерпретации: следует ли показывать личные аспекты военного опыта, рискуя упустить из виду или преподнести как «норму» преступления нацистов, или необходимо уделять внимание более значительным вопросам вины нацистов и Германии, дистанцируясь при этом от страданий и точки зрения «маленького человека»?
Но на полках книжных магазинов оба подхода потерпели поражение. Хотя многие из ранних романов «простых солдат» переиздавались, а Бёлль как первый немецкий автор, удостоенный Нобелевской премии по литературе после Томаса Манна (1929 год), стал значительной фигурой немецкой литературной сцены, оба этих направления оказались в тени бульварного «военного чтива» – недорогих серий романов, регулярно появлявшихся в газетных киосках Германии. Публикуемые якобы для того, чтобы предостерегать против новой войны, на самом деле эти произведения размывали сложный солдатский опыт, сводя войну к идиллическому приключению, полному товарищества и отваги, в котором главный герой совершает захватывающие и романтические подвиги. Поскольку эти «романы» якобы изображают исторические события, а большинство их читателей не достигли двадцатипятилетнего возраста, существует риск повторения в Федеративной Республике волны военных романов, затопивших в свое время Веймарскую республику, в которых будет восславляться мнимое раскрепощающее действие войны.
По отношению к тем солдатам, чьи письма и дневники были опубликованы после их смерти или кто написал свои воспоминания позднее, популярность «военного чтива» является насмешкой над достоверностью их жизненного опыта. В огромной массе повседневных проблем, эмоций и суждений простой немецкий солдат в основном стремился остаться в живых и выполнить то, в чем, как ему говорили, состоял его долг. Только после войны многие поняли, что они стали не просто жертвами, но и исполнителями преступлений нацизма, и это понимание лишь усугубило проблему поиска смысла в войне и в их действиях. «Война закончилась. Молох вновь изрыгнул меня, – размышлял Вилли Шредер сразу после капитуляции. – Он пощадил меня не столько по моему желанию, сколько потому, что я это заслужил… опьяненный стремлением к разрушению, обрадованный раскрепощенной и беззаботной жизнью, очищенной страданиями, и глубиной и полнотой ощущений. Теперь все это позади, словно бред. Теперь я чувствую себя опустошенным и перегоревшим. И все же глубоко внутри остается нечто, чему еще потребуется немало времени, чтобы дозреть». Конечно, задним числом легко утверждать, что соучастие в злых делах разрушает. Однако в то время казалось странным, что юношеский идеализм способен привести к столь масштабным разрушениям. Всегда трудно избежать как идеализации, так и тривиализации «маленького человека», а попытка серьезного изучения повседневной жизни немецких солдат еще более осложняется куда более важным вопросом их отношения к нацизму и нередко широкой поддержки ими Гитлера и целей национал-социализма. Миллионы погибших в результате нацистской агрессии служат немым упреком тем, кто считает себя жертвами нацистского режима, острием которого они служили.
ГОРЬКАЯ ПРАВДА
Гложущее ощущение бесполезности, бесцельности смертей, утраченной юности, дней и лет, которые никогда уже не вернуть, мучившее многих солдат сразу после окончания войны, лишь осложняло их попытки примириться с прошлым. Тому же способствовали и противоречивые чувства относительно характера войны. Большинство из них, конечно же, были рады, что остались в живых. Л ишь позднее, когда они начали замечать, как пережитое за время войны влияет на их жизнь и характер, стала проявляться двойственность, сложность чувств. Большинство из них, столкнувшись с невероятными разрушениями и невиданными жестокостями, совершенными во время войны, неотъемлемой частью которой были они сами, понимали, что, как сказал Карл Пиотровски, «нет ничего хуже войны… Она хуже, чем жизнь в рабстве». Так, при попытках оценить уроки, извлеченные спустя десятилетия после этих событий, натыкаешься на ответы, повторяющиеся, словно мантры: «Война – это обман», «Нет ничего хуже войны», «В войну было хуже всего» и «Я больше не хочу иметь дела с политикой». Разумеется, все эти утверждения делались искренне и от всего сердца.
Однако проблема заключалась в том, что, отчасти вопреки самим себе, эти люди выражали противоположные эмоции, обнаруживая в себе положительные моменты военного опыта. Например, Пиотровски, несмотря на отвращение к войне, с трудом скрывал гордость за умения, технические и тактические навыки немецких солдат, «лучших солдат», которые добились бы успеха, если бы не материальное превосходство противника. Карл Фогт, хотя и признавал, что «страданий было так много, что больше нет сил их видеть», рассказывал, что голодал так, что ел березовую кору и траву и был готов «вцепиться зубами в человека», но тем не менее соглашался: «У меня остались о войне и хорошие воспоминания… Я видел прекрасные здания, прекрасные памятники. Изумительные церкви и иконы. Я бы никогда не увидел их, если бы не война». Фогт, бывший ученик пекаря, придавал войне некое «туристическое» значение, что было вполне обычно для простых людей, которые в суровых и пагубных, по общему признанию, условиях побывали в местах, которые в другое время были бы им недоступны. Даже осознавая все ужасы, Фогт верил, что он странным образом расширил свой кругозор, был сформирован и закален войной. Для него война сыграла почти такую же роль, как чтение романов Гёте или Манна о становлении личности.
Находились среди солдат и те, кто не считал войну злом, но таинственным, непостижимым для посторонних образом многие из них согласились бы с одним из своих товарищей, который в мае 1940 года назвал войну «величайшим средством обучения». Война формировала человека, она становилась «великим испытанием», «трудной, но важной школой, укреплявшей душу и закалявшей волю», школой, которая также учила понимать «истинную цену человека». Война, и с этим согласились бы практически все, кто пережил ее, стала «неизгладимым опытом, который позволил нам совершенно по-новому взглянуть на глубинные законы нашего бытия».
Практически все солдаты чувствовали, что военный опыт закалил их. Другим чувством, общим для многих солдат, была вера в то, что война вырабатывала уникальную форму дружбы, товарищество настолько крепкое, что Ги Сайер с полным правом мог назвать его «единственной наградой за жизнь в отчаянии». Сайер с готовностью признавал гнусность войны, но все же выражал чувство многих солдат, которые не согласились бы отказаться от нее, потому что она дала чувство товарищества, знания и ощущение приключения.
Другие воспоминания немецких солдат мало чем отличались от воспоминаний солдат других стран: гибель друзей или чувство вины за то, что остались в живых, озлобление из-за мелких несправедливостей армии, внутреннее смятение после получения приказа убивать, постоянный страх как часть жизни, запах смерти, стоящий над полем боя и не исчезающий с годами, неописуемое изнеможение, охватывавшее каждого фронтовика и не отпускавшее его, ярость и радостное возбуждение боя, чувство одиночества и нереальности происходящего на фронте и, не в последнюю очередь, нежелание думать о последствиях своих действий, о том, что гибнут другие люди. В этом замешательстве, в этом стремлении сохранить собственную жизнь, пытаясь отнять при этом чужие, в этом чувстве принадлежности к особому миру с собственными правилами поведения, изолированному от нормального общества, в признании того, что война оставила неизгладимый след в его душе и изменила его жизнь, немецкий солдат размышлял об общности ощущений на войне. «Не были ли мы, враги на поле боя, настоящими друзьями? – думал Ганс Вольтерсдорф, осматривая подбитый советский танк. – Товарищами по несчастью, которым на арене истории приходится вести игру на удачу и неудачу, на жизнь и смерть?» Ги Сайер заключил: «Когда-нибудь другие поймут, что люди по обе стороны конфликта могут ценить одни и те же достоинства и что боль не зависит от национальности».
Тем не менее в некоторых отношениях опыт немецких солдат отличался от опыта, например, американских. Товарищеские отношения, естественно, характерные не только для немецкой армии, тем не менее представляли более постоянную и существенную часть повседневной военной жизни. Руководство вермахта фактически возвело дух товарищества в ранг стратегической доктрины, видя в тесно сплоченных, сколоченных группах моральное средство, способное хотя бы частично компенсировать материальное превосходство противника. В организационном плане немецкая армия достигла значительных успехов в воспитании чувства семейственности. Набор новобранцев, обучение и политика пополнения частей, а также отношения между офицерами и рядовыми были направлены на создание и поддержание в солдатах чувства принадлежности к могущественному сообществу людей, объединенных общей целью, переносящих одни и те же трудности и разделяющих общую судьбу. Система обучения и пополнения частей в американской армии приводила к тому, что многие «джи-ай» жаловались на дезориентацию и полнейшее непонимание своих целей, а упор вермахта на групповую сплоченность обеспечивал более решительные действия со стороны немецких войск и более четкое ощущение ими своего предназначения. В результате того, что сплочению уделялось такое большое внимание, немецкий солдат обладал невероятной верой и уверенностью в способностях унтер-офицеров и младших офицеров, и это способствовало проявлению ими еще большего упорства даже в условиях максимального напряжения.
Свою роль играло и обучение. Многие немецкие солдаты твердо верили, что от них требуется больше, чем от американских солдат, точнее даже, что они должны делать больше, чем от них ожидается. Более того, немецкая тактическая доктрина, предоставлявшая офицерам даже на самом низком уровне командования известную свободу действий при выполнении поставленной задачи, позволяла вермахту получить в свое распоряжение казавшийся неисчерпаемым источник смелых, способных и быстро принимающих решения солдат, готовых в любой момент воспользоваться инициативой. Вопреки стереотипному представлению о немецких солдатах как об усердных роботах, способных лишь следовать приказам (такое описание на самом деле более соответствует британским или советским войскам, которые в отличие от американцев нередко проявляли необычайный недостаток гибкости и неспособность использовать полученный опыт), они демонстрировали прекрасное умение приспосабливаться к сложившейся ситуации. Выяснилось не только то, что немецкие солдаты при равной численности «наносили примерно на 50 % более высокие потери, чем несли сами при противостоянии британским и американским войскам», но и то, что немецкую армию, особенно на завершающем этапе войны, раз за разом спасало умение командиров собрать уцелевших солдат из разгромленных частей в спешно сколачиваемые сводные соединения, которые показывали в боях удивительную сплоченность и эффективность. В последнем случае успех сам по себе был наградой, поскольку, как правило, немецкий солдат до самого конца сохранял полную уверенность, доходившую почти до высокомерия, в собственном превосходстве, твердо полагая, что причиной падения Германии стал исключительно материальный перевес противника. Это личное превосходство, по его мнению, было следствием отличной подготовки, большей выносливости, более высокого боевого духа и лучшего командования – то есть результатом того внимания, которое уделялось в вермахте воспитанию духа товарищества и единения.
Тема семьи или сообщества охватывала также важное идеологическое измерение, и различные последствия этого также отличали немецкого солдата от американского. Вермахт не только подчеркивал понятие товарищества, но и использовал при этом строго идеологический подход. Фронтовое единство должно было стать ядром, вокруг которого сформировалось бы народное единство, хваленое национальное сообщество единения, родства и общих целей, обещанное нацистами. Поскольку это грядущее новое общество казалось многим немцам привлекательным, солдаты были борцами за идею в несколько большей степени, чем обыкновенно предполагается. Из их писем и дневников складывается впечатление, что многие немецкие солдаты шли в бой с ощущением участия в строительстве нового общества, мира новой формы и нового содержания, соответствующего нацистскому видению национального сообщества. Под, казалось бы, безобидным понятием верности своим товарищам и стране, таким образом, скрывалось прочное идеологическое ядро. Немецкий солдат, как правило, отличался более четким пониманием своего предназначения, чем американский «джи-ай», который зачастую осознанно отрицал наличие в своих действиях какой-либо цели, кроме как выжить и вернуться домой. Пол Фассел даже утверждал, что типичный американский или британский солдат действовал в условиях «идеологического вакуума» и мало понимал или вовсе не понимал, зачем нужна эта война и какую роль он сам играет в этом грязном деле. Хотя Фассел несколько преувеличивает, отказываясь принять во внимание то, насколько американские солдаты после краха иллюзий Первой мировой войны сознательно принижали любые проявления идеализма, опасаясь выглядеть наивными, или то, что говоря о том, что он сражается лишь ради возвращения домой, «джи-ай» подразумевал под этим, по сути, положительный смысл, который он считал самоочевидным, тем не менее справедливо будет утверждать, что немецкий солдат был заметно более идеологизирован, чем американский или британский.
Однако в некоторых важных отношениях это был извращенный идеализм, направленный на строительство нового мира, но проникнутый жаждой отомстить старому, направленный на строительство бесконфликтного внутреннего сообщества, но обвинявший предполагаемых врагов Германии в обширном заговоре с целью уничтожить это сообщество. Результатом этого, особенно на Восточном фронте, стала жестокая расовая война. Как отмечал Манфред Мессершмидт, уничтожение евреев, к которым можно добавить также и других «расовых врагов» Германии, предусматривалось в качестве конечной цели идеологической войны против России, и эта цель находила широкую поддержку в руководстве вермахта. Однако, как показывают письма и дневники, в бой ради нацистской идеи шел не только офицерский корпус, но и рядовые солдаты. Отчасти это было следствием манипуляции и использования нацистами ранее сложившихся убеждений. В конце концов, значительная часть солдат выросла в атмосфере мифов Первой мировой войны: когда Германия, как и в 1914 году, казалось, была окружена врагами, борьба против этого окружения казалась многим жизненно необходимой для выживания нации, особенно учитывая воспоминания о блокаде Союзников, которая удушила Германию и привела ко множеству жертв среди мирного населения. К этому «коктейлю» примешивались давние идеи социального дарвинизма, согласно которым сообщества, как и индивидуумы, ведут постоянную борьбу за выживание, а также вскипающее недовольство тем, что бедная ресурсами Германия была обманута не только природой, но и другими участниками колониальной гонки. Как следствие, идеи национал-социализма, такие как идея «жизненного пространства», нашли широкую поддержку среди простых солдат, которые верили, что Германии нужны новые территории, чтобы обеспечить себе будущее в мире, полном держав-хищников. В конце концов, схожие идеи, вроде идеи «Срединной Европы», пропагандируемой в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, уважаемыми интеллектуалами, носились в воздухе уже долгие годы.
Таким образом, неудивительно, что немецкий солдат, как правило, поддерживал и с готовностью принимал националистическую риторику нацистов и их обещания исправить несправедливости Великой войны и покончить с унизительной и ненавистной системой, установленной Версальским договором. Однако верность идеям нацизма не ограничивалась простым шовинизмом. В равной степени заманчиво выглядели обещания национал-социалистов покончить с хронической внутренней раздробленностью и классовыми противоречиями, помешавшими демократическому эксперименту Веймарской республики, открыть возможность для получения образования и карьеры в соответствии со способностями, а не социальным положением. И снова эти взгляды вполне соответствовали легенде об эгалитарном окопном братстве, где пуля не делала различия между классами и где продвижению способствовали заслуги, а не связи. Идея «народного единства» находила поддержку среди солдат, поскольку нацистский режим, казалось, был всерьез намерен ее реализовать. Пусть и не полностью, но в 1930-х годах нацистам удалось в достаточной степени очертить контуры нового общества, чтобы убедить многих простых солдат, особенно молодых людей и выходцев из рабочей среды, в том, что обещанная социальная и экономическая интеграция была реальна.
Вырабатывая эту зачастую удивительно глубокую верность немецкому национальному сообществу, нацисты одновременно закладывали основу для столь же пылкой ненависти и презрения к тем, кто не входил в «народное единство». Здесь нацистская пропаганда вновь сумела сыграть на господствовавших стереотипах и поверьях. Идея нарастающей угрозы со стороны России, «азиатских орд» с востока, укрепилась в народном сознании в беспокойные годы, предшествовавшие началу Первой мировой войны, и большевистская революция, сопровождавшаяся жестокостями, не способствовала устранению ощущения этой угрозы. Достаточно внимательный читатель немецких газет 1920-х – начала 1930-х гг. был хорошо информирован (куда лучше, чем житель Лондона или Нью-Йорка) о разных зверствах, которые творили большевики, и в особенности Сталин, с населением Советского Союза. И хотя последние исследования показывают, что антисемитская пропаганда нацистов так и не смогла выполнить задачу возбудить ненависть к евреям среди простых немцев, она тем не менее способствовала изоляции евреев в немецком обществе и как минимум утрате простыми немцами интереса к судьбе сограждан. Даже если нацистской пропаганде и не удавалось подвигнуть немецких солдат на массовое истребление еврейского населения, они оставались безразличными к судьбе евреев, что позволяло тем, кто руководил машиной уничтожения, беспрепятственно делать свое грязное дело.
Как следствие, хотя простой солдат считал себя приличным человеком, нацистское видение «народного единства», основанного на расовом подходе, было в определенной степени реализовано на Восточном фронте, где идеология и полученный опыт дополняли друг друга. В письмах и дневниках солдат практически не найти какого-либо реального несогласия с взглядами нацистов на врага как на недочеловека, заслуживавшего сурового обращения, какого-либо протеста против особых методов обращения с евреями. Поскольку граждане Советского Союза вполне соответствовали расовым стереотипам нацистов, советская система рассматривалась Гитлером как часть «еврейско-большевистского заговора», а сама страна казалась простым немецким солдатам настолько отсталой, жестокой и угрожающей, что расовые понятия, идеология и личный опыт тесно переплелись в их сознании, образовав совершенно уникальный страх. Идеология, объективные условия повседневной жизни в России и хаос и трудности войны на востоке создавали обстановку всеобщей ненависти, и солдатам вермахта казалось, что они ведут войну ради защиты немецкого общества от «азиатско-еврейского» влияния, направленного на уничтожение рейха. Руководство вермахта старательно убеждало солдат в том, что они жертвовали собой ради высочайшей и важнейшей цели, что они были фактически крестоносцами, призванными принести пользу народу Германии, что в борьбе за существование дозволены практически любые средства. Поэтому солдаты, особенно на Восточном фронте, вполне реально жили в условиях национал-социалистского мировоззрения, что придавало им удивительное упорство и решительность, но в то же время толкало на совершение варварских зверств по отношению к противнику, которого считали недочеловеком.
Учитывая в целом более глубокую идеологизированность немецкого солдата, другим фактором, отличавшим его от американского «джи-ай», была более суровая дисциплина, требованиям которой он подчинялся. Этот парадокс нелегко объяснить. Нельзя довольствоваться простым объяснением, что армия США была на удивление снисходительна и либеральна. Отчасти жесткая дисциплина была логическим следствием политического устройства, требовавшего безусловной верности и повиновения как от военного руководства, так и от рядовых военнослужащих. Омер Бартов отмечает, что политизация дисциплины была тесно связана с политизацией армии в целом, поскольку среди рядовых распространились идеологические и юридические концепции нацистов, а также соответствующие правила поведения. Как следствие, действия и поведение, которые в ином случае были бы проигнорированы или повлекли бы за собой устный выговор, стали рассматриваться как политические преступления, нередко гарантировавшие жестокое наказание. Более того, по мере того как рядовой состав немецкой армии пропитывался расовой идеологией нацизма, начался любопытный и многогранный процесс ожесточения. Поощряемый нацистской доктриной (и своими вышестоящими офицерами), немецкий солдат в России был волен совершать практически любые преступления вплоть до грабежа, насилия и убийств, если они были направлены против так называемых «расовых врагов» немецкого народа. Он не только редко подвергался наказанию, но и часто удостаивался похвалы за проявление расовой и идеологической сознательности. Поэтому едва ли стоит удивляться тому, что советские солдаты также ответили на это страшной жестокостью. По мере того как бои на Восточном фронте достигали накала, невиданного на других фронтах Второй мировой войны, и по мере того как немецкие солдаты все чаще стремились избежать передовой, вермахт начал применять жестокие меры для поддержания дисциплины, направленные на то, чтобы солдаты больше боялись собственного командования, чем противника. Поскольку это была идеологическая война во имя «народного единства», любой, кто делал меньше, чем того требовал его долг, считался изменником фюреру и народу и должен был понести соответствующее наказание. Наконец, когда нацистский рейх начал рассыпаться на последнем этапе войны, железная дисциплина стала рассматриваться как единственное средство, способное предотвратить катастрофу. На наиболее частном уровне солдат в окопах, таким образом, подвергался идеологической обработке, призванной прояснить для него цели войны и пробудить в нем желание пожертвовать собой ради высшей цели, одновременно угрожая ему исключительно жестокими наказаниями, если его усилия от имени народа сочтут недостаточными.
Возможно, именно из-за постоянного присутствия смерти, которая, казалось, таилась повсюду, письма и дневники немецких солдат обладают глубиной и вдумчивостью, которые реже встретишь в более приземленных и прямолинейных записях американских солдат. Немецкий солдат не только с большим фатализмом относился к вероятности смерти, но и придерживался точки зрения на мир и на свое место в нем, которая отводила особую роль судьбе. Более того, он чаще наделял войну качествами романтического нигилизма. Немецкий солдат размышлял о ядовитой сущности войны, раздумывал о ее внутренней природе и сути, рассматривал ее как пугающе прекрасную драму. Война по необходимости была борьбой за существование, в которой разрушение было неизбежно, и в процессе разрушения солдаты получали облегчение, возможность ценить полную свободу от каких-либо ограничений, вступить во владения неразборчивой смерти, где они могут дать волю своим самым примитивным чувствам и желаниям. Слова о том, что нужно разрушать, чтобы выжить, что понять жизнь можно лишь после того, как столкнешься со смертью, что самая вольная жизнь – это жизнь, полная опасностей, или что самопожертвование служит некоей высшей цели, казались бы чужеродными в письме «джи-ай», но не в письме немецкого пехотинца. Немецкий солдат в прямом смысле стал думать и действовать как солдат, тогда как большинство американцев так и оставались гражданскими, одетыми в неудобный мундир.
Несмотря на эти различия, представление немецкого солдата о самом себе не слишком отличалось от «джи-ай». Он считал себя приличным человеком, который оказался втянут в огромное, безликое предприятие, угрожавшее его физическому и духовному благополучию. Он беспокоился о жене или любимой и о семье, оставшейся дома, особенно о том, что его брак может распасться или что жена или девушка изменят ему. Он беспокоился, не пострадает ли в его отсутствие его ферма или дело и что он может остаться без работы, вернувшись с фронта. Он беспокоился о собственном духовном и психологическом благополучии и размышлял о том, как война со всеми ее убийствами и жестокостями может изменить его и тех, кто остался в тылу. Он терзался мучительными сомнениями и хотел, чтобы его убедили в том, что он поступает правильно. Он понимал, что является расходным материалом и что с уровня земли война казалась, как писал американец Ю.Б. Следж, «жестокой, бесславной и ужасно расточительной», поэтому отчаянно хотел знать, за что он воюет.








