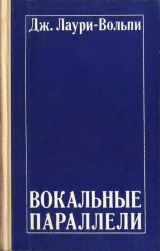
Текст книги "Вокальные параллели"
Автор книги: Джакомо Лаури-Вольпи
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
Немецкая школа стремилась умерить неудержимый и неестественный «виртуозизм» итальянского бельканто и чрезмерный «экспрессионизм» французской школы: барокко и рококо должны были слиться вместе, чтобы эмоция и мысль заняли подобающее им место.
В период романтической школы и затем школы музыкальной драмы утвердился метод, позволивший человеческому голосу искать выражения в естественной тесситуре. Этот метод не признавал «ангельских» акробатизмов, обязанных своим происхождением физиологической деформации, и дал возможность вернуться на сцену (после векового отсутствия) женским сопрано, тенорам и баритонам и достичь неслыханной популярности, часто позволявшей им своевольничать. Произвол певцов, которые по своему капризу изобретали каденции и вставки, прекратил Джоаккино Россини. Маэстро сам устанавливал и записывал каденции и фиоритуры, согласовывая их с характером музыки. В «Вильгельме Телле», своем бессмертном шедевре, он достиг высочайших вершин вокальной музыки. Его наследником был Беллинн, чья музыка по своей мелодической линии восходит к самым строгим классическим формам, не отказываясь, однако, и от чувствительности самого чистого и благородного романтизма. Затем, через доницеттиевскую оперу путь ведет к зрелому и мощному вердиевскому романтизму, в мужественности и эпичности которого итальянская школа находит свое наивысшее выражение.
Вердиевские голоса и вердиевская школа отличаются от вагнеровских голосов и от немецкого декламационного стиля (ведущего свое происхождение от стиля Глюка) большим разнообразием, потому что исполнение вердиевской музыки требует владения всей вокальной гаммой и способности выражать любые оттенки в лирическом, героическом и драматическом плане. Это различие между двумя школами имеет существенный характер, и знание его необходимо учитывать при отборе и определении голосов.
В конце XIX и начале XX века возникла французская импрессионистская школа во главе с Дебюсси. По канонам этой школы пропетое слово должно незаметно переходить в шепот, в декламацию благодаря некой атмосфере сна или галлюцинации. В противоположность ей, существовавшая одновременно с нею итальянская веристская школа вовсе не заботилась о сохранности голосовых связок певцов. Оркестр, который в музыкальной драме достиг грандиозных размеров, оставляя, однако, певцам возможность быть услышанными, а словам – возможность быть понятыми, теперь совершенно подавил и голос и слова из-за неумеренного звучания духовых инструментов. Густая оркестровка и тенденция заставить певцов состязаться с оркестром должны были побудить новые школы пения заняться развитием объема звука, а не обогащением его тембра.
ЭВОЛЮЦИЯ ВОКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Любое обучение предполагает наличие школы. Эволюция различных методов преподавания тесио связана с эволюцией школ пения, различных по своему стилю и меняющихся в зависимости от изменения вкусов и мод. Мы говорили уже, что было бы логично считать неизменным музыкальное формирование певческих звуков, которые по своей природе зависят от биологической фонетики, основывающейся на неизменных законах. Однако преподавание вынуждено было менять свои методы и критерии в соответствии с практикой дыхания, с представлением о нем и с различным использованием резонаторов. С 1650 по 1800 год благодаря господству «мужских сопрано», фальцетистов, умело пользовавшихся результатами кастрации, биологическая фонетика певческого голоса претерпела радикальные изменения. Кастраты господствовали не только в церквах и капеллах, но и в театрах, переодеваясь, чтобы исполнять женские роли. Об их блестящем искусстве – вспомним Фаринелло, Джициелло, Маркези, Веллути, Мустафу, Морески – оставили авторитетные свидетельства среди прочих также Казанова и Россини.
Пандзакки в книге «Мои воспоминания» рассказывает чудеса о голосе одного музыканта, которого он слышал в соборе св. Петра во время пасхи. Даже голоса Патти, Котоньи и Маркони звучали натужнее и были менее чисты по тембру по сравнению с этим светлейшим голосом, который, казалось, не встречал никаких трудностей, поднимаясь все выше и выше до самых высочайших нот.
Мнения о бесполых голосах не всегда были благосклонны. Не приходится удивляться той легкости, с которой эти голоса брали самые высокие ноты без малейшего усилия. Мужчина-сопрано, отказавшись от всех атрибутов своего пола, как бы отрешается от всего земного, что и произвело на Пандзакки впечатление голоса из других сфер. Но какая разница, если сравнить с ним теплый и волнующий голос сопрано-женщины, которому Беллини поручил даже партию Ромео в своей опере «Капулети и Монтекки»!
По этому поводу Берлиоз, услышавший беллиниевскую оперу во флорентийском театре «Пергола», возмущенно восклицал: «Праведное небо, да почему же это любовник Джульетты должен быть лишен мужественности?… И для чего “тогда тенора, баритоны, басы?»
Конечно, сопрано-мужчин, певцов-кастратов, так же как и сопрано-женщин, можно упрекнуть за многие художественные погрешности, но с точки зрения чисто вокальной некоторые из них заслуживали подлинного восхищения и оставили после себя долгую память. Фаринелло в Испании своим голосом излечил от мрачной меланхолии Филиппа V и спас от смерти Фердинанда IV. Паккьяротти очаровал своих современников. Вернон Ли называет его «прекрасной душой» зари романтизма.
Эти сопрано-мужчины обладали удивительной школой, позволявшей им извлекать из гортани небесные
звуки редкой красоты и чистоты. Однако эти двуполые существа были часто так чудовищно тучны – физиологический результат кастрации,– что многие предпочитали отказаться от наслаждения слышать это сладостное пение, чтобы не видеть этого удручающего зрелища.
Это смешение полов продолжалось целых полтора века. Опера, так блестяще дебютировавшая благодаря сестрам Каччини и Аркилли, постепенно хирела; благодаря трелям и причудливым вокализам виртуозов она утратила классическую «меру». Не было больше музыкальных композиций, были лишь капризы кастратов, соблазняющих женщин и мужчин.
Уже начиная со времен Палестрины церковь исключила из хоров Сикстинской капеллы женские сопрано, приглашая петь испанских фальцетистов. Но затем и они, вовсе не обладавшие, кстати, чистотой верхних нот и твердостью дыхания, были удалены и заменены бесполыми певцами.
И, наконец, папа римский Джузеппе Сарто ввел «белые голоса» мальчиков-певцов вместо мужских сопрано. Последнего из них, Мустафу, заменил на посту руководителя этой знаменитой капеллы дон Лоренцо Перози.
Женщин не принимали ни в театр, ни в церковные хоры. В драматическом театре в женских ролях выступали переодетые мужчины, а лже-мужчины пели в опере и в капеллах.
Поэт Метастазио знаменует собой переход от старой итальянской литературы к новой. Старая литература постепенно исчезла в музыке, превратилась в ее служанку, в пустую форму для пения. В моду вошла сельская идиллия, безмятежность и довольство. Драма могла быть лишь музыкальной, и музыка в ней была главным. Социальной напряженности барокко XVII века был положен конец. Отсюда праздность музицирований, нега и элегичность, век рококо – время жуиров. Все это нашло отражение в том, что называли мелодией.
Пасторальная драма стала музыкальной драмой, чтобы освободиться от оперы, которую кастраты исказили и испортили, нарушив даже отношении полов. Тем, что он стал первым поэтом оперы, Метастазио был обязан Марианне Бетти-Булгарелли по прозвищу Ро-манина. Ей он обязан своим знанием оперного театра и музыки, которой он обучался у великого Порпора, после того как был представлен ему певицей. Рим сделал из него певца Аркадии, а Романина – поэта, поэта оперы. Вдохновленный и руководимый этим сопрано (на сей раз принадлежавшим женщине), он написал «Покинутую Дидону», принесшую ему славу и положение. Тем самым было положено начало оперной поэзии, то есть поэзии, уже преображенной музыкой, но не утратившей литературных достоинств, не пустой, не безвкусной и не приторной. «Дидона», по форме бывшая трагедией, но по сути глубоко комичная, выражала душу итальянца того времени. Трагический элемент здесь являлся лишь предлогом для чудес, которые комическая струя превращала в гротескный реализм, в окарикатуренную повседивность. Отсюда мелодраматический героизм, Цезарь, который бренчит на виоль д’амур, почесывая лысину, увенчанную лаврами. Доблесть на сцене стала явлением необыкновенным, никто не стал бы подражать ей в частной жизни. Не вернулись ли мы сегодня к тому же?
Но вот философы восстают против пустоты, аморфности, евнухизма и «изящного» стиля в жизни, а критики – в литературе. Близится время Глюка, Спонтиип и Керубини. Вырисовываются пока еще бледные, предрассветные тени неоклассицизма, за которым последуют романтизм и натурализм.
Лишь в конце XVIII века примеру Романины осмелились последовать настоящие «примадонны»: Сузанне Банкьери, Канчетта Матрилли, Анна Приори, Тереза Бертинатти, как об этом пишет музыковед Альберто Каметти. С восстановлением прав мужчины также и права женщин и женских голосов стали уважаться. И, наконец, женщины в женских одеждах появились на сценах оперных театров. Мужчины постепенно смирились и перестали переодеваться и калечить себя, чтобы петь в неестественном и недозволенном им регистре, жертвуя своим полом и достоинством.
Эволюция вокального преподавания затрагивает два аспекта: технический и стилистический. Первый касается формирования певческого инструмента и умения им пользоваться; второй – воспитания вкуса и чувства прекрасного, проявляющегося при исполнении музыки.
В древности проблемы вокальной техники затрагивали Гиппократ и Гален, тогда как стилистический аспект с точки зрения моральной и эстетической был разобран Платоном в его «Республике». Затем с течением времени вокальная педагогика принимала самые различные формы, по-разному интерпретируя принципы, сформулированные бессмертными гениями той Эллады, которая представляла себе вселенную как равновесие противоположных начал, как гармонию разнонаправленных сил, «подобную тому, что мы наблюдаем в лире или луке».
Еще 2500 лет назад Гиппократ написал, что голос рождается в голове, то есть в черепных полостях. Он хотел этим сказать, что действительно звучащим телом является воздух, а качества самого звука зависят от резонанса. Звук, лишенный резонанса,– это звук мертворожденный, и распространяться не может.
Галей же, со своей стороны, утверждал, что голос рождается в груди. Обратите внимание, он не говорит, в горле, где находится вибрирующее тело. Потому что и Гален тоже признает безусловное и существенное значение звукового резонанса. Он только приписывает главную роль при этом грудным полостям. Ни Гиппократ, ни Гален не упоминали, таким образом, о голосовых связках. Этим они становились на позиции ионической школы, говорившей: «Как нас поддерживает душа (которая есть воздух), так дыхание и воздух окружают всю вселенную».
Из этого следует, что преподавание должно было уделять главное внимание певческому дыханию и распространению звука.
Метод Гиппократа и метод Галена породили расхождение во мнениях и в педагогических приемах, расхождения, существующие до сих пор и до сих пор проявляющиеся, часто в гротескной форме, в преподавательской практике в консерваториях, и в частных школах. Но совершенно очевидно, что гиппократовская теория звукоэмиссии, которая затрагивает ротовую полость и органы словесной артикуляции, более созвучна платоновской теории музыки и пения.
Этот великий философ утверждает: «Музыка проистекает из союза трех элементов: слова, гармонии, ритма». Та ее часть, которая представлена словом, «не отличается от слова обычного, непропетого», произносимого по всем правилам нормальным человеком. Главное – это «красота и совершенство дикции, которая должна соответствовать характеру души. В пении не нужно ни жалоб, ни плача». Разве не выражена здесь в совершенстве суть вокальной педагогики?
Платон ненавидит ионическую и лидическую школу пения, потому что она «изнеженная и пустая, дифирамбическая и оргическая», и восхваляет пение дорическое и фригическое, потому что оно мужественно, благородно, героично и достойно, как он говорит, настоящего человека. Он отождествляет, таким образом, в своем учении Красоту и Добродетель. Да, эстетика и мораль тесно связаны между собой, гораздо теснее, чем это думают поклонники искусства для искусства.
Сегодня мы знаем, что слово как материальное выражение мысли и переживаний при своем распространении использует больше черепные полости, чем грудные. Обучение, таким образом, должно быть подчинено воспитанию мысли и формы и достигает оно высоких результатов тогда, когда слово и звук сливаются между собой. И наоборот, если слово начинает превалировать над звуком или звук над словом (при этом чересчур активно работают одни органы и вовсе исключаются другие), пение и, соответственно, его преподавание приходят в упадок, искажаются и, наконец, приводят к вырождению чувства и понятия Прекрасного.
«Техническое» обучение господствовало в течение полутора веков, в период барокко и затем в период рококо, так что техницизм совершенно возобладал над выразительностью.
«Экспрессивное» обучение, ставящее своей целью именно «выразительное пение» и предполагающее активнейшее эмоциональное напряжение, чуждое бесполым голосам, расцвело в XIX веке, во время романтического периода, которому предшествовал переходный период, характеризовавшийся жаркими схватками между певцами и композиторами, между старой школой и новой, схватками, достигшими своей кульминации в поистине трагическом поединке двух знаменитых французских певцов: Нурри и Дюпре. Первый был представителем декоративного, орнаментального стиля, наследовавшего традиции мужских сопрано предыдущего века и принятого школой великого тенора Мануэля Гарсия. Нурри пел нормальным и полным голосом в диапазоне до верхнего си-бемоль с использованием соответственно «мужественных» резонаторов. Но выше этой ноты в регистре высоком и сверхвысоком он, изменяя
характер звукоподачи, менял и тембр голоса, который начинал звучать наподобие голосов кастратов. Голос его, таким образом, оказывался как бы разнородным и двуполым. Второй же из этих певцов был представителем новой школы, он обладал голосом мужественным, звонким, героическим. Он произвел глубокое впечатление на публику, очаровал ее, и она отдала пальму первенства этому пионеру новой школы и нового стиля, учитывавшим законы природы и особенности пола. Полем битвы был Парижский оперный театр, а произведением, в исполнении которого они мерялись силами,– «Вильгельм Телль» Россини. Тенор Дюпре* доказал, что можно было исполнить трудную музыку и достичь при этом неслыханных высот, вокализируя в полный голос с участием всех резонаторов и сочетая дыхание диафрагмальное с реберным и брюшным, то есть заставляя участвовать в вокальной фонации все свое тело.
Нурри, совершенно убитый огромным успехом своего противника, покинул Парижскую оперу, выступал еще некоторое время, а затем отправился в Неаполь и там покончил с собой в возрасте всего лишь 35 лет, исполнив перед этим партию Полиона в «Норме» Беллини. Его останки, как мы уже упоминали, были перенесены из Неаполя в Марсель.
* Берлиоз в своих мемуарах рассказывает, что лет за десять до того как Дюпре прославился в «Вильгельме Телле», он пел легким тенорком, который затем развился и стал «великим голосом первого тенора». Однако в арии «Слёз немой приют» из «Вильгельма Телля» ему никогда не удавалось пропеть ноту соль-бемоль, энгармоничную фа-диезу. Он всякий раз заменял ее чистым фа, что, как утверждает Берлиоз, «было плоско и грубо, и начисто разрушало всю прелесть модуляции».
Однажды, возвращаясь с загородной прогулки вместе с Дюпре, Берлиоз тихонько напел ему на ухо россиииевскую мелодию с соль-бемолем во фразе «Который столь дорог мне был», непосредственно предшествующей тематической репризе в натуральном ладу.
«А, вы меня критикуете! – сказал Дюпре.– Может быть, вы и правы. Хорошо, впредь я буду петь ваше соль-бемоль».
Берлиоз утверждает, что Дюпре, несмотря на обещание, так никогда и не смог его пропеть, и считает, что «такое оскорбление музыки и здравого смысла» объяснялось капризной экстравагантностью певца. Но совершенно очевидно, что этот полутон иа переходной ноте не давался голосовым связкам Дюпре, и он, чтобы избежать унизительно пискливой йоты, предпочитал не из-за каприза, а по необходимости заменять его этим несчастным компромиссным фа. Какая уж тут экстравагантность!
По дороге в Генуе их почтил Паганини, а также Жорж Санд и Фредерик Шопен, приехавшие из Пальма ди Майорка, чтобы отдать последнюю дань прославленному певцу.*
Этот переходный период продолжался еще некоторое время. Он ознаменовался искусством таких певцов, как Рубини и Марио де Кандиа, поочередно упражнявшихся в пении выразительном и пении украшательском, пении неестественном и пении спонтанном и эмоциональном, но не выработавших, однако, средней линии мецца воче, которая является нормой для мужского голоса и не чревата прерывистостью звукоподачи, столь заботившей великих композиторов того времени.
Рихард Вагнер, послушав Рубини в «Дон-Жуане», вышел из театра раздраженный и возмущенный его манерой пения, в которой вычурность и аффектация диктовали достойные порицания развязные переходы от виртуозного штукарства к едва слышному шелесту «sotto voce». Точно так же Арриго Бойто в самых резких словах отозвался об искусственном и безвкусном пении Марио де Кандиа, которого он слышал на одном концерте в Париже, о полном разрыве у него между словом и звуком.
* Нурри с увлечением разучивал новую оперу Доницетти «Полиевкт», которая в 1838 г. должна была впервые пойти на сцене «Сан-Карло» в Неаполе. Однако под предлогом недозволенности сюжета религиозного содержания правительство запретило представление, и Нурри, глубоко расстроенный, в минуту отчаяния покончил с собой. Десять лет спустя его соперник Дюпре пел в премьере «Полиевкта» в Париже.
Преподавание пения по-настоящему выполняет свою роль лишь тогда, когда ему удается сформировать у певца навыки владения тембрами своего голоса и когда оно не заботится о силе звучания, а ставит своей целью добиться равномерной прозрачности всей гаммы, однородности двухоктавного диапазона, охватывающего три регистра человеческого голоса. Эти свойства, приобретаемые упорным развитием природных данных, придают голосу эластичность, столь необходимую для выработки настоящего мецца воче. Они не дают ему превращаться в фальцет, являющийся как бы голосом в голосе, уберегают его от дуализма (которого не было у сопранистов, потому что они пели в диапазоне женского сопрано и сохраняли компактное единство всего звучания; это были бесполые голоса, но ровные, гибкие, нежные).
После триумфа мужественного искусства Дюпре и стиля вокального речитатива, публика стала все более ценить монолитность мужских голосов и приняла то разделение голосов на различные категории, которое признается и сегодня. Согласно ему стали распределяться роли на оперной сцене, стал определяться характер персонажей и характер музыки, подобно тому как партия скрипки отличается от партии виолончели, а партия виолончели – от партии контрабаса. С появлением опер Верди и Вагнера эта специализация получила широкое признание; в новом репертуаре певцы могли целиком раскрыть свой талант, придавая должную четкость певучим речитативам и теплоту и колорит модуляциям и переходам в соответствии с характером и требованиями новой музыкальной драмы. Однако со временем вкусы изменились и преподаватели пения, вместо широкого, страстного, ровного звучания, вынуждены были добиваться теперь чрезмерной словесной экспрессивности в ущерб «звуковой форме». Стиль «разговорного пения» привел к тому, что певцы забыли один из основных законов оперы, согласно которому тембр голоса должен зависеть от нот, должен быть «привязан к тональности». В связи с этим стоит вспомнить, что Берлиоз, послушав, как знаменитая Девриен, с ее антимузыкальной декламационной манерой, делала в «Гугенотах» разговорные вставки, отказался слушать пятый акт оперы, сказав своим друзьям: «Разговаривать в опере – это в тысячу раз хуже, чем петь в трагедии» *.
Правда выражения, предполагающая чистоту стиля и величие форм,– это то, к чему стремятся все школы, и она должна лежать в основе обучения во все времена. К сожалению, культ драматической декламации постепенно превратил пение в чисто словесные экзерсисы, сопровождаемые ревом оркестра.
Певец, реагируя на эту агрессивность оркестровых инструментов, инстинктивно стремится увеличить силу звучания, чрезмерно развивая грудные резонаторы, и за несколько лет совершенно разрушает свои дыхательные органы, что гибельно сказывается как на качестве звучания, так и на здоровье.
Как реакцию на такое положение можно расценивать возникновение «микрофонного» пения и возврат к декоративному украшательскому пению сопранистов, которых, как мы уже говорили, вытеснили в свое время женские сопрано и мужские голоса. Микрофон дает тембр, усилитель – громкость, а певец – дыхание и свой вкус, если он его имеет. Сегодня достаточно взять микрофон и подышать в него, чтобы получить готовый голос.
* Мы и сегодня можем слышать, как тенора не то чтобы скандируют, а просто декламируют заключительные слова ариозо Шенье: «Душа и жизнь мира – любовь»; слова эти, начисто лишенные вокального одеяния, жестко, безо всякого «легато», бросают в публику с пафосом заправских ораторов. И так оскверняют пение певцы, считающиеся первоклассными! А «интеллигентная» публика им бешено аплодирует. Напрасно критика пытается образумить публику и разносит кощунствующего певца. «Мы должны стыдливо опускать глаза,– говорят критики,– когда французы с плохо скрытой иронией упрекают нас за дурной вкус, а не возмущаться». Разве они не правы, когда горячо протестуют против, например, того, как изнеженные «итальянские» Де Грие вставляют колоратурные форшлаги в свои «Грезы» на словах «гимны поют вместе с птицами»? Французы не могут похвастать хорошими голосами, но зато они умеют отличать разные стили и разные методы и понимать авторский замысел.
Машинная виртуозность отвергла терпеливое обучение, ставившее своей целью восполнение тембровых провалов, разработку резонаторов и густоту вокальной гаммы. Машина – королева атомного века. Она думает, считает и поет, заменяя собой человека и экономя его энергию, и человеку остается лишь угождать ей, не прилагая при этом физических усилий и не мучаясь поисками звучаний и акустики – машина дает ему и то и другое. Спор между так называемыми «театральными» и «микрофонными» голосами остается на мертвой точке. Публика колеблется, не понимает, не может сказать решающего слова. Сопранисты были настоящими фальцетистами по причинам анатомическим, что не избавляло их от жестокой дисциплины и упорной учебы, продолжавшейся в течение семи лет под строгим руководством авторитетных преподавателей, чаще всего прославленных композиторов. Для микрофонов же вовсе не нужно обладать сильными, звучными голосами. Машина воспринимает звук, усиливает его, высветляет и заставляет его звучать так, что слушатель думает, будто это мощный и исключительный по своей природе голос. Результаты обучения так называемых «фоногеничных» голосов известны всем.
Подведем итог. Вокальная педагогика за последние четыре века шла в своем развитии скачками от Каччини к мастерам украшательского бельканто, от них к Гарсиа, к Дюпре и Котоньи, к сестрам Маркизио и т. д., а теперь, наконец, пришла к сегодняшним педагогам, которые воспитывают голоса для артистической деятельности в самых различных направлениях, при помощи самых разнородных методов. Театру нужен тембр, микрофону – приглушенность звучания и широта диапазона. Переживаем мы период развития или упадка? Меняем ли мы курс или движемся вспять? Нельзя отрицать того, что мода, вкусы и экзистенциализм повлияли как на каноны, так и на формы вокального искусства.
ИМЕЕТ ЛИ МЕСТО КРИЗИС БЕЛЬКАНТО?
Где сегодня те артисты, которые обладали бы голосом, душой и характером, способным оживить необычайных героев, которых Верди ставит перед нами как проблемы?
Б. Барилли
–
Неверно было бы говорить о кризисе бельканто, если под бельканто понимать то декоративное украшательское пение, официальная смерть, которого была провозглашена еще парижской публикой, той публикой, что в знаменитом поединке Нурри – Дюпре присудила победу последнему, представлявшему собой новую школу пения, экспрессивную и эмоциональную.
Гораздо важнее обратить внимание на кризис того «бельканто», того «прекрасного пения», которое прекрасно не из-за украшений и причудливых завитушек, но благодаря такту и ритму, модуляциям и выразительности всей гаммы. Этот род бельканто переживает кризис по многим причинам, и главная из них – это разрыв между духом и формой. Именно из-за этого разрыва публика предпочитает легкую музыку или иного рода развлечения, а также спортивные представления. Таким образом, в кризисе, певческого искусства, которое, однако, все еще имеет своих преданных сторонников и особую публику из любителей, отражается кризис музыки, которая отказалась от вдохновения и доверилась технике, методу, мастерству; кризис же музыки проистекает от сегодняшнего кризиса всех духовных ценностей вообще.
Но в то же время никогда еще столько не занимались пением и музыкальным сочинительством, как в нашу эпоху. Благодаря техническому прогрессу и развитию общественных связей певцы получили многочисленные возможности быть услышанными и оцененными на всевозможных конкурсах, прослушиваниях, музыкальных состязаниях. Нет такой цивилизованной страны, в которой не было бы оперных театров и не устраивалось бы концертов вокальной музыки. Записи опер и их трансляция по радио, музыкальные фильмы, пластинки с музыкой самых различных жанров, вкусов и стилей сделали общедоступным искусство пения и изощрили слух. Так что сегодня гораздо легче услышать приятных домашних певцов, руководствующихся собственными эстетическими критериями, чем во времена расцвета оперного театра, когда он блистал необыкновенными голосами и был достоянием немногих избранных. Тогда радиопередачи не несли в самые скромные дома или траттории, затерянные в горах и полях, гениальную музыку и чудесное звучание прославленных голосов.
В наши дни тысячи молодых людей посвящают себя вокальным занятиям, хотя они и обладают голосами весьма посредственными или просто плохими, в надежде, что если не в опере, то по крайней мере в кино, на радио или телевидении они найдут себе место и завоюют славу и богатство. Чтобы добиться этого, вовсе не нужно иметь «голос, голос и голос» и долгое время изнурять себя упражнениями, как учил Россини. Достаточно иметь хоть какие-то голосовые связки, смелость и везение. Таким образом, сегодня можно говорить о качественном кризисе, но не о количественном.
В оперном театре дирижеры* за редким исключением, делают все, чтобы похоронить в оркестровой яме те немногие голоса, которые еще привлекают публику прелестью своего пения и чистотой тембра.
* Маэстро Туллио Серафин называет псевдодирижерами тех, кто лезет вон из кожи на подиуме, чтобы противопоставить инструменты голосам. Он напоминает им, что Вагнер прятал дирижера и оркестр в таинственный грот, чтобы их не было видно. Настоящего дирижера, говорит Серафин, можно узнать по умелой дозировке тембров различных групп инструментов, по сочетанию тонов и громкостей и особенно по тонкому рисунку исполнения, в котором слова и голоса не подавляются, а четко и безо всяких усилий доходят до слушателей. Опера, мелодрама – это «мелос» и «драма», пение и действие. Оркестр не должен брать верх над певцом, заставлять его форсировать голос и этим отвлекать от задачи сценического перевоплощения, необходимого в театре.
Отрицают те права певцов, которые признавал за ними Вагнер, говоря: «Нужно подчинить оркестр, дирижера и композицию очарованию пропетого и пением выявленного слова». Это дезориентирует публику, которая за хаотическим смешением выразительных средств теряет из виду «героя сцены» и переносит свои страсти на других героев, которые не поют, а гоняют мяч по полю или соревнуются в нанесении друг другу ударов, или взбираются на альпийские вершины. И в то время как печать направляет ослепительные рефлекторы рекламы на чемпионов олимпийских игр и на грандиозные спортивные состязания, в оперном театре делают все, чтобы нивелировать личности и образы, голоса и инструменты, превращая все в серую, монотонную, плоскую скуку. И публика покидает театры, ей неинтересна эта золотая середина с ее единообразием ценностей, в котором никто не может выделиться. И певцы тоже уходят из театра в надежде быстрее добиться успеха в других областях, более доходных и менее трудных и ответственных.
Но это не все. Вот уже много лет критика обращает свое внимание на голоса и на пение лишь для того, чтобы повторять до тошноты, что серьезное пение и музыкальная драма не соответствуют времени и вышли из моды и, кажется, даже успели убедить в этом общественное мнение. Вот уже более века поклонники «дел давно минувших дней» оплакивают музыку и голоса россиниевского и дороссиниевского периодов, точно так, как шестьдесят лет назад, еще до появления Пуччини и Масканьи, их оплакивал Д’Аннунцио. Да, был период, когда Д’Аннунцио, превратившись внезапно в театрального критика одной римской газеты, писал суровые статьи, доказывая упадок и смерть оперы. И это было в то время, когда Италия дала миру «Отелло» и «Фальстафа» и собиралась удивить его другими шедеврами: «Богемой», «Сельской честью» и «Шенье», а поразительные голоса Таманьо, Станьо, Котоньи, Де Лючиа, Карузо приводили в неистовство публику крупнейших оперных театров! Так же и Россини в 1858 году безапелляционно утверждал: «Сегодня нет больше школы, нет исполнителей, нет образцов – бельканто окончательно и безнадежно исчезло». А это было время Малибран, Патти, Штольц, Маншю, Девриен, Марио, Тамберлика.
Удивительно также и то, что в суждениях об одном и том же стиле пения наблюдается полное расхождение во мнениях даже среди людей великих и гениальных. Мы уже видели, с каким презрением отзывался Берлиоз о вокальном и исполнительском искусстве Девриен. Рихард Вагнер, наоборот, любил ее и считал ее своей идеальной исполнительницей. Он вспоминает о ней как о самой совершенной исполнительнице партии Изольды, голос, пение и стиль которой, соединяясь, приводили к высшей выразительности у этого почти сверхъестественного создания».








