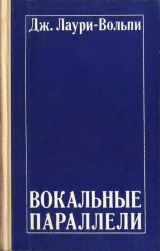
Текст книги "Вокальные параллели"
Автор книги: Джакомо Лаури-Вольпи
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Гектор Берлиоз, упоминая о басе Штаудиглесе, удивленно отмечает, что его голос простирался от низкого ми до высокого соль. «Подобный голос, – заключает он, – скрывает в себе могучий генератор эмоций, так как даже если артиста захлестнет темперамент, он, голос, будет разливаться с прежней свободой и очарует вас». Что касается Франчи, то в молодые годы его диапазон равнялся двум с половиной октавам, и каждая нота звучала сильно, тембристо, звонко до такой степени, что он сам не знал – то ли баритоном ему петь, то ли тенором. Однако его инструмент не был воодушевлен тем эмоциональным началом, о котором говорит Берлиоз. Пел он все же в регистре баритона, и при этом, позабыв о всякой осторожности, нажимал на низы. Мало-помалу он лишился верхних нот и стал пестрить на переходных. Если бы не это, голос этого баритона из Сиены мог бы и до сих пор царить на итальянских сценах, на тех самых сценах, где Франчи вырос как певец и в десятилетие 1925—1935 годов достиг творческого апогея, блистая в «Ужине шуток», в «Вильгельме Телле» и в «Андре Шенье».
ПАРАЛЛЕЛЬ БОРГЕЗЕ—СИЛЬВЕРИ
Вильопе Боргезе остался в истории оперы единственным в своем роде, неподражаемым Шерифом в «Девушке с Запада». Выпевая фразу «Минни, из дома моего ушел я», он заливал театр звуком такой ураганной силы, что одна эта реплика сделала целую эпоху. В этой партии его до сих пор не с кем сравнивать. Коварный представитель закона, человек животных страстей и необузданных порывов был, как живой, вылеплен звуком этого необыкновенно плотного голоса. Совершенное певческое мастерство управляло этим звуковым шлюзом абсолютно так же, как искусный инженер управляет построенной им гигантской катапультой. Паоло Сильвери природа дала басовый голос, и он начинал с басовых партий. Сегодня он – один из лучших баритонов.
Автор пел с ним в «Луизе Миллер» и имел случай оценить благородство его манеры и наполненность звука. Сильвери не развивает той звуковой мощи, которая была присуща Вильоне Боргезе – живущее в нем критическое начало предохраняет его от губительной форсировки. Если бы не это, его вокальная природа могла бы взбунтоваться против завышенной тесситуры, к которой ее незаконно принуждают. Бунт этот неизбежно выразился бы в тремолировании и нарушении однородности фактуры, своего рода «расслаивании» ее. Всегда ли помнит об этом Сильвери? Он наделен наблюдательностью, любит свое искусство и умеет работать. Он способен думать, искать, сопоставлять, истолковывать. Сегодня он стремится «прояснить», облегчить свой звук. В порядке эксперимента он пробовал браться за «Отелло». Партия мавра манит его и привлекает. Он пел басом, поет баритоном. Станет ли он тенором? Ведь голос, если его бесконечно растягивать в длину и в ширину, может в один прекрасный день перестать повиноваться авантюристическим приказам своего хозяина. Ибо любой, даже самого безбрежного диапазона голос имеет свой центр тяжести, определяемый физической и нервной конституцией певца. А через природу не перешагнешь. Можно иметь диапазон тенора, а быть баритоном, так же как и наоборот. Если певческую природу искусственно направлять в другое русло, она отомстит за себя.*
* Сомнения относительно дальнейшего творческого пути Сильвери были высказаны в 1955 г. Позже, к 1960 г., время доказало, что гортань не может безнаказанно переносить столь значительные броски тесситуры. Последовала неизбежная расплата – Сильвери перенес нервно-психическое потрясение, к счастью, временное.
ПАРАЛЛЕЛЬ СТРАЧЧАРИ – ДЕ ДЗВЕД
Венгр Де Дзвед стал точной копией своего итальянского учителя Риккардо Страччари, который одно время был соперником Титта Руффо.
И у ученика, и у наставника – плотные, мясистые голоса; оба они характерны горловыми звучностями, контрастирующими с «носовой» манерой тосканца Руффо. Но если у Страччари горловой тембр являлся сущностью его вокальной природы, у венгра он был очевидным результатом имитации техники своего ментора.
Оба они стяжали лавры в «Травиате». Все помнят фразу «Мольбе моей внял бог святой» в знаменитой арии Жермона, которая поднимала на ноги партер театра «Ла Скала». В этой памятной постановке «Травиаты», кроме Страччари, принимал участие замечательный русский тенор Собинов; Виолетту пела Розина Сторкьо. Исполненная благородной выразительности фигура Страччари, его ясное лицо, его истинно отеческая улыбка и теплота вокала – все это совершало чудо, чудо искусства. Прошло несколько лет, и, выступая в римском театре «Арджентина», венгерский баритон повторил чудо, совершенное учителем. Копию, столь верную оригиналу, зрителям еще не приходилось слышать. Слушая Де Дзведа, все вспоминали Страччари, даже те, кто не знал, что Де Дзвед – его питомец. И все-таки это была лишь копия. Удивительная, спору нет. Но всего-навсего копия!
Поскольку вердиевские мелодии поддаются бесконечному количеству интерпретаций, как, впрочем, и всякая вдохновенная музыка. Де Дзвед, воплощая образ Риголетто, мог бы наложить на него печать своей собственной личности. Так нет же – он решил ограничиться чисто арифметического свойства работой по подгонке себя под апробированную модель; это было ему нужно для того, чтобы побыстрее заслужить признание. Признание состоялось, ибо за ним стояла счастливая карьера его учителя, а подражание тому, что хорошо известно и вызывает восхищение, всегда приносит неоспоримую коммерческую выгоду.
И тем не менее если бы вещи подобного рода случались в поэзии, да и в литературе вообще, то ни один поэт, ни один писатель не уберегся бы от обвинения в плагиате. А в оперном театре подражание процветает, копии множатся, как грибы после дождя. Всех это устраивает, искусство же чахнет.
Страччари было за восемьдесят, когда он скончался в Риме. В последние годы нужда и лишения следовали за ним по пятам.
ПАРАЛЛЕЛЬ ГАЛЕФФИ – ГВЕЛЬФИ
В то время как по отношению к одним судьба оказывается прижимистой и коварной, к другим она излишне щедра и благосклонна. Бывают случаи, когда человек появляется на свет с миллионами в горле, но становится более или менее мудрым распорядителем этого богатства лишь тогда, когда замечает, что оно вот-вот улетучится и что фортуна готовится повернуться к нему спиной.
Карло Галеффи было всего двадцать лет, когда он появился на подмостках римского театра «Костанци» в обличье Аральдо из «Лоэнгрина» и ошеломил всех. Фигура гренадера, глаза и нос орла, звук, собранный в маску, – все это произвело впечатление, которого никто из зрителей, как знатоков, так и дилетантов, не забыл и по сей день. И в самом деле, трудно было вообразить себе голос более округлый и широкий; в зале его звучание вырастало и расширялось так, словно постепенно, пластина за пластиной, перед вами развертывался некий звуковой веер. Когда же этот веер открывался полностью, в пространстве не оставалось ни одного уголка, не пронизанного вибрирующей звучностью этого голоса.
Подобные же ощущения вы испытывали, слушая его в «Риголетто». «Старик, ты ошибся! Мстить буду я сам! Да, настал час ужасного мщенья» – Верди хотел, чтобы в этой фразе кричала тысяча душ, чтобы в ней слышалась тысяча голосов вместо одного-единственного. В голосе Галеффи она, эта фраза, развертывалась в неслыханном еще звуковом нарастании, начинаясь от еле сдерживаемого бешенства слов «буду я сам» и приобретая затем все большую силу, которая достигала апогея на слове «да», напоенном железной решимостью; безбрежность дыхания и звука шли здесь рука об руку.
А потом наступил кризис, звуковой водопад иссяк, съежился до размеров тоненькой родниковой струйки.
Тогда-то этот певец открыл, что владеет незаурядным критическим чутьем, роль которого до этого сводилась к простому контролю над техникой, и обнаружил, что звучность можно и должно экономить. Он стал ловким, проявлял чудеса тонкой расчетливости и хитроумия и в итоге научился петь на процентах, не трогая уцелевшего капитала. Это дало свои результаты, и когда Галеффи был уже в зрелом возрасте, поток забурлил опять; в нем не было прежнего полноводного разлива, но сравнить его со свежей горной речкой было вполне уместно.
Еще и сегодня, достигнув семидесятилетнего возраста, Галеффи поет Риголетто, достойного аплодисментов за верность намерений и голосовую неутомимость.
Думается, что судьба его должна послужить примером для Джан Джакомо Гвельфи, могучего новобранца нашего оперного театра.
Это – гигантский голос в гигантском теле. Что совершит, чего добьется этот новый баритон? Он учился
у Марио Базиола, певца, который мудро воспитал самого себя и, по-видимому, сумел привить и своему питомцу чувство меры, ибо у Базиола это чувство развито столь же совершенно, как и у любого другого ученика Антонио Котоньи.
Джап Джакомо Гвельфи по развиваемой им звуковой мощи, переходящей в явное вокальное излишество, находится в особом положении: он не имеет соперников, и бороться ему не с кем и не за что. От него одного зависит, двинется ли он вперед, взберется ли на склоны и доберется ли до горных вершин того чистилища, которое представляет из себя оперный театр. Голоса такого типа, как у него, то есть от природы оглушительно звучные, склонны к вокальному расточительству и с годами утрачивают как плотность, так и выносливость. Гвельфи заставляет вспомнить Пьетро Пава и Раффаэле де Фальки, двух баритонов, от дыхания которых с оркестровых пультов падали ноты; это были сущие трубы Страшного суда. На их, да и на других примерах Гвельфи многому может научиться. И если он собьется с пути, винить ему останется лишь самого себя. Это будет означать, что в нем возобладал голый инстинкт и жажда подражания. Истереть эту столь богатую голосовую ткань может пренебрежение дыхательным тормозом.
ПАРАЛЛЕЛЬ КРАББЕ – ГОББИ
Обоих этих певцов не назовешь феноменально одаренными в чисто голосовом смысле. Но они – великие поющие актеры, способные одним жестом, одном гримасой, одним выразительным взглядом оправдать оставляющую желать лучшего ноту, обыграть вокальную фразу и в итоге заставить публику аплодировать. Их сила – это их интерпретаторский, лицедейский талант.
Гамлет и Маруф, воплощенные искусным бельгийцем Краббе, так же как Барнаба и Яго, созданные пластичным, способным отлиться в любую форму Гобби, дают полное представление о возможностях певцов этого типа. Достаточно видеть, как они выходят на сцену, и вы тут же понимаете, что имеете дело с актерами-мастерами, знающими свое дело до тонкостей.
Краббе был вокалистом-волшебником, вокалистом-колдуном. Импровизатора более смелого, более удачливого оперная сцена никогда не знала. Казалось, что он пел, говорил и действовал на сцене экспромтом, импровизируя на сиюминутно заданную тему. Он был гениален, самобытен, но весьма опасен для своих партнеров.
В 1920 году в римском театре «Костанци» автор пел своего первого «Севильского цирюльника». Бельгиец пел Фигаро. Его речитативы, в которых одна краска тут же сменяла другую и которые он пропевал со скоростью совершенно головокружительной, могли сбить с толку и куда более опытного Альмавиву. Новоиспеченный севильский граф едва-едва не был «съеден» предприимчивым цирюльником и с большим трудом избежал провала.
Титто Гобби готовился пойти по стопам Титта Руффо и Джино Беки, стать верным копиистом своих предшественников. Но сегодня он как будто бы нашел себя, свое артистическое «я», свою технику, благодаря которой он извлекает из своего скудного голоса немыслимые звучности, реализует весьма дерзкие вокальные решения – и неизменно пожинает аплодисменты и завоевывает популярность. Его педагог Джулио Крими может спокойно спать в могиле: он сделал настоящего певца. Гобби не проигрывает в сравнении с Краббе, который, если хотите, был бельгийским Де Люка.
ПАРАЛЛЕЛЬ БАЗИОЛА – ПРОТИ
Кремона дала миру не только мастеров игры на лютне, не только чудодея, создавшего знаменитые до сих пор скрипки и виолончели, но и двух баритонов, которые, хоть и отличались скромными внешними данными, имели плотные, наполненные голоса.
Они простодушно, но неустанно ищут то «нечто», которое смутно трепещет и пульсирует в их душе, доверяясь врожденному музыкальному инстинкту и стихийному истечению вокальной струи.
Марио Базиола несказанно повезло: он проходил военную службу в Риме и провел там всю первую мировую войну солдатом городского гарнизона. Это позволило ему посещать занятия в консерватории «Санта-Чечилия». Он попал в класс патриарха вокала Антонио Котоньи и стал его любимым учеником. Восьмидесятилетний маэстро обучил его всему, вплоть до правильного итальянского произношения. Базиола рос год за годом, сформировался как вокалист и как артист и стал’ верным, ревностным последователем идей и метода великого римского певца.
Совершенное исполнение партий Риголетто и Фигаро принесло ему приглашение в театр «Метрополитен», где он в течение многих сезонов пел рядом с Джузеппе Данизе, Де Люка, Скотти и Тиббетом. Эти две партии он нота за нотой, вздох за вздохом, слово за словом разучил буквально с голоса своего маститого учителя. Но ему не удалось оторваться от своего эталона настолько, чтобы он смог в конце концов вылепить свою собственную творческую личность, не похожую ни на какую другую.
Жизненные неурядицы заставили его раньше времени уйти со сцены.
Проти повезло больше. Он заявляет о себе в тот момент, когда когорта баритонов поредела несказанно.
му не составит труда отвоевать себе достаточно привилегированное место, если он и дальше будет придерживаться той же линии, того же стиля. Более того, он может стать одним из самых ярких представителей итальянского вокала, испытывающего сейчас нужду в «стихийных» и выносливых голосах вердиевского плана.
ПАРАЛЛЕЛЬ ТИББЕТ – БОРДЖОЛИ
В театре «Метрополитен» давали «Фальстафа». Главную партию пел пожилой уже Скотти, а партнером его, исполнителем роли Форда, был некий молодой баритон, худощавый и изящный. Уже несколько лет он пел лишь небольшую партию Сильвио в «Паяцах», усердно проникая в секреты школы Де Люка, перенимая, у него искусство дозировки дыхания и фонирования на мецца воче, так же как и искусство сценической игры. Еще более привлекало его сценическое обаяние Федора Шаляпина. Он давно ждал своего часа, и час этот пришел совершенно неожиданно. В этот вечер Скотти в конце второго акта вышел раскланиваться один, забыв вывести вместе с собой молодого американца. Публика наградила его аплодисментами раз, другой, третий, но явно чувствовалось, что она желает видеть рядом с ним и исполнителя роли Форда, обладателя свежего голоса и эффектной фигуры. А Форд все не появлялся. Публика стала натаивать, вызывать, выкрикивать имя, считая, что дело нечисто. Наконец Лоуренс Тиббет вышел к рампе и увидел, что зал неистовствует. Пять минут назад его почти никто не знал. Пятью минутами позже он уже был первым баритоном Америки.
Толчком явился банальнейший инцидент, самая заурядная рассеянность. С этого мгновения никто не порывался остановить скакуна славы, пущенного во весь опор. Тиббет принялся колесить по Америке вдоль и поперек, неслыханно разбогател, выступал в театрах, в концертах, пел по радио и снимался в фильмах.
«Лучший голос Америки» не пренебрегал никакими жанрами. Он пел все, начиная от арии из «Тангейзера» и кончая негритянскими спиричуэле. Он требовал, чтобы профсоюз запретил въезд в Америку певцам из-за океана, подняв, таким образом, руку на своих коллег, научивших его петь. Сам же он, уже после окончания второй мировой войны, приехал в составе оккупационных войск в Рим и постарался завоевать Вечный город своим вокалом. Его выбор пал на «Риголетто».
Увы, незадолго до этого Тиббет схватил ангину, и даже английские и американские солдаты, заполнившие театр, не рискнули провозгласить его «победителем Рима».
Слава, внезапно свалившаяся на Тиббета в тот вечер на представлении «Фальстафа», вскружила ему голову. Восхождение от Сильвио к Симону Бокканегре было чересчур уж стремительным. Из безвестности он вдруг угодил в идолы Америки.
Этим я вовсе не хочу сказать, что бравый баритон с дальнего Запада не обладал достоинствами, которые могли бы ему позволить занять видное место в труппе «Метрополитен». Он вполне заслуженно делил успех с Данизе, Де Люка и Базиола.
Этого последнего со временем заменил флорентиец Армандо Борджоли, стремительно выдвинувшийся среди все более малочисленной когорты итальянских баритонов. Звучный и напористый голос его. слегка теноровой окраски, вполне мог конкурировать с голосом Тиббета, немного глуховатым, но сильным и подвижным; особенно силен был Тиббет в «микстовых» эффектах. Технику пользования микстом он в точности перенял у хитрейшего Де Люка.
Борджоли поначалу был уверен в себе, в своем методе и в достижении поставленной цели. Он не обращал внимания на шум, который создавал вокруг себя его соперник. Он знал, что того удерживает на щите рекламно-пропагандистская машина его страны и фанатизм поклонниц, взвинченных приключенческими фильмами, в которых Тиббет то и дело снимался.
На нейтральной почве Борджоли мог потягаться с Тиббетом на равных, ибо не уступал американцу в сценичности и превосходил его в исполнительской гибкости.
Но в конце концов он все-таки дал себя одолеть трудностям, пал духом и, видимо, одержимый грустными предчувствиями, ударился в вокальное расточительство. Он стал одаривать жадную и восторженную публику бесконечными «бисами», шло ли дело об ариях в «Риголетто», «Трубадуре» или «Джиоконде». Удержу он не знал.
Тиббет в своей стране не остался без последователей. После него Америку в театре «Метрополитен» представляли такие великолепные баритоны, как Уоррен, Меррил и Лондон, потеснившие не одного итальянского баритона.
ПАРАЛЛЕЛЬ ДАНИЗЕ – ТАЛЬЯБУЭ
Заключим рассмотрение баритональных голосов анализом творчества двух солидных и методично работавших артистов, которые прошли свой путь, не замечая шумихи, поднятой вокруг их коллег любителями разного рода феноменов и сенсаций.
Стоя в сторонке, Данизе наблюдал за Титта Руффо, Страччари, Галеффи, Тиббетом, Франчи и всеми прочими искателями вокальных приключений. В душе его жила суровая уверенность в том, что ему, Данизе, нет никакой нужды подражать им ни
в способах завоевания известности, ни в вокальной технике, ни в манере исполнения.
Казалось, он не на шутку сердится на целый свет, этот певец, приобщившийся к пению в капуанской церкви Санта Мария. Восхищался он лишь Карузо и Розой Понсель, которые, как и он, были неаполитанцами. Все остальные для него не существовали. Рокочущие звучности, присущие его собственному голосу, с одной стороны, придавали его вокалу суровую торжественность, но с другой – порождали определенную монотонность и оттенок некоего самодовольства, что, конечно, работало не в пользу певца, когда публика сравнивала его с партнерами по опере.
Но его на редкость правильное звуковедение заставляет считать его образцом, своего рода вокальным эталоном, постигшим тайну благородного соединения регистров. Исполнительские намерения Данизе также были всегда отмечены глубиной и основательностью.
В этом на Данизе похож Карло Тальябуэ, также прошедший свой путь* особняком. Отличий, пожалуй, два: Тальябуэ не был столь нелюдимым, и голос его был насыщен большей теплотой.
Эти два баритона, если я не ошибаюсь, познакомились в 1937 году, когда их свела чистая случайность. Пишущий эти строки пел тогда «Трубадура», и его графом Ди Луна должен был стать Тальябуэ. Но дирижер умудрился так задергать этого последнего великим количеством репетиций, прогонов, замечаний, претензий и поправок, что у него пропало дыхание. В результате в день премьеры пришлось экстренно вызывать Данизе.
Волнение ли овладело тогда дублером, или просто боязнь? Сейчас этого уже не узнать. Как бы там ни было, голос на несколько мгновений изменил артисту, и за это в течение целого представления публика освистывала его и отпускала громкие иронические замечания по поводу каждого его вздоха. Тогда-то Данизе и понял, что воздух Америки ему куда полезнее и приятнее.
Тальябуэ оправился от пережитого кризиса и многие годы пел – пел превосходно, в классической манере, который ныне не владеет никто ни в Италии, ни за границей.
Он – единственный уцелевший питомец школы, которая знала, каким образом следует фонировать, фразировать и дышать в самых ответственных драматических местах «Риголетто», «Бала-маскарада», «Трубадура» и «Травиаты», если следовать заветам большого искусства. Послушайте, как он поет каденцию арии Ди Луна из третьего акта и скажите, какой другой голос сумел бы закончить на столь искусном легато, с такой тембровой и интонационной безупречностью эту арию, которую многие и многие просто-напросто выкрикивают?
БАСЫ
Следует различать три категории басов: бас профундо (низкий бас), бас кантанте (буквально – певучий бас) и бас комический.
Басы профундо, как и контральто (что уже отмечалось), исчезли.
С Шаляпиным вошли в моду басы кантанте, то есть не совсем басы и не совсем баритоны; это голоса неопределенные, промежуточные, что позволяет им то белить» и фальцетировать на теноровый манер, то лишь «намечать», а не петь тот или иной музыкальный отрывок.
Вовсе не редкость – услышать, как бас бормочет, цедя сквозь зубы арию Филиппа в «Дон Карлосе»
(«Усну один»), безо всякого намека на настоящий звук, а публика рукоплещет такому вокалисту-мистификатору, как будто он выдержал самое рискованное испытание! Арию эту действительно нужно петь на еле слышном выдохе, но басовый тембр должен быть выявлен, мецца воче должно идти залегатированно, на дыхании, без толчков и пауз; каждая нотка здесь -частица души. Я останавливаюсь на этой арии, ибо именно она иллюстрирует техническое невежество многих певцов и эстетическую глухоту и чрезмерную терпимость нашей публики. Так искажать, так коверкать и так профанировать музыку Верди – значит покушаться на честь и достоинство искусства. Слышать, как свирепый Филипп, заживо погребенный в мрачном Эскуриале, напевает свою арию, словно современный хиппи какую-нибудь меланхолическую песенку, поистине смешно.
Гибридный «комический бас» подходит к таким шаржированным партиям, как Дон Бартоло, Дулькамара, Дон Паскуале. Эта категория характерных голосов тоже постепенно исчезает. Пини-Корси и Адзо-лини были последними замечательными исполнителями этих партий; в последние годы своей артистической карьеры они особенно славились благодаря таким великим баритонам, как Кашман и Стабиле, которые составляли с ними поразительное комическое «визави».*
* Турок Ведат Гуртеи, ученик Аполло Гранфорте, хотя и обладает голосом баритонального тембра, хорошо поставленным, становится сейчас «комическим басом», достойным занять место среди мастеров старой школы.
В иью-йоркской «Метрополитен-опере» появились одни за другим два «комических баса», различных по своему характеру: Помпилио Малатеста и Сальваторе Баккалони. Первый из них, худощавый и бледный, вокализировавший под тенора и обладавший носом Сирано, смешил наивную публику этого театра своей комичной внешностью. Сальваторе Баккалони – его антипод. Он щеголяет низким горловым звуком, извлекаемым из массивного тела. Он тоже, утвердившись на Бродвее, без труда сумел развеселить американских завсегдатаев оперы.
Бас профундо подходит для партий, построенных на сочетании мудрости и величавости. Это – отец-настоятель из «Фаворитки» и из «Силы судьбы», вагнеровский Вотан, Верховный жрец из «Нормы» и т. п.
Типичный же бас кантанте – это Мефистофель в «Фаусте», вердиевский Спарафучиле, россиниевский Дон Базилио.
Следует, наконец, сказать еще об одной партии, требующей сочетания качеств баса профундо и «певучего» баса – это микеланджеловского размаха фигура Моисея, созданная Россини, в которой соединяются страсть, гневность и вдохновение. Пропеть молитву «Со звездного престола своего» может лишь голос, способный рокотать, как орган, звенеть, как труба, бушевать, как буря. Но разве вы сыщете сейчас на оперных сценах мира голоса такой мощи?
Публика ныне дезориентирована и разочарована, она не чувствует разницы стилей, вокального рисунка, тембров и как должное принимает пение, в котором царит мешанина идей,– вкусов, полов. Завывания каннибалов многим ласкают слух, как и выкрутасы радиосопранистов, от которых бегут мурашки по коже у нормальных людей со вкусом.
ПАРАЛЛЕЛЬ ШАЛЯПИН – РОССИ-ЛЕМЕНИ
К славным легендам о Таманьо, Карузо и Титта Руффо прибавилась еще одна легенда, когда появился русский гигант, друг Максима Горького – Федор Шаляпин. Этот певец заставил говорить о себе столько, сколько не говорили ни об одном басе. Причиной этого было не только его пение, но также и перипетии личной жизни и огромный рост. Чтобы еще больше выделиться из толпы, он любил появляться в сопровождении щупленького секретаря, вызывая в памяти другую знаменитую пару – Дон Кихот и Санчо Панса (в этой опере Массне Шаляпин не имел соперников).
Шаляпин получил все, чего он желал. В течение четверти века он господствовал на сцене и в жизни, вызывая повсюду страстное любопытство и бурные симпатии. Для него голос был лишь средством, лишь послушным (а иногда коварным) инструментом его воли и его фантазии. Он был и тенором, и баритоном, и басом по желанию, ибо располагал всеми красками вокальной палитры. Среди басов он представляет собой историческую фигуру как благодаря своей бурной и насыщенной жизни, так и благодаря не менее баснословным гонорарам.
В Италии этот гигант впервые появился в «Мефистофеле» в «Ла Скала». Публика была загипнотизирована пластичностью движений этого скульптурного тела и поистине сатанинским взглядом артиста до такой степени, что и Карелли, и Карузо и тосканиниев-ский оркестр словно исчезли, заслоненные этим чудовищным певцом. Все это уже история. С того момента перед ним открылись все двери.
Один тенор в «Метрополитен-опера» пожаловался на то, что он как-то до смешного неуместно стушевывается на сцене, когда Шаляпин окутывает его своим алым плашом. Бас ответил: «Друг мой, я Мефистофель, ты мне продал свою паршивую душонку, я дал тебе молодость и красоту, но ты мой, моя воля тебя поглощает, стирает в порошок. Я могу делать с тобой все, что захочу, понимаешь?» Тенор, с его умом зяблика, не понял ответа орла и пошел протестовать к Гатти-Казацца. Рассказывая этот эпизод пишущему эти строки, русский певец сказал: «Вы меня извините, но многие ваши «сокашники» заслужили славу редких кретинов!».
Без сомнения, на сцене никогда еще не появлялось существо столь таинственное, артист столь сложный. Его гениальная изобретательность не считалась с теми ограничениями, которые выдвигались дирижерами, и часто многие и лучшие из них, наиболее авторитетные и властные, очищали поле битвы.
Но публика не обращает внимания на то, кто дирижирует, когда столь яркая личность появляется на сцене. Достаточно бывало одной фразы, одного штриха, короткого смешка, едва заметного жеста. В «Фаусте» Гуно Мефистофель влюбляет в себя Марту, и сообщение о смерти мужа на войне ее вовсе не волнует. «La voisine est un peu murе» – «Соседка чуточку перезрела»; этим «murе», произнесенным сквозь зубы, почти нечленораздельно и сопровождавшимся выразительнейшим жестом, Шаляпин, как говорят в театре, «клал публику себе в карман».
Тайна этого волшебного актера-певца состояла в умении добиваться тонких оттенков. Он добивался их с помощью голосовых «эхо». Очень немногие певцы постигли секрет вокального эха. Когда раздается удар колокола, его звук производит эхо там, где оказывается наилучший резонанс. Это физическое явление известно всем и должно бы представлять полезный пример для тех, кто изучает характер певческого голоса. Когда слышат нутряной, фарингальный или носовой звук, обычно не размышляют над причиной дефекта. А дефект вызывается тем, что вибрации, исходящие из гортани, встречают на пути своем преграды. То же самое будет, если внутрь колокола или хрустального бокала поместить перед ударом или во время удара постороннее тело. Звук колокола неизбежно окажется задавленным, умерщвленным, и распространение волны остановится в самом своем начале. Роль постороннего тела в человеческом горле играют те мускульные спазмы и сокращения, которые препятствуют вибрациям гортани, вызванным потоком воздуха из легких, свободно достичь черепных полостей; именно там звук находит свое эхо, усиливающее и рассеивающее в пространстве благозвучные тембры. Обучение пению должно сопровождаться настойчивыми, старательными, неустанными поисками вокального эха.
Шаляпин знал этот драгоценнейший секрет вокального эха и пользовался им с поразительным умением, снабжая свой звук далекими и как бы приглушенными ответными отзвуками. Отзвуки эти всегда производили эффект и позволяли мудро экономить вокальные средства.
В оттенках его пения чувствовалась внутренняя сущность его личности, которую многие старались и стараются воссоздать в себе, добиваясь, однако, лишь внешнего сходства, которое оказывается скорее карикатурным.
Эти плагиаторы и не пытаются добиться «слияния с персонажем», того поразительного уподобления, которым объяснялась неподражаемость Федора Шаляпина.
Плагиаторы не понимают, что подлинное искусство состоит в том, чтобы внедриться в образ, превратиться самому в изображаемый персонаж, оживив его теплом собственного сердца. Быть, жить в образе, но жить в нем, обновляясь, существовать не рядом, а вместе с ним. Это-то и значит для художника жить «под знаком вечности», наполняя настоящее прошлым и продлевая его в будущее.
Плагиатор, постоянно ищущий внешних примет и знаков, за которые можно было бы уцепиться, является лишь вялым манекеном, смешной куклой, движимой невидимыми нитями, тянущимися к уму, к воле, к душе другого артиста.
Шаляпин остается одиноким гигантом. Он создал басам такое реноме, такой авторитет, о которых они не могли даже мечтать.
Подобно Карузо среди теноров и Титта Руффо среди баритонов, Шаляпин стал басом-эталоном, и его имя облетело континенты.
Рауль Гюнсбург (переделавший в оперу ораторию Берлиоза «Осуждение Фауста») решил сыграть с Шаляпиным злую шутку. В ту пору, когда великий артист пел «Бориса Годунова» в театре Монте-Карло, этот своенравный и хитрый атрепренер, щедрый на экстравагантные выдумки, задался целью доказать французам, что Шаляпин – это лишь первобытная физическая сила и что всей карьерой он обязан своему росту и чарующей жестикуляции своих длинных рук. Что же он придумал? Он вызвал из Парижа другого русского баса, такого же гигантского роста, обучил его жестам и сценическим манерам Шаляпина и предоставил его публике Монте-Карло как преемника Шаляпина, как нового, молодого Шаляпина, обладающего таким же голосом и большей музыкальностью. Копия показалась всем совершенно точной. Сходство усугублялось родственной манерой словоподачи, особенно когда оба пели на родном языке. В общем, внешне все было совершенно одинаково: те же мизансцены, та же внушительная поступь, тот же реалистический ужас при виде призрака, та же величавость во время сцены коронации. Но от внимательного взгляда не ускользала подделка. О несчастном басе, над которым Гюнсбург так жестоко подшутил, после этого эксперимента никто больше не слышал. Сам же эксперимент остается явным и живым доказательством неправоты тех, кто верит в эффективность внешнего и отрицает существование абсолютного в жизни, в окружающей нас действительности и в искусстве. Люди маленькие и заурядные действительно не верят в исключения. Они думают, что великие имена всегда, без всяких исключений создаются лишь случаем, уловками, хитростью, что их носители – просто удачливые посредственности.








