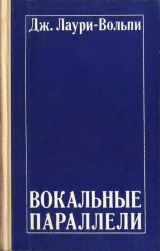
Текст книги "Вокальные параллели"
Автор книги: Джакомо Лаури-Вольпи
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
да Аделина Патти (эта последняя побила все рекорды, получая в Америке по 10 000 лир золотом – в валюте того времени – за один-единственный спектакль; не нужно забывать, что дело было еще в XIX веке!).
Карузо, с его концентрированным и теплым звуком, тоже способствовал – хотя это и кажется парадоксом – увеличению популярности баритоновых голосов. Послушайте хотя бы дуэт из «Отелло», напетый вместе с Титта Руффо. Даже люди малосведущие, слушая эту запись, отмечают, что ноты Карузо звучат мясистее, увесистее, нежели ноты баритона Руффо. В финальной фразе этого знаменитого дуэта на словах «Dio vendicator» («Бог отомстит») голос Титта Руффо абсолютно подавляется и «закрывается» мощно клокочущей струей карузовского вокала.
К чему мы клоним? А вот к чему: баритоны со спокойной совестью могут включить в число своих собратьев этот, быть может, самый прекрасный из всех когда-либо являвшихся на свет низких теноровых голосов, отличавшийся матовой окраской, которая ни в коей мере не типична для настоящих теноров, с их праздничным, сверкающим звуком.
ПАРАЛЛЕЛЬ БАТТИСТИНИ – ДЕ ЛЮКА
Должно быть, сама Муза обучила искусству пения этого уроженца Лациума, ибо в течение одного единственного вечера, выступив в театре «Арджентина» в «Фаворитке» Доницетти, он стал героем новой легенды – легенды о Маттиа Баттистини из Риэти, родного города римского императора Флавия.
И, может быть, именно поэтому величавая, поистине царственная голова увенчивала высокую фигуру этого человека, покорившего и дворы и толпы всей Европы, пожинавшего лавры в течение полувека – с 1870 по 1920 год.
Что было причиной подобного успеха?
Баюкающая текучесть звуковой линии, дозировка эффектов, тесно увязанная с дозировкой дыхания, особые «звуковые удары», словно резонирующие в некоем акустическом зеркале (им впоследствии старался подражать Титта Руффо, не имея в том никакой необходимости).
Баттистини входил в Альказар во втором действии «Фаворитки», окидывал его влюбленным взором и пел: «О вы, сады Альказара, царей-пришельцев отрада! С каким восторгом я здесь в тени деревьев лелеять стану златые сны любви!», – и первые же ноты были окрашены вдохновением и волнением. Таково было начало. А в конце, в каденции, на слове «любви», он брал большое дыхание и экономными порциями расходовал его на этом «лю», растянутом, рассыпавшемся на целую серию «у», которые он посылал и перед собою, и справа и слева от рампы, не забывая ни одного яруса, ни одной ложи. Публика даже не давала ему закончить, покоренная виртуозностью этого приема. А прием-то, в сущности, был рецидивом двусмысленного вокально-акробатического стиля, процветавшего когда-то.
Это было слабым местом великого певца. Но о скольких сильных его сторонах забывают те, кто помнят лишь об этой слабости, которую, вдобавок, можно оправдать! Вспомним, что Баттистини родился сто с лишним лет тому назад, что он рос, окруженный прославившимися на весь мир вокальными феноменами, вроде Марио и Рубини. Вспомним, что эти последние, хотя и порицались маститыми композиторами, с лихвой вознаграждались за это симпатиями публики, которая в те времена «болела» экспромтами знаменитых певцов точь-в-точь так же, как она сегодня «болеет» футболом н боксом. И достаточно воскресить в памяти исполнение Баттистини «Смерти Маркиза Ди Поза» или арии из «Эрнани» «Вы, юных Лет моих сны и мечты пустые» – и вы забудете порицания, адресовавшиеся этому певцу без счета, и щедро воздадите ему должное.
Его форте, и мецца воче, и микст совершали чудеса, когда он исполнял – и исполнял неподражаемо и верно – музыку Верди.* Впрочем, здесь его голосу нашелся конкурент – небольшой и «умный» голос Джузеппе Де Люка, возможно, самого вымуштрованного и хитроумного из всех певцов-баритонов высокого класса, которые когда-либо подвизались на оперных подмостках. «На этих розах, раскрытых под луною, на цветах ароматных, о отрада моя, покойся в своих грезах роскошных» – кажется, мы еще слышим, вспоминая эти слова, вкрадчивые переливы его дыхания, которое превращалось в звук легчайший, но округлый, бархатный, неизъяснимо интимный.
Баттистини, высокий и крепкий, обладавший таким же высоким и крепким баритоном, казался полной антитезой Де Люка, певца низкорослого и в молодости худощавого, с таким же коротким и концентрированным на малом участке голосом. Но оба несли в душе свет подлинного искусства и оба сумели постигнуть тайну спетого слова.
* Голос Баттистини, бывший как по фактуре, так и по вокальной школе, типично вердиевским, тяготевшим к традициям XIX века, плохо подходил для веристского репертуара. В «Тоске», в «Андре Шенье», в «Богеме» современные баритоны чувствуют себя на месте в гораздо большей степени, нежели чувствовал он. Баттистини был певцом, нуждавшимся в тоге и котурнах, певцом, если угодно, всецело условным, но полным аристократизма. Божественное и человеческое смешивались в его вокале в единое целое, когда он, скажем, выпевал легчайшим, но темброво отчетливым звуком: «О, прощай же, минувшее счастье, невозвратные сердца восторги»; эти фразы из арии Ренато в наши дни принято либо петь фальцетом, либо выкрикивать во все горло.
ПАРАЛЛЕЛЬ МОРЕЛЬ – СТАБИЛЕ
Есть на свете умы, склонные к обстоятельному, глубокому проникновению в сущность вещей, иными словами, наделенные выдающимися аналитическими способностями, что делает их особенно пригодными для работы в области наукн.
Но наука и искусство – это два начала, которые в пении гораздо чаще конфликтуют, нежели сотрудничают. Наука оказывается безусловным подспорьем, пока речь идет об отработке технической стороны звукообразования. Но когда инструмент настроен, надлежит заниматься лишь игрой на нем, разрешив сердцу уноситься, куда ему угодно, на крыльях чувства и фантазии. Неспроста Верди наставлял Мореля, первого исполнителя партии Яго: «Меньше думай и больше пой!».
Виктор Мораль лез из кожи вон, стараясь добыть из слова его смысловую квинтэссенцию, перелить ее в звук. Благодаря этому голос звучал деланно, принужденно, неестественно; коварному «честному Яго» он подходил как нельзя лучше, но образу жизнерадостного Фальстафа он не соответствовал ни в коей мере. Отсюда и предостережения Верди, уместное и своевременное.
Самым памятным сэром Джоном стал не Морель, а другой баритон, меньше склонный к умствованию, но зато более хитрый,– Марнано Стабиле. В отличие от француза, этот сицилиец сумел схватить свойственный пожилому соблазнителю дух цинического эпикурейства. Кроме того, во время работы над этой партией рядом со Стабиле находился Тосканини; он наставлял, вдохновлял и направлял певца. В результате Стабиле, который во всех прочих партиях и на версту не приблизился к совершенству, достигнутому в этой партии, заслужил широкое признание и удерживал свою репутацию в течение тридцати лет, незаменимый и недосягаемый.
Морель безрадостно окончил свои дни в Нью-Йорке. Пишущий эти строки имел редкую честь принять его в артистической комнате театра «Метрополитен» в антракте между первым и вторым действиями «Богемы», это было в 1922 году. Помнится, в комнату вошел седоголовый господин, высокий и сухощавый. Он был так стар, что производил впечатление ожившей мумии. Но вот он заговорил – и послышались вполне отчетливые слова: «Vous etes un admirable chanteur.* У вашего Рудольфа молодая душа и молодой голос, он – сама простота и непосредственность. Ах, эта святая, эта драгоценная простота! Эта божественная непосредственность! Я так и не смог понять, как их достичь! Теперь-то я уж не пою больше, а чего бы я только ни дал, чтобы начать сначала и петь, как поете вы – просто и естественно. Желаю вам всегда оставаться таким, какой вы есть». И этот обаятельный старик повернулся и вышел так же, как и пришел, – серьезный, углубленный в себя. Словно посланец, явившийся из мира теней, он предостерег безвестного поэта с Монмартра об опасности, которую несла с собой распространявшаяся уже тогда болезнь. За это автор благодарен ему и по сей день.
* Вы превосходный певец (франц.).
ПЕВЦЫ-АКТЕРЫ
ПАРАЛЛЕЛЬ ДЖИРАЛЬДОНИ – КАШМАН
Среди наиболее заслуживающих упоминания поющих актеров мы находим Эудженио Джиральдони, сына другого, не менее превосходного баритона. Автор помнит его великолепным Жераром в «Андре Шенье».
До сих пор живо впечатление от слов «Как любить он умеет!». Этот гигант оперной сцены, способный и на поприще драматического актера потягаться с самим Дзаккони* сумел сказать их, прочувствовать, выразить, продекламировать – ив итоге все-таки спеть. И уже в одной фразе, как в капле воды, перед вами открывались ум, воображение, чутье большого артиста.
С редкой драматической одаренностью Джиральдони соединял мягкого тембра голос, звучавший округло и задушевно. Таким голосом не могли похвастаться ни Скотти, ни Ванни Марку (о них мы будем говорить ниже), хотя оба они завоевали – один в Америке, другой во Франции – известность более широкую, нежели приобретенная урывками во время гастролей в разных странах известность Джиральдоии. С другой стороны, в России, где Джиральдоии гастролировал долго, он выдерживал сравнение с самим Баттистини, и даже превосходил его драматической игрой, хотя и уступал ему в выразительности вокального рисунка.
Артистом, исполненным благородства, и одновременно великолепным, гениальным певцом был баритон из Триеста Кашман. В нем соединялись вдохновение, умение и трезвый расчет; от взаимодействия этих качеств рождался звук богатый, проникавший в душу, который брал начало где-то в потаенных глубинах сердца артиста. В этом, кстати, то общее, что роднит Джиральдоии и Кашмана, двух королей оперных подмостков. Правда, инструмент Кашмана имел, так сказать, больше струн на своем грифе. Вспомним этого баритона хотя бы в «Тоске». В финале первого акта, кончающегося молитвой «Те Deum», его голос свободно парил над хором, громоподобными нотами пронизывал оркестр. Но наступал второй акт – и тот же голос уменьшался, сжимался до змеино-вкрадчивого, едва слышного говорка на словах «Как будто вы себя боитесь выдать».
Кто же они в итоге, Джиральдоии и Кашман? Назовем их корифеями оперного искусства. Природа соединилась в них с благоприобретенной мудростью, и в результате на суд зрителей явились два незабываемых образчика духовной и физической красоты.
* Дзаккони Эрнесте (1857—1948) – актер веристской школы, часто выступал с Э. Дузе (прим. перев.).
ПАРАЛЛЕЛЬ СКОТТИ—МАРКУ
В истории нью-йоркского театра «Метрополитен» был период, когда на его сцене пожинали лавры сразу три певца-неаполитанца – Карузо, Скотти, Амато. В те дни невозможно было представить себе «Мадам Баттерфляй» с Фэррер без участия Карузо и Скотти, так же как «Тоску» и «Богему».
Антонио Скотти очаровал абонементодержателей элегантностью манер и умением естественно носить любой костюм. Он был своего рода законодателем мод, эталоном элегантности для всей остальной труппы как на сцене, так и в жизни. Его Скарпиа остался единственным в своем роде и неподражаемым, также как и его Марсель. В те времена и публика и печать как бы привыкли к его постоянному присутствию на сцене, и беда ждала того, кто осмеливался выступать в «его» партиях, кем бы этот дерзкий ни был.
Голос его был ниже всякой критики – бедный тембрами, глухой, деревянный. Но американцам, обожавшим этого большого актера, этот голос казался звучным, ярким, певучим за счет изящества, аристократизма, актерской пластичности его обладателя. В текущем репертуаре «Метрополитен» тогда постоянно фигурировал «Оракул» Леони – опера, которая в Италии непонятно как и почему до сих пор никому не известна. Это полные трагизма музыкальные зарисовки жизни китайского квартала Нью-Йорка, так называемого «Чайна Таун». Выступая в «Оракуле», Скотти изменял осанку, жесты, голос, лицо и становился настоящим, необыкновенно убедительным китайцем Такое последовательное и полное «перелицевание» личности на сцене увидишь нечасто.
Во Франции в его амплуа аристократа сцены подвизался Ванни Марку, итальянец по происхождению. Тот же высокий рост, та же элегантность, и лишь лицу его ие хватало той победительной красоты, которой славился Скотти; на нем, невесть почему, лежала печать спесивости, чванства, благодаря чему он стал лучшим Скарпиа французской оперной сцены. Но, с другой стороны, и его Дон-Кихот стал достойным соперником образа, созданного Шаляпиным.
Каковы же выводы? Перед нами два исключительных артиста-баритона, которые завоевали славу и почести, хотя мачеха-природа отказала им в исключительных голосах. Это покажется нонсенсом всем тем, кто понимает пение лишь как процесс выработки звуковой материи. Наши певцы поставили свою далеко не первосортную материю в подчинение своей внутренней жизни, и сделали они это очень простым способом – слушая себя.
И Скотти и Марку вовремя заметили, что ждать чудес от гортани, в которой не таилось ничего особенного и которая чутко реагировала на любое недомогание, им не приходится. И тогда они не посчитали за труд изучить, проанализировать, исследовать самих себя и в конце концов привыкли непрестанно слушать себя во время пения. Они перенесли в пение свое «я», сделали его своей душой.
Скотти на склоне лет покинул театр «Метрополитен», осыпанный высшими почестями; чтобы дать своему любимцу возможность безбедно провести остаток дней, американцы назначили ему пожизненную пенсию.
Марку долго руководил Большой Оперой в Бордо.
ПАРАЛЛЕЛЬ РУФФО – БЕКИ
Бархатное пение Баттистини, Де Люка и Страчча-ри, мудро управляемое и расцвеченное оттенками, всплывавшими из глубин души, можно сказать, создало традицию. И традиции этой был нанесен удар, когда раздались первые раскаты голоса резкого и мужественного, голоса Титта Руффо из Тосканы, певца, который, так сказать, довел котировку баритона на бирже театральных ценностей до самой высокой точки за всю историю оперы. Его голос льва, то рычащий, то томный, как бы волочащийся, не походил ни на один из тех, что ему предшествовали – Руффо обожал пускать в ход резонаторы носовых пазух, любил эффектные портаменто и злоупотреблял «маской» до того, что звук приобретал трескучесть. Это был «исторический голос» среди баритонов, подобно тому как Дюпре, Нурри, Таманьо и Карузо были «историческими» тенорами, а Шаляпин – «историческим» басом.
В Прологе к «Паяцам» легендарный Титта на словах «Итак, мы начинаем!» выпускал через свои львиные ноздри в зал такое громовое соль, что по рядам словно ветер проносился. Зрители вскакивали и переглядывались. На это первое соль он! на гласной «а» слова «начинаем», нанизывал целую серию других соль, все более плотных, настойчивых, молотящих по ушам. Публика забывала даже дышать – и только тут наступало, наконец, разрешение.
Так родился миф о Титта. Этот уроженец Пизы обладал мощной фигурой; взгляд его, словно устремленный внутрь, отражал работу мысли; говорил он немного и всегда по существу. Публика Испании и Южной Америки устраивала ему триумфальные встречи в течение почти десяти лет. Но не более того. Даже его столь крепкая физическая конституция не смогла дольше противостоять столь мощным ударам брюшной стенки и диафрагмы. Рано или поздно любой голос выходит из повиновения, если он не поет на дыхании и благодаря дыханию.
В «Гамлете» Тома и в «Севильском цирюльнике» Титта Руффо производил такой же фурор, как и в «Паяцах». Каждого вечера публика ждала, словно чуда.
Автор помнит его выступление в 1927 году в аргентинском театре «Колон», помнит он и недоумение и огорчение публики этого спектакля. В каденции «Застольной» из «Гамлета», которую он сделал знаменитой благодаря живописной подаче финальной фразы «На piu senno chi поп l’ha» («Тот умнее, кто безумен»), он, вокализируя последнее «а», хотел, как обычно, превратить его в бесконечную звуковую гирлянду, опирающуюся на длинное, удивительное длинное дыхание, и… И тут Титта Руффо, этот колосс, этот недосягаемый кумир, застыл, разинув рот, замолчав на половине каденции. Ему пришлось повернуться к публике спиной, снова взять дыхание и возобновить прерванную вокализацию. С тех пор он и начал писать «Параболу моей жизни», свою творческую биографию, каковой очень скоро понадобилось слово «конец».
С 1912 года он не пел в Риме. С 1924 года, когда был убит его шурин Джакомо Матеотти, он не пел в Италии. И в 1953 году он тихо, всеми забытый, скончался во Флоренции, остановив прощальный взгляд на маленьком пианино, на серебряной шкатулке для грима и на мастерски написанной картине, изображающей его молодым в роли Гамлета.
Он заметил, что в пении и в самом деле «тот умнее, кто безумен», кто меньше мудрствует и больше чувствует, кто меньше ищет вне себя – и больше внутри себя. Критическая мысль зачастую убивает душу. А искусственный прием, эксплуатирующий врожденное
физиологическое отклонение, не приносит, в конечном счете, никаких существенных преимуществ. Он сам призвал молодого, только что дебютировавшего Беки не подражать ему. «Вы имитируете мой недостаток», – сказал он. Это означало: «Разве вы не понимаете, что, если бы я мог. я пел бы совсем иначе? Природа создала меня именно таким, и я сумел извлечь из своей конституции пользу, создав на врожденном дефекте голос, который именно в силу этого стал единственным в своем роде. Не повторяйте то, чего повторить нельзя. Это означало бы, что вы сознательно, расчетливо хотите принять себе дефект, которым я был наделен помимо своей воли, что вы желаете стать лишь копией». Беки был первым из целого отряда подражателей великого пизанца. И случилось так, что и он тоже, находясь в зените славы, выступая в 1952 году в Висбадене в «Бале-маскараде», доказал – после целого десятилетия успехов в «Севильском цирюльнике», «Риголетто» и том же «Бале-маскараде» – что Титта был прав. В арии «О прощай, ты, минувшее счастье» он хрипел и задыхался, он пел словно в безвоздушном пространстве; казалось, вокализируя, он вымаливает у публики глоток воздуха. И это был тот самый певец, который еще недавно развивал фантастическое дыхание, который мог раздуть грудь и живот до неправдоподобных размеров, который браво и уверенно метал в публику целые пригоршни натуральных ля, будучи в состоянии заткнуть за пояс любого тенора с небезупречными верхами!.. «Носовой» голос, подобно голосу горловому и утробному, не только порождает звуки, эстетически неприемлемые (хотя они могут быть чрезвычайно эффектны), но и попросту представляет собой угрозу для здоровья. Воздушно-звуковой столб, будучи направлен в носовые пазухи, не в состоянии прорезонировать ни в каких других резонаторах; он отклоняется от своего естественного пути, парализует словесную артикуляцию, превращая ее в неразборчивое гудение и создает добавочную нагрузку на дыхательный аппарат. Это «загоняние в ноздрю» – как принято выражаться на вокальном жаргоне – или, иными словами, направление опертых на дыхание пропеваемых нот в носовые полости, выпячивает верхнюю форманту, но затрудняет модуляцию звука. Так у баритонов зарождается тот специфический режущий призвук, который имеется в виду, когда мы говорим: «Баритон трещит».
Титта Руффо сделал это качество голоса основной чертой своей вокальной физиономии и сразу же стал не похож ни на одного вокалиста своего времени. Потом он с удивлением и горечью увидел, что породил целую школу, совершенно о том не помышляя. Школу эту он воспринял как карикатуру, как профанацию.
Джино Беки еще молод, он может еще вернуться вспять и спасти свой голосовой орган, наделенный столь богатыми звуковыми и комуникативными возможностями, если заново построит свой вокальный метод, и на этот раз – на правильной основе. Он может извлечь полезный урок из примера своего предшественника, человека, который в течение считанных лет пел, отказавшись от жизни, а затем прожил многие, слишком многие годы, отказавшись от пения, созерцая собственную тень, свое невозвратимое прошлое. Влюбленный в свой голос, привязанный к нему, Руффо взрастил его и ревниво оберегал от жизненных соблазнов, но в конце концов счел себя его рабом и на него, на свой голос, взвалил вину за то, что так и не познал красоты мира, которой беспрепятственно наслаждаются другие, менее счастливые, чем он. И тогда он отринул голос, давший ему славу и состояние, чтобы жить обыкновенной жизнью простых смертных. Ему пришлось принести другие, менее достойные похвал жертвы, надеть на себя другие, менее приятные оковы пройти через другие, менее героические переживания, чтобы понять, что счастье заключается не во внешней свободе, но в исполнении долга, в борьбе, в преодолении. И голос, от которого он, «земную жизнь пройдя до половины», отказался, не был ему опорой в час смерти. Вы помните? Флета, прежде чем покинуть этот мир, пропел несколько нот, адресуя их посланцу Вечности, возникшему у его изголовья. Титта Руффо ушел из жизни так же беззвучно, как прожил большую ее часть, с тех пор как пошел на разрыв, стоивший ему стольких мук и так оплакиваемый им до самой смерти.
Без сомнения, образ Бенедетты, его идеальной возлюбленной, стоял перед ним в час смерти.
Что же касается Беки, то у него еще есть время помириться со своим голосом.
ПАРАЛЛЕЛЬ САММАРКО – СЕГУРА-ТАЛЬЕН
Бесчисленное количество отличных баритонов появилось в конце XIX века; они составили ближайшее окружение тех, кто по тем или иным причинам оказался вознесенным на самые вершины славы.
Позднее же, после окончания второй мировой войны, в оперном театре обозначилось явление противоположного порядка – баритонов стало не хватать, и в ответственных спектаклях их приходится заменять несостоявшимися тенорами. Эти последние при всех их «зажигаемости» и экспансивности не могут порадовать зрителя изобилием звучности. Явление это тем любопытнее, что баритональные голоса – это голоса, как мы уже говорили, наиболее распространенные, наиболее «нормальные», и над ними вовсе не нужно так дрожать, как, скажем, дрожат над своими голосами обладатели тенора или колоратурного сопрано. Контральтовые голоса (а буквально – «голоса, противостоящие высокому»), представляющие собой антитезу сопрано, исчезли вовсе, так же как и басы-профундо, эти «живые органные трубы» типа Лаблаша или Мардонеса.
Среди больших баритональных голосов конца прошлого века следует вспомнить о голосе Марио Саммарко, миниатюрного человека (ростом не выше Де Люка), в котором неизменно звучала высшая духовная утонченность вельможи, принадлежавшего к избранному обществу; сочетаясь с сицилийским темпераментом и безупречными манерами, она образовывала букет весьма своеобразный.
Вызывавший у зрителей восторг своей внутренней пластичностью, он посвятил себя – и тут рост оказался его союзником – партии Риголетто. Образ, созданный им, ничем не походил на привычные версии. Великий лицедей, Саммарко выворачивал перед зрителями наизнанку всю душу своего героя, он доносил его бунт против безучастной судьбы, допустившей падение его ни в чем не повинной дочери. («И вот все гибнет ныне. Алтарь низвергнут мой!»). Подобно Джиральдони-сыну, но обладая более красивым и звучным голосом, он пропевал, декламируя, фразу за фразой – и «брал» и трогал публику в тех местах, где все прочие скользят по поверхности, торопясь добраться до финальной ноты и до желанных аплодисментов. А его молчание, его цезуры и паузы! По пальцам можно пересчитать певцов, которые умели своим паузам придать смысл и вес, доказывая этим, что певческий голос и в беззвучии междунотий продолжает излучать мелодический свет. Это чудо проистекает лишь от особых свойств души настоящего артиста, способного к непрерывному внутреннему пению при всей его внешней прерывистости.
Испанец Сегура-Тальен не достиг столь высокой степени внутреннего созерцания и внутреннего слушания, но он брал другим. Его звук всегда был окружен неким призрачным ореолом таинственности, почти мистичности. Особенно ясно это проявлялось в «Пуританах». «О Эльвира, о ты, цветка дыханье! Навечно тебя теряю! И в этой жизни что остается мне?» Автор не может вспомнить этой фразы без того, чтобы откуда-то из глубин его памяти не донесся редкой красоты голос, ныне абсолютно забытый из-за нерадивости людей, не желающих оберегать ценности искусства. Может быть, хоть данная заметка напомнит об этом баритоне и поможет воздать ему должное, пусть даже с опозданием.
ПАРАЛЛЕЛЬ МОЛИНАРИ – МОНТЕСАНТО
Рядом с Титта Руффо, Де Люка, Страччари, Джиральдоии, Галеффи, Амато, Франчи, Краббе и другими, певшими до и во время первой мировой войны, отнюдь не стушевывались такие заметные и интеллигентные певцы, как Энрико Молинари и Луиджи Монте-Санто. Как раз наоборот.
Весьма располагавший к себе венецианец Молинари пел со свойственным романтической школе самозабвением и развивал грандиозную звучность, заставлявшую вспоминать Титта Руффо в его лучшую пору. Правда, ему не хватало импозантности, сценичности, которой обладал этот певец, той сценичности, на которой многие не слишком одаренные вокалисты строят
свое творчество. И все же Яго, «сделанный» Молинари, был наделен им такой пластикой, которую не погнушались бы перенять и самые великие из великих.
Молинари, человек скромный, мягкий и простой, не любил соперничества, шума и борьбы за место под солнцем. В глубине души он полностью бывал вознагражден своим пением, и после спектакля, счастливый, возвращался в невзрачную гостиничную комнату об руку с преданной подругой жизни.
Совершенно из другого теста был сделан Монте-санго, сицилиец, обладавший великолепной фигурой и голосом чувственным и маслянистым. Покоренные тем и другим, женщины падали к его ногам толпами, как в самом театре, так и за его пределами.
Баритон этот – живое подтверждение пословицы «Хорошее начало есть половина дела». В самый разгар войны Энрико Карузо, движимый сердечной добротой и любовью к своей стране, пересек океан, не испугавшись немецких подводных лодок, и явился в миланский театр «Даль Верме», чтобы петь в «Паяцах» под управлением Тосканини. Молодой, темпераментный Монтесанто пел в этих спектаклях Тонио-дурака (который, кстати, выходил отнюдь не дураком).
Миланская публика валом хлынула в театр. С трепетом ждали выхода американского кумира, который обязался петь эти спектакли без вознаграждения, во славу благотворительности и отечества. Не секрет, что идолопоклонники любят сокрушать чужих идолов. Заранее задавшись такой целью, тощие студентики с галереи ждали первого самого пустякового предлога, чтобы наброситься на намеченную жертву. А предлог в первый же вечер представился сам собой. Впрочем, даже если бы он не представился, было бы легче легкого унизить всеми признанную знаменитость, расточая преувеличенные восторги ее партнеру. Так оно и произошло. Король умер, да здравствует король! И миланцы придумали себе собственного молодого короля, пусть временного, в пику королю законному, который, кстати сказать, не обнаруживал ни малейшего желания умирать, пусть даже и лишь морально.
Подобные вещи, к нашему стыду, часто случаются, и заговорщики с галерки «Ла Скала» с охотой прибегают к подобным приемам. Но Монтесанто мог бы восторжествовать и без этого клича: «Он превзошел Карузо!», что разнесся тогда по Милану.
Параллель Молинари—Монтесанто основывается на двух моментах, один из которых носит характер антитезы. У этих баритонов были родственные по тембру голоса, и выступали они в одном и том же репертуаре. Профессиональные же и жизненные их устремления были прямо противоположными. Молинари, с его хорошо поставленным в «маску», свободно идущим наверх голосом, любил вокальные завитушки, требующие большого дыхания каденции, хотя одновременно блистал хорошим легато, выпевал свои фразы звуком сдержанным и наполненным. Скромность и размеренность его повседневной жизни и отсутствие честолюбивых устремлений не позволили ему пробиться в первые ряды, ибо публика и артиста тоже встречает по одежде.
Монтесанто, в голосе которого звучали горловые призвуки, тоже держался в границах стиля простого и благородного. Но при этом он уделял большое внимание гриму и эффектным костюмам. В общем, он вовсю эксплуатировал свою внешность видного и элегантного молодого денди, расцвечивая свои достаточно совершенные природные данные искусно выбранным сценическим антуражем и отработанными жестами. Венецианский же баритон выглядел куда скромнее, а будучи человеком бесхитростным, не обладал умением преподносить себя. А то, что в миру он был сердечным и остроумным собеседником, в счет не шло.
Молинари, увидев, что мир упорно его игнорирует, в конце концов попросил убежища в Доме Верди для себя и для своей доброй подруги. Монтесанто, проживший безбедную жизнь, на склоне лет был вынужден бороться с многочисленными недугами и испытал ряд разочарований на преподавательском поприще*
* Как преподаватель Монтесанто с его огромным артистическим опытом немало способствовал вокальному воспитанию и формированию своего земляка, тенора Джузеппе ди Стефано.
ПАРАЛЛЕЛЬ AMATO – ФРАНЧИ
Во время сезона 1922/23 года автор этих строк приехал в театр «Метрополитен»; и там многие утверждали, что был момент, когда Паскуале Амато едва не перещеголял в популярности самого Энрико Карузо. Беря финальное соль в дуэте первого акта «Джиоконды», баритон из Неаполя полностью «закрывал» высокую ноту своего знаменитого земляка.
Голос Амато весь был напоен какой-то простодушной красотой. Он звенел металлом и без труда разливался в диапазоне полных двух октав, от ля низкого до ля высокого. Прибавьте к этому видную внешность и открытое улыбчатое лицо – и у вас будет полное представление об этом певце.
Но какое-то внутреннее, тайное страдание подтачивало его нервную систему, и в конце концов это отозвалось на всем его организме. Голос стал деградировать, истираться, к удивлению и сожалению американцев, которые так его любили! Довольно быстро у Амато начались финансовые затруднения. Он написал Лаури-Вольпи, прося его подыскать местечко режиссера в одном из тех обществ на паях, на которых держится итальянский музыкальный театр. Все эти общества, как и следовало ожидать, ответили отрицательно, и Паскуале Амато, так хотевший окончить свои дни в Италии, остался в Америке и открыл школу пения. Его мастерство и богатейший опыт послужили на пользу одних лишь иностранцев. В Америке он и умер.
Голос Бенвенуто Франчи по размаху звучности и окраске напоминает голос неаполитанца. При этом он превосходит его по диапазону, хотя уступает ему в красоте.
Учась в 1915 году в «Санта-Чечилия», этот выходец из Сиены наполнял класс маэстро Розати каскадами звучных нот, которые начинались от басового фа и заканчивались ни более ни менее как теноровым до.








