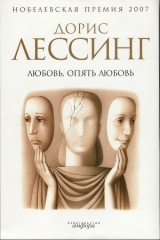
Текст книги "Любовь, опять любовь"
Автор книги: Дорис Лессинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Жюли тем временем обращается к Реми:
– Ты любишь меня. Ты моя любовь. Но ни одна душа не осудит тебя, если ты покоришься воле отца и оставишь меня. Однако если бы я была другом твоим и ты предал бы меня, от тебя бы все отвернулись.
Реми на это возражает:
– Я твой друг. Ты убедишься в том, что я твой друг. Я докажу тебе. Никогда я тебя не оставлю.
Жюли вздыхает:
– Ах, дорогой мой. Но ты ведь мой возлюбленный. А любовь убивает дружбу.
Голос Сары не силен, но чист и верен. Давно, когда она училась в Монпелье, ей советовали над ним работать, но она предпочла год заниматься музыкой. Сейчас она выступила уверенно, понимая, что не ударит в грязь лицом. Начав: «Старо как мир – предать любовь», – она почувствовала себя так, как будто выступила из тени в свет, вышла из роли пассивного зрителя и стала исполнителем. Не ново для нее руководить на сцене, показывать, учить, как сыграть, как спеть, но с этим составом исполнителей такое произошло впервые. Сара ощущала внимание окружающих, чувствовала на себе их взгляды, они были поражены ее уверенностью, совершенством. Сара почувствовала свою силу, ощутила радость, слишком сильную радость, как ей показалось.
Она закончила пение, и все захлопали в ладоши. Билл крикнул: «Браво!», выступил вперед и отвесил церемонный полушутливый поклон. Сара предостерегающе хлопнула ладонями, вмешался Генри.
При втором заходе Генри подавал «любовь» и «дружбу» за контртенора, не смог удержаться от легкого утрирования и изобразил какой-то низкий вой, как будто звук какого-то неизвестного экзотического инструмента. Все засмеялись. Действительно, получилось забавно. Все четверо: Сара, Генри, Эндрю, Молли – обнялись и продолжали хохотать. Генри снова призвал всех к порядку.
На следующий раз все получилось наилучшим образом. «Любовь» и «дружба» никого не рассмешили и добавили сцене глубины и чувства.
Вступила Молли:
– Ты любишь меня. Ты моя любовь. Но ни одна душа…
И Генри вставил:
– Любовь…
Сара продолжила пением:
– Старо как мир – предать любовь.
Когда Молли дошла до:
– Но ты мой друг, а узам дружбы…
Генри простонал:
– Дружбы…
А Сара пропела последние строки против слов Молли:
– Любовь оставит только яд…
И повторила их, когда Эндрю принялся уверять Молли, что он ей друг.
Все отлично получилось. Но не удовлетворило Эндрю. Он потребовал повторить сцену. И еще раз. И еще. Наконец он выдохся.
– Всё. Отлично. Спасибо. Извините, но мне нужно было это усвоить, – развел руками Эндрю.
– Вот и хорошо, – подвел итог Генри. – Перерыв на ланч.
В пятницу на неделе, посвященной Реми, Стивен вернулся на свое место рядом с Сарой. Молли надела длинную юбку, преобразившую ее. Теперь она как будто стала стройнее, зрительно похудела. В ней проявилась отсутствующая ранее ранимость. Храбро боролась она с коварной судьбой. Молодой аристократ из замка Ростанов искренне любил девушку, на которой ему не суждено было жениться.
А музыки все еще не было», и Молли произносила слова, которые должен был петь отсутствующий пока контртенор.
Песнь моя исходит скорбью,
Обними меня, любимый.
Радость наша вьется птицей,
Но подумай, летом жарким
Разлучат меня с тобой.
Вспомни эти дни со мною,
Вспомни скорбные стенанья…
Стивен повернулся к Саре.
– Такого не припоминаю. Полагаю, собственное творчество?
– Не вижу никакого противоречия. – И она положила перед Стивеном свой перевод дневника. – Вот здесь, смотрите.
«Прекрасно! Любовь, любовь, любовь! Плачем от радости всю ночь. А летом затянем другую песню. Видела я взгляд твоего отца. Этот взгляд сказал, что время наше истекло».
– Что ж, пожалуй… Действительно.
Стивен сидел, склонив голову, не глядя на актеров. О смехе речи не было, даже улыбку, казалось, забыло его лицо. Сара полагала, что достаточно резкая смена стиля заслуживает какой-то реакции, и лучше улыбки, чем протеста. Помрачнев, Стивен как будто превратился в жалкого старикашку. А ведь когда-то (когда-то! всего неделю-другую назад) юмор составлял лучшую часть их дружбы. Сара убеждала себя, что должна – должна! – смириться с тем, что та фаза отношений прошла. Стивен стал другим человеком. Когтистая лапа, которую она ассоциировала с Джойс, протянулась к ее сердцу. Нет! Стоп! Она встала, отошла в сторонку, отвернувшись от актеров; уткнулась в реквизит, цветы и фрукты Мартиники, призванные оживить обстановку. Губы сами собой забормотали:
– Гниль приятна мертвецам, а не нам, а не нам; слопал висельник язык в тот же миг, в тот же миг…
И тут же разозлилась на себя, на свою память за эту запомнившуюся со школьных времен ахинею, подсунутую вопреки установкам собственного разума. Услышав, что сзади кто – то подошел, Сара скомпоновала на лице улыбку и обернулась. Улыбка, очевидно, получилась недоработанной, так как Генри испуганно отшатнулся.
– Что случилось, Сара? Что-нибудь не так? Не нравится?
Ну вот, теперь еще и его придется утешать. За Генри Сара увидела Соню (свою наследницу, как она вдруг осознала). Соня подошла к Биллу и вручила ему какое-то, очевидно, адресованное ему, письмо. Он принял письмо… или телеграмму, раскланялся, что-то сказал, оба рассмеялись: привлекательная рыжая Соня и привлекательный парень… нет, не парень, мужчина!..
– Нравится, очень нравится, – заверила Сара Генри и увидела, что у того отлегло от сердца. Проклятая память сопроводила прогулку Сони и Билла по церковному нефу очередной пошлятиной: «Сбежала, сбежала, сбежала красотка; сбежит, убежит, убежит красота…» – хорошо на этот раз хоть не вслух. Она подхватила Генри под руку и вместе с ним развернулась лицом к Реми и Жюли, застывшим в объятиях, впитавшим все печали расставания.
– Я думал, когда вы так резко отошли… Может быть, Стивену не нравится?
– Еще как нравится.
– Правда?
– Еще бы. – И она разразилась тирадами, живописующими, насколько глубоко Стивен тронут успехами, достигнутыми за время его отсутствия.
Подошло время ланча, и они со Стивеном отправились в другой ресторан, отдельно от занятых в спектакле. Сара чувствовала, что Стивен не хочет никого из них видеть. За столом он заявил, что не голоден, и понуро сидел, не глядя, как Сара ковыряется в своей порции. Он как будто даже дышать забывал и все время двигался: то вперед наклонится, то откинется назад, то поднесет театральным страдальческим жестом ладонь ко лбу. Вдруг, неожиданно для себя обнаружив, что она находится рядом, вгляделся в, ее лицо, надеясь что-то в нем найти, но не нашел. Сильно стесняясь, попытался следить за Сарой, оставаясь вне поля ее наблюдения.
Прежде чем расстаться, Стивен наконец высказался.
– Что ж, если я и свихнулся, то не в одиночестве. Услышал ненароком, как тот юный хлыщ каялся Эндрю Стеду, что влюблен в старуху, годящуюся ему в бабки. В вас, очевидно. – Он засмеялся злым смехом, не обвиняя ее, а как будто дивясь безумию мира.
После этого Стивен направился на вокзал, а Сара полетела домой, растворившись в воздухе, растаяв от любви. Да, да, Билл в нее влюбился. «Влюбился»… Одно слово для всех мужчин. И для всех женщин. А в любви больше оттенков, чем вариантов на таблицах и в колерных книжках в магазинах, торгующих красками. Влюбился… Почему бы и нет? В нее всю жизнь влюблялись. Ну, насколько я сама помню, спешно добавила Сара, внеся поправочку. Интересно, однако, как на нее подействовало то, что она услышала это со стороны? Как будто пламя охватило. Билл сказал это, зная, что слова его дойдут до нее. Сара вдруг ощутила жгучее, нестерпимое желание. Весь уикенд она не находила себе места: вскакивала, садилась, металась по комнатам, бросалась в постель, не знала, о чем думать, как будто в полубреду. Но снова и снова слыша это красивое слово: «невозможно».Означавшее именно то, что оно и значило. Страсть Ашенбаха, влечение старика к мальчику,› случай в Венеции… Все ли осуждены влюбляться к старости в юных и прекрасных? И если да, то почему? В чем тут секрет? Влюбиться в себя самого, в реминисценцию? Что ж, объяснение. Все мы нарциссисты, зеркальники. Но с биологической функцией воспроизводства это ничего общего не имеет. А смысл в чем? Природа заставляет упражняться в воспоминаниях, стремиться в прошлое. Для чего? Сара восклицала, вопрошала, протестовала, плохо понимая себя сама:
– Кто? Кто это?
Осознав то, что она произнесла, Сара приступала к комментариям, приходила к заключению о невозможности любви к смазливому юнцу, с которым у нее нет ничего общего, кроме разве что мимолетной симпатии, объясняемой его любовью к матери. Может быть, когда Биллу исполнится семьдесят, эти слова приобретут иной смысл, но не раньше. Не раньше. Только она умрет уже задолго до этого. Он – невинный котенок. Котенок? А его расчетливость! Да, невинный, ибо лишь неуверенный в себе подросток нуждается во всевозможных трюках… Неуверенный… Ха! Как он Молли проутюжил!..
Нахлынули воспоминания, которые Сара отталкивала от себя долгие годы, воспоминания о прошлой любви. Вспомнился муж. Память о нем – как галерея фотоснимков в рамках, как набор сцен из романа. Короткого романа, ведь Алан умер молодым, в сорок лет. Но когда-то, и не так давно, дожить до сорока в Европе считалось существенным достижением. Роман не трагичный, фотоснимки не печальные. Печален лишь конец, о котором вспоминать не хочется. Молодая вдова с двумя детьми. Слезы. Немало она слез пролила. Но как будто все эти слезы выплакал кто-то другой… Другая. Любила ли она его большой, всепоглощающей, жадной любовью? Нет, любовь эта развилась постепенно и привела к замужеству. А до мужа? Еще снимки в альбоме? Да, эта любовь заставляла вытащить из архива все эпизоды, устроить очные ставки с полудетскими увлечениями, которые Сара пренебрежительно списывала как несерьезные. А еще раньше? Кто выдумал эту чушь, что дети, не способны любить и страдать? Нет, об этом лучше не думать, это слишком сложно. Надо выздоравливать. Ибо это болезнь.
И Сара послала Стивену факс.
«Любовь – всего-навсего безумие, и влюбленные также заслуживают кнута и одиночной камеры, как и все безумцы. А не наказывают их и не излечивают потому, что те, кому этим следует заниматься, такие же безумцы и тоже ослеплены любовью».
Он ответил тоже факсом.
«Тот, кто любит, верит в невозможное. Факс – полезное изобретение, но я бы предпочел услышать ваш голос».
Утром в воскресенье ей в дверь просунули открытку. Очаровательная бесхитростная открытка, целующиеся олешки – бемби. Пошлятина страшнейшая. Дошкольнику простительно. Сам дошкольник в дверь засунул или кого-то попросил? И что общего у этого дошкольника с молодцем, пробороздившим пятерней спину и ягодицы ошалевшей Молли? Открытка кричала: я маленький мальчик! Ведро ледяной воды, но только для рассудка. Эмоции не затронуты. Тело горит еще сильнее, если это возможно. («Хочу сообщить вам, как много для меня значит знакомство с вами. С огромной любовью – Билл».)Горит, жжет… Хм, загорелось у нее… Пристойное обозначение для всяких в высшей степени постыдных, мучительных физиологических проявлений: набуханий, подмоканий, подзуживаний… Куда как поэтичнее: горит!
Его телефон у нее записан. Отель недалеко. Сара выждала полчаса, позвонила. Как сделала бы и в «сексуально активном» возрасте. Еще один маскировочный термин, вроде того же «горит». Когда она его впервые прочитала, смеялась. Поблагодарила за открытку и предложила зайти. Казалось невозможным, что Билл не появится сразу, и тут же – в постель!
Дать выход этим физическим набуханиям, выделениям, зуду и жару, кратко обозначаемым словцом «горит».Она услышала его голос. Многослойный оборонительный голос. Ясности восприятия Сара не утратила. Несколько вульгарный, весьма самодовольный. Она разъярилась: убедить его не удалось. Никогда она не подходила к нему, не подсаживалась, не пыталась поговорить, заложить в него что-то свое. Что Билл имел в виду, сказав о любви? Разум подсказал, что тысячу лет назад, когда она любила, находила то, что ощущала, в одной фразе, в одном слове. Он зайдет через часок. Тело бунтовало, но разум, трепеща, как огонек свечи на сильном сквозняке, отпускал язвительные замечания.
Сара вспомнила эпизод далекого детства, давным-давно помещенный в рамочку с соответствующей улыбочкой. Ей шесть лет. Соседский малыш – он для нее малыш, потому что ему всего пять – прильнул к ней под толстым деревом во дворе, в кроне которого устроено импровизированное обиталище. Толстый карапуз под толстым деревом лепечет, что он влюблен в Мэри Темплтон. Обнимает Сару, только что прислюнявил липкий поцелуй к ее щеке и пропыхтел обязательное «Я люблю тебя». Распаленная его объятиями, поцелуем и этим «Я люблю тебя», растворенная в любви к нему, Сара внушает мелкому негодяю, что нельзя ему любить Мэри Темплтон, что Мэри слишком старая для него, что нужно любить ее, Сару. А он упорно твердит, что любит Мэри. Ее распирает ощущение несправедливости происходящего. Он только что поцеловал ее, сказал, что ее любит, он обхватил ее пухлыми ручонками, и тут же… Мэри Темплтон, конечно, недосягаема, она раз в неделю ходит в балетную школу, ей целых девять лет. Разумеется, как существо женского пола, Сара должна бы понимать, что малыш неизбежно обречен любить Мэри, ибо Мэри для него недосягаема. Сара соблазняет его совместной жизнью в древесной кроне, в раю над их головами. Она планирует стащить из кладовки сыр и ветчину, а из шкафа под лестницей старое пуховое одеяло. Малыш колеблется, его прельщает домик на дереве, но Мэри Темплтон все-таки перевешивает.
Этот эпизод, словно замороженный ископаемый мамонтеныш, долгие годы забытый в вечной мерзлоте, наполнил Сару тогдашними эмоциями. Она обожала пухлого маленького негодяя с его мягкими темными кудряшками и большими голубыми глазами. Его влажный поцелуй и это «Я люблю тебя» полностью затопили ее. Она не могла постичь, как ее можно не любить. Но он предпочел ей менту о Мэри Темплтон. Давным – давно, под деревом в несуществующем более саду, снесенном бульдозерами под новые постройки, пережила она отчаяние несчастной детской любви. Так она и списала ее когда-то, как детскую, не заслуживающую внимания.
К ней прибыл Билл. И с ним Молли, Мэри Форд, Сэнди Грирс, осветитель. Конечно, реконструировала Сара, ощущая, как спину ее полосуют горячие ножи, конечно, Билл и Молли живут в одном/ lотеле. А Сэнди? Крепкий молодой человек, способный, симпатичный, здоровый, недавнее приобретение труппы в связи с потребностями «Жюли Вэрон», ею за нехваткой времени почти незамеченный. Возможно, он пригласил актеров к себе домой на ланч, а после ланча некоторые направились в номер Билла, а тут Сара любезно пригласила Билла к себе. Мэри Форд как-то вписалась в эту группу, к которой она, Сара, никаким боком не принадлежала, они ей как будто снились, исчезнут, как только проснется. В сознании ее запечатлелся кадр в рамке, ими не замеченный: смеющийся Билл, стоящий в ее гостиной, рука на бедре, два свежих женских тела, развернутых к нему, изнывающих от желания, на лицах надежда, ожидание. Гм, и Мэри Форд… Интересно. Сэнди разрушил кадр, плюхнулся в кресло, показал на приколотый к двери рисунок Жюли:
– Домой из дома.
И вот они уже товарищи по театру, но лишь внешне, ибо Сара как будто осталась на другом берегу, исключенная, наблюдающая издали. Она видит, как Билл исходит улыбками и взглядами, как томятся женщины, не в силах оторвать от него взгляда. Как, впрочем, и она сама. А он – сияющий самец, что-то вроде оленя, лося, что ли. В памяти всплывает библейская сцена: женщины, одуревшие от присутствия прекрасного Иосифа, ранят руки фруктовыми ножами, не соображая, что творят, себя не сознавая; сцена, интерпретированная Томасом Манном, в тысячах вариантов реинтерпретированная жизнью, сцена с той же замедленной подводной подоплекой, что и эротические сны.
Досужий треп, переливание из пустого в порожнее, легкие шуточки, хохмочки – обмен информацией на модифицированном языке поверхностного общения. Билл старается подпустить юмора в длинную историю о том, как он засел в Нью-Йорке без ангажемента.
– Неделя за неделей. Телефон молчит. И вдруг – прорвало! Четыре предложения подряд. Четыре! Хоть разорвись. – Он внезапно перешел на кокни. – Ну-у, Билл Коллинз, ишь, что и думать… Да-а… – Кокни озадаченно выпучил глаза, почесал затылок и преобразился в диктора Би-би-си. – Всеобщий центр внимания, пастбище для глаза…
– Денежное дерево для дебила Билла, – непочтительно перебила Мэри Форд, и Билл обиженно – не декоративно, всерьез, покраснев и опешив – с раскрытым ртом уставился на нее. Тотчас оправившись, захохотал, выставив на обозрение ярко-красную глотку, и продолжил:
– Во-во! Четыре сразу! Куда деваться? И кто четвертый? Соня! – Он снова засмеялся, потом обвел всех строгим инспектирующим взглядом. – Конечно же, я выбрал Жюли. Не смог устоять. Кроме того, никогда во Франции не был, не говоря уж о работе там. Из холеры в миллионеры, – протянул он с американским акцентом, мрачно и зловеще, никак не милый ласковый малыш.
Молли услышала в его интонации что-то свое, колыхнулась едва заметной компактной улыбкой. Мэри Форд улыбнулась шире, даже кивнула. Сара тоже ощутила на лице дежурную улыбку. Билл же просиял в сторону Сэнди, и мгновенно Сару и, конечно же, Молли и Мэри пронзило озарение. Конечно. Красавчик, театр, Нью-Йорк… Да-да, разумеется, у него в Нью-Йорке подруга, он ведь сам о ней упоминал… Врун! Держи карман шире! Все они обеспечены липовыми подругами и даже женами, если их загнать в угол. Эти мысли метались в голове Сары, и одновременно там же вопил немой голос: «Хватит, хватит! Ради бога, довольно!»
Телефон. Стивен. В голосе слезы, может, еще плачет.
– Поговорите со мной, Сара. Просто поговорите, о чем – нибудь, все равно. Я и вправду схожу с ума.
Не тот случай, когда можно сказать: «Я перезвоню». Она строго глянула на молодежь (к которой причислила ради этого случая и старушку Мэри), сообщила, что из Нью-Йорка звонят по поводу «Абеляра и Элоизы». Конечно, уж Мэри-то сразу поняла, что это неправда. Поэтому она решительно поднялась первой, увлекая за собой остальных. Билл, как Сара увидела и почувствовала с неподобающим удовольствием, с явным нежеланием.
– Уходим, – сказала Мэри. – Надеюсь, не дурные вести. Это не американский спонсор? – покосилась она на Сару.
– Нет, это не американский спонсор.
Мэри вышла на лестницу, солидная дама, смахивающая на молочницу в джинсах – ее собственная шутка. Сэнди попросился в туалет. Молли поплелась к двери, Билл сразу за нею. Сара, проводив Сэнди до туалета, вернулась. Билл, неспособный сопротивляться ауре желания, окружавшей Молли, обнял ее. Молли растаяла, закрыла глаза. Увидев Сару, Билл оставил Молли, подпихнул ее в сторону двери. Молли вслепую направилась к выходу. Билл подошел к Саре, обнял ее за талию, поцеловал. В губы. Поцелуй ни в коем случае не братский.
– Увидимся, Сара.
Его щека обожгла ее лицо. Из коридора донеслись шаги Сэнди, Билл быстро отскочил от Сары и мигом оказался у двери. Сара проводила обоих молодых людей, спускающихся по лестнице, внимательным взглядом.
Вернувшись в спальню, она уселась на край кровати, взяла трубку. Стивен говорил сбивчиво, обрывками фраз, а чаще молчал в трубку.
– Сара, что происходит? В чем дело?.. Я ничего не понимаю…
Так они «беседовали» в течение получаса. Она слышала его дыхание, вздохи, почти всхлипывания. Однажды показалось, что он положил трубку.
– Стивен?
– Не уходите, Сара.
Через некоторое время он вдруг что-то вспомнил.
– Надо пойти помочь Элизабет. Я ей обещал. Я ей нужен. Хотя иногда я думаю, что никому не нужен. Но она рассчитывает на меня. Это уже что-то… Сара?
– Да-да, я здесь.
– Я рассчитываю на вас. Но не могу понять, о чем вы думаете. У меня такое ощущение, что я барахтаюсь в воде, что из глубины поднялось что-то и схватило меня за лодыжку.
– Я понимаю вас, Стивен.
– Понимаете? – Это его обеспокоило. Ведь ее амплуа – уверенная в себе неколебимая твердыня.
Второй акт закончился тем, что Жюли забеременела от Реми, но у нее случился выкидыш. Сценически это передать гораздо легче и требует куда меньше затрат, чем смерть младенца, которая, конечно, залила бы аудиторию слезами. Ребенок – сущий ад на репетициях, а если везти его с собой во Францию, то понадобится целый штат мамок-нянек. Тема вызвала множество дискуссий, высказываний, разнотолков. Иные считали решение циничным. В первую очередь, чадолюбивый Генри.
– Легко вообразить, что ребенок для нее не так уж много значит.
Генри, отец маленького сына, всегда носит с собой фото своей семьи, чисто по-американски всем его сует под нос и каждый вечер звонит жене.
Эндрю Стед, разумеется, имел что возразить. Он не преминул напомнить, что реальный Реми не упускал возможности навестить свое дитя, умолял родителей принять его и рассматривал ребенка как еще один повод для женитьбы на Жюли. Билл напомнил, что у настоящей Жюли был выкидыш: от Поля. Билла задевало, что все забыли о ребенке его героя. Он выражал уверенность, что Поль глубоко скорбел об этой утрате. Жюли, между прочим, писала об этом. Полезли в дневники. Сара сослалась на реакцию жителей Бель-Ривьера. Они обвиняли Жюли в убийстве ребенка. В пьесе же они обвиняли ее в том, что она устроила выкидыш плода, плавая в ледяной воде разлива. В любом случае Жюли Вэрон считали виноватой в гибели собственного ребенка.
– Мы не можем дать две смерти, – заключила Сара, сославшись на Оскара Уайльда: – «Смерть одного ребенка – горе, двоих – простая небрежность». Конечно, американцев это не развеселит, но англичане наверняка примутся зубоскалить.
В число этих англичан, разумеется, входил Билл Коллинз. Он переглянулся с Сэнди и нырнул в бездны английского «черного юмора»:
Вот однажды надоел мне детский крик,
Сунул кроху я свою в холодильник.
Понимая, что дал маху, хватил лишку,
Вынул с полочки обратно я ледышку.
Завопила баба-дура, что есть сил:
«Джордж, зачем ты его переохладил!»
Это исполнил Билл. Сэнди включился сразу же за Биллом, пританцовывая и хлопая в такт словам по бедрам:
Примеряя обновочку, Билл
Покачнулся, в камин угодил.
Пламя гаснет, пора поспешить
Кочергой Билла разворошить.
Коллинз к нему тут же присоединился, и закончили они дуэтом, несколько смутив заокеанских участников труппы. Генри даже неодобрительно покачал головой. Эндрю, очевидно, привык учитывать различия менталитета двух англоязычных наций и вежливо улыбнулся. Остальные улыбались, смеялись, хохотали, гоготали, ржали. Желанная интермедия, рассеявшая впечатление от бессердечного сценического убийства невинного ребенка Жюли.
Кто и как над чем смеется – тоже вопрос непростой. Молодежь, как в театре, так и вне его, держалась за#животики, когда Роджер Стент прислал Соне записку: «Можете гордиться своим остроумием, раскроившим мне пальцы. Наложены два шва». Соня послала пострадавшему две пунцовые розы и траурную открытку с надписью: «Умер наш дядя, хороним мы его…» Сара нашла этот поступок безвкусным, вульгарным. Мэри склонялась к мнению Сары. «Начинаю сомневаться, что иду в ногу с временем», – вздохнула она.
Третье действие. Жюли одна в своем домике, ни с кем не видится, лишь иногда выходит в городок, чтобы сдать в лавку акварели и рисунки, взять ноты для переписки или вернуть уже переписанные. Весьма ответственная часть вследствие вынужденной несобытийности ее. Здесь основную нагрузку принимает на себя музыка.
Жюли чувствует, что на нее нисходит вдохновение. Музыка «дана» ей, но источник ее вдохновения иной, нежели в первом периоде творчества.
«Этот дар… Чья рука принесла его? Я просыпаюсь ночью и слышу шум деревьев, как будто голоса звучат во тьме. Но это не ангелы Господа, нет. Божьи ангелы не несут отчаяния, не терпят его. Согласно старым поверьям, чувствую я грех свой. Призраки прошлого бродят по лесу. Когда-то пробирались здесь от замка к замку, от городка к городку трубадуры, пели о любви, о Боге, которого никогда не забывали. Музыка, которую я слышу сейчас, не от них. А может быть, и от них, ибо говорят же: где Бог, там и нечистый. То, что я пишу сейчас, принадлежит не мне, не Жюли Вэрон. Я новичок в этом лесу. В наши дни все мы новички, а вокруг витают идеи от Бога и от Дьявола. Если бы я вернулась на Мартинику, я встретилась бы с тем, кого боялась ребенком, с дьяволом Вавалом. Но здесь дьявол иной, примитивный, коварный. Никогда я не боялась злых духов, ибо мать моя знала, как их отогнать. И я от них отрешилась, мыслями уже перенеслась в Европу. Я знала, что когда-нибудь окажусь здесь. Не думаю, что написанная мною музыка кому-то в мире покажется чужой, ведь сердце каждого жаждет любви, когда настанет для этого пора в его жизни. Но новая музыка проникает в мой мозг сладким ядом, и я должна усвоить этот яд. Холодной лихорадкой течет она по жилам, приковывает голову к подушке, наливает свинцом руки и ноги, не шевельнуться мне. Может быть, девочка моя, крошка, напевает эти мелодии. Ей не выпало жить. Куда она унесла с собой свою непрожитую жизнь? Мы не верим в ад, в чистилище, в небеса. Почему с такой легкостью отказались мы от веры во все то, во что верили люди еще совсем недавно, во что верили они тысячи лет? Книги из библиотеки моего отца… Много, много книг… Нет, не нужно называть его отцом, ибо он не признал меня. Не нужно признавать его отцом перед людьми. Я получала от него подарки, он нанимал учителей… Мать у меня есть, отца же нет у меня.
Мать моя мне сказала: „Я дочь незамужней матери, и так продолжалось долго. Но не хочу, чтобы ты повторила нашу судьбу". Не было убежденности в ее словах, она, скорее, шутила, и сама же рассмеялась тогда. Но я тогда не смеялась. Теперь смеюсь. Я такая же, и моя девочка стала бы такой же, если бы выросла… Если бы жила. Возможно, в ее время мир изменился бы, можно было бы выбирать между жизнью с мужем или одиночеством, жизнью отшельницы либо изгнанницы. Стендаль рекомендовал такой выбор своей сестре Полине. В Париже или в ином большом городе меня считали бы чудачкой, чем-то вроде бродяги, но я нашла бы свое место где-нибудь при театре или среди художников. Почему я пишу это? Нужно ли мне что-то другое? Нет, я довольна своим маленьким домиком между деревьями и скалами, возле водопада, мне нравится музыка ветра».
Но этот отрывок относится ко времени, когда Жюли обрела душевный покой.
На протяжении многих месяцев… Нет, не менее двух лет продолжался этот период… Трудно отметить точную дату по дневникам. Долго, очень долго длился период сумасшествия Жюли. Она обезумела. Это случилось, когда Реми услали на Берег Слоновой Кости, когда умер ее ребенок. Эти удары судьбы нарушили ее душевный баланс.
«Сложно удержать душу в равновесии. Чуть коснешься – и все летит кувырком, и падаешь, падаешь, засасывает тебя в водоворот».
Иногда страницы покрыты нечитаемыми каракулями, смысл и буквы можно разобрать лишь кое-где.
«Дьявол… дьявол… Это дьявол… Где тот дьявол, нашептывающий мне столь сладостные звуки?..»Вариации с дьяволом на страницах дневника – явно соотносятся с музыкой того времени.
Имя Реми не сходит со страниц. «Реми, Реми, Реми…» – и слезы, слезы, слезы, сплошь пятна от слез. Страницы с записями о Поле таких помарок лишены, тон иронический. Но о Поле она писала по давней памяти, так пишут о прошлой боли. Не сплошь ирония.
«Думая о Поле, – пишет она еще до встречи с Реми, когда боль от утраты Поля еще не улеглась, – я чувствую улыбку на губах. Фиксирую улыбку и подхожу к зеркальцу. Вижу злой, даже порочный изгиб губ. Не узнаю себя в этой улыбке. Вспоминаю куклу. Маман дала мне куклу, привезенную моим так называемым отцом из Парижа. Красавица-кукла. Длинные вьющиеся волосы, голубые глаза… Модная одежда. Тогда французские богачи вернулись из эмиграции, и мода не забыла гильотину: горло куклы пересекала ярко-алая ленточка. Дорогая кукла. Я сломала ее и закопала в землю, похоронила. „Что ты делаешь?" – спросила маман. Я сказала, что убила Мари. Мамая странно глянула на меня. Иные из ее взглядов я чувствую на себе и доныне. Она не рассердилась. Она пыталась понять. Спокойно смотрела, как я воткнула в холмик маленький крестик, к нему возложила дары: бананы, вино для лесных духов и Вавала. Я еще не знала, что в новообращенных в христианство местностях старые духи тоже обратились в новую религию. „Нет, не я убила Мари, – сказала я маман. – Вавал убил ее". Мать молча улыбнулась. Вот такая же улыбка застыла и на моем лице, когда я думала о Поле. Он убил меня. Я думала, что умру, когда его услали прочь. Он пришел ко мне в своей новой красивой форме. Поль плакал, я плакала. Но я думала: „Если бы тебя убили, твою красивую форму испачкала бы кровь". Но он не убит, он делает военную карьеру в Индокитае. Отец Поля рассказывал, он приходил ко мне, справлялся, как у меня дела. Утонченный господин, его отец. Сказал, что самого его родители заставили в свое время покинуть любимую и жениться на нелюбимой. Я спросила этого господина, всегда ли родители заставляют детей страдать так же, как сами страдали. Он прощения просил, плакал даже. Дешевые слезы, пролились и высохли».
Когда Жюли пребывала в неуравновешенном состоянии, от музыки ее, как говорят русские, на душе кошки скребли. Но постепенно она пришла в себя и рассуждала о Боге и Дьяволе как истинная дочь эпохи Просвещения. Однако в голоса, поющие и шепчущие ей на реке и в кронах деревьев, верила.
«Никто не назовет человека сумасшедшим, если он различает лица в пламени».
Сценическая трудность: сжать «скребущую» музыку переходного периода между «трубадурской» и музыкой второго периода так, чтобы она прозвучала лишь намеком, хотя и многозначащим. Справедливо ли сжимать до нескольких нот период ужаса, отчаяния, весивший столь много в жизни Жюли? Но искусство – это обман и ловкость рук, как всем известно. Если взять в качестве меры время, такой подход не назовешь несправедливым, ибо годы прошли, прежде чем Филипп предложил ей руку, годы холодных созвучий и очаровательных рисунков. Еще одна трудность – сын печатника Робер, упомянутый кратко, но столь весомо в хрониках Жюли. В пьесе о нем ни звука. Много встречалось нестыковок, неувязок, фальстартов, многими возможностями пришлось пренебречь, многое подчистить и подкорректировать – короче, пьеса жила, и все в ней происходило как в жизни. Остались неупомянутыми те места дневника, где Жюли взвешивает возможности замужества, которое ее задушит. Вместо них звучит песня: «Нет, милый, ты не для меня, ты для живущей в свете дня, никак тебе не превозмочь тех песен, что поет мне ночь…» – ее собственные слова.
Третье действие – очередь мастера-печатника. Структура пьесы строится следующим образом: акт 1 – Поль; акт 2 – Реми; акт 3 – Филипп.







