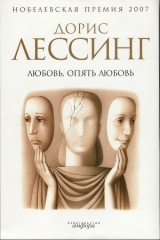
Текст книги "Любовь, опять любовь"
Автор книги: Дорис Лессинг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
– Полагаю, ахинея это или нет, зависит от того, влюблен ты или нет.
– Четкий банковский баланс, – кивнул Стивен и пристально посмотрел на Молли. Та покраснела, засмеялась и отвернулась. – Время ушло, а куда – мы не знаем.
– Нет, мой милый, ни к чему; ни к чему, мой милый, – посерьезнев, выдала Сара.
Бенджамин взял Сару под руку.
– Сара, ваш сообщник Жан-Пьер уговорил меня пропустить сегодняшнюю репетицию. Он любезно предложил показать мне шато несостоявшихся родственников Жюли. Замок этого недостойного молодого человека, бросившего ее.
– Замок Ростанов? Прелестное местечко. И это означает, что вы сегодня не улетаете?
Бенджамин явно колебался. Ее насмешливо-командный тон, а пуще всего захватившая весь город музыка, стенавшая о любви, склоняли его к умиротворенности, к согласию.
– Да, остаюсь на генеральную репетицию в костюмах. Вы ведь этого добивались?
– Этого я и добивалась. – Сара торжествующе рассмеялась ему в лицо, сознавая, что ведет себя неприлично, недостойно, по-детски. В этот момент она полностью забыла о Билле, смотревшем на нее с восхищением. Ему явно нравилось, как ловко она дергала завязочки этого денежного мешка.
Стивен и Сара направились дальше, а остальные повернулись им вслед, прислушиваясь к продолжению цитатной перепалки.
– Хороша любовь в меру, нехороша неумеренная.
– Бог знает. Кто?
– Плавт.
– Плавт!
– Я получил фундаментальное образование, Сара.
– Туда, где дивно так русалки хохотали,
Но для меня споют они едва ли [7]7
Перевод К. С. Фарай.
[Закрыть].
– Но для меня они поют, Сара, в том-то и дело.
Они дошли до улочки, на которой находился музей. Дома и здесь разных оттенков бледности, когда-то темно-бурые ставни выцвели до цвета какао со сливками. Черепица вздымающихся волнами кровель такая же, какой крыли крыши в Древнем Риме, цвета местной почвы: ржавого, бычьей крови и мрачно-оранжевого. На фасадах вспышки балконов, перегруженных горшками с пеларгонией, жасмином и олеандром, под ними, с одной стороны улицы, выстроились в ряд цветочные горшки разной формы и размера. Похоже, что рю Жюли Вэрон основательно подготовилась к посвященному ее памяти фестивалю.
Музей открыли в прошлом году, занимает он дом, в котором, как полагают, Жюли давала уроки. Нельзя сказать, что дом отличается от соседних. Они увидели, что чья-то рука повернула табличку за дверным стеклом стороной с надписью «ОТКРЫТО» наружу. Остальные, очевидно, вернулись, обнаружив музей закрытым. Дверь большая, стеклянная в стальной раме, вмонтирована в толстенную стену старого дома, ведет в обширное помещение первого этажа. В десятке стеклянных витрин демонстрируются тщательно отобранные и систематизированные экспонаты. В одной – художественные кисти, мелки, угольки, незавершенные наброски, метроном, ноты. В другой – желтый шелковый платок, заношенные перчатки из черной ткани. Перчатки как будто лишь недавно соскользнули с маленьких ручек Жюли. Сара услышала, как Стивен украдкой вздохнул. Она покосилась на спутника – мертвенно – бледен Стивен. Перчатки для него живы, дышат Жюли, ее бедностью, ее смелостью, стремлением приспособиться к жизни. Экспонируются ее дневники, письма – главным образом, посвященные переписке нот или позированию для портретов. Писем к матери не сохранилось. Возможно, они сгорели в пылающей лаве вулкана Пеле. Ни одного письма, адресованного Реми, хотя эти письма, скорее всего, сохранились. Письма от Поля и от Реми собраны стопками, готовы к тому, чтобы ими занялись биографы. Письма Поля длинные, отчаянные, затуманенные любовью; письма Реми длинные, ясные и продуманные, но страстные. Филипп, похоже, писем не писал. К чему, ведь они виделись почти ежедневно.
Стены покрыты рисунками и акварелями Жюли. Автопортреты, пейзаж с домом, интерьер ее жилища. Себя она изображала совершенно беспристрастно, без лести, иной раз карикатурно. Вот, к примеру, надутая ощущением собственной значимости госпожа учительница, собравшаяся на уроки в какой-нибудь зажиточный дом, вроде этого, в котором теперь музей. А вот Жюли изобразила себя служанкой-негритянкой в просторной цветной юбке, блузе с оборочками и бандане.
А вот та самая аравитянка под прозрачной вуалью, глаза которой проникли в душу Стивена; та, которую Сара встретила в его имении. Позже, в период Реми, позы ее статичнее, руки часто сложены на коленях, подчеркнута мягкая женственность, готовность к самоотдаче; трогательно обнажены плечи, грудь спрятана в кружевах. Рисунок голой вакханки размещен в сторонке, не бросается в глаза, как будто устроители решили, что из песни слова не выкинешь, но лучше спустить это слово под сурдинку. Живописное наследие Жюли, однако, прорывало рамки музея, ее рисунки и акварели уже украшали почтовые открытки.
Маленькая дочь Жюли, крохотное создание с большими, унаследованными от матери черными глазами, смотрит на посетителей сквозь стекло посвященной ей витрины. Там же представлена кукла; на приколотой к ней карточке рукою Жюли написано: «Sa poupee» [8]8
Ее кукла (фр.).
[Закрыть]. Кукла примитивная, скорее, намек на игрушку; лысую голову перечеркивает шов-шрам, как будто с нее скальп срезали, глаза отсутствуют. Но даже в таком виде кукла оставалась любимой: чумазая, затасканная, обозначающая платье красная тряпица разодрана.
Стивен и Сара плачут, не скрывая слез.
– Никогда я не плачу, – бормочет Сара сердито. – Это всё проклятая музыка ее, проклятущая, проклинающая.
– Время плакать и время смеяться, – отзывается Стивен. – Второго не дождемся. Пошли-ка отсюда.
Вышли на улицу, где музыку то и дело перекрывает рев мотоциклов. Труппа за столиками кафе, под тентами-зонтиками. Для забавы устроили цитатную перекличку, подражая Саре и Стивену.
– Всё, в чем ты нуждаешься – это любовь, – сурово возвестил Билл, после чего все принялись наперебой цитировать известные песни.
– Всё, что надо мне – заснуть, – в тон ему отозвалась Салли, и Ричард пропел тоненьким голоском:
– Заснуть, заснуть, заснуть…
– Ну и голос у тебя, – удивилась Салли.
– Пусть забьются сердца беспокойно! – обратившись к кому-то в верхних этажах, воскликнула Мэри Форд.
– Здесь мы на месте, здесь наше время, – повернулась к Биллу Молли.
– Еще денёк, еще денек в раю, – ответил ей Билл.
– Ты мой единственный соблазн, – сообщил Эндрю не то салфеточнице, не то набору из солонки, перечницы, горчичницы, зубочисток и сувенирных спичек в центре стола и добавил, чуть подумав: – Люблю тебя, любовь. – Он повернулся к Саре, приветственно поднял стакан, еще немножко подумал и повторил то же в адрес Стивена.
– Толкайся и крутись, – призвала Молли Билла.
– Об-ла-ди, об-ла-да… – поддразнил он ее.
– С тобой, только с тобой, – сначала сказала Салли Ричарду, затем пропела ему это, и он тут же ответил:
– Слишком поздно, ушло наше время… Ползут мурашки по спине…
И снова Салли:
– Глянь на меня, приятель мой, дойду ли я одна домой…
Ричард поднял ее руку, поцеловал. Она отняла руку, вздохнула. У обоих на глазах выступили слезы.
– Сказал, что любишь, в доброте сердечной, – это опять Молли и опять Биллу. – Что жадным взглядом смотришь на меня?
– Солнце высоко, колодец далеко. – Билл залился краской, как будто вспыхнул. – Жар донимает, пойду-ка лучше я купаться. – Он вскочил.
– Пойду-ка лучше я купаться, чтоб с вами больше не общаться, – усмехнулась Молли, зло глядя на Билла.
Билл постоял, ожидая, не присоединится ли к нему кто-то еще, однако никто из женщин не двинулся с места. Сэнди, однако, вскочил.
– Я с тобой.
Они зашагали прочь под взрыв женского хохота, злобного и визгливого. Услышав себя, женщины тут же смолкли. Все молчали, вслушиваясь в многослойный гул и грохот городка.
Не принимавший участия в происходящем Генри поднялся.
– Повеселились. До Сары и Стивена нам далеко. – Он возвел очи к небу и запел весьма профессионально: – Отречемся от грешной земли и воззримся в высокое небо… – Сорвав аплодисменты, Генри раскланялся. – Стивен, я ждал вас, как в засаде. Вам следует направиться в кафе. Жан-Пьер приглашает на ланч с американским партнером.
– Это приказ?
– Да, если позволите.
– Что ж… Но только вместе с Сарой.
– Нет уж, отдувайтесь сами, – протестующе подняла она руку.
– Неподчинение! – Стивен подхватил Сару под руку, но Генри тут же схватился за второй локоть Сары.
– Но Сара мне как раз очень нужна.
Стивен отпустил ее.
– Ну, что поделаешь. Иду в кафе.
– Да, только давайте внутри. Там прохладнее.
Стивен вошел в зал, где неистовствовал музыкальный автомат. Он тут же снова появился снаружи в сопровождении Бенджамина. Оба трясли головами и указывали на уши.
– Конфликт отцов и детей, – сказала Салли. – У нынешней молодежи барабанные перепонки из армированного бетона.
– И как они не глохнут… – пожал плечами Стивен, проходя мимо.
Оба исчезли в тихом отеле.
Большинство все же склонялось в пользу купания. Там, где когда-то Жюли и мастер-печатник прогуливались в городском саду, теперь расползлась автостоянка, появились плавательный бассейн и теннисные корты, кафе. Пара чудом уцелевших акаций осеняли тенью площадку для игры в крикет.
Сара и Генри уселись под зонтиком, обсуждая демарш местных жителей. Жан-Пьер принял их депутацию, протестующую против слов, которые, по их мнению, предки их никак не могли произносить. Слов, которые вложила в их уста Сара. Слов, зафиксированных в дневниках Жюли.
– Надо что-то сделать, как-то это затушевать, иначе мы их потеряем. Они нас поддерживают, работают без оплаты, на энтузиазме, во славу своего городка.
Затем на автомобиле направились в театр. Французы работали здесь с Сэнди, прикрепляли кабели к деревьям, развешивали громкоговорители. Перед домом уже установили ряды стульев. Площадку основательно расширили, удалили несколько каштанов и олив. Вокруг стрекотали цикады.
– Акустический эффект, о котором мы в Лондоне и не подозревали, – сказал Генри.
– Жюли ведь сочиняла под этот аккомпанемент срою музыку.
– Может быть, цикады ей и навеяли музыку? Кое-что, во всяком случае.
Сэнди увидел Генри и подошел за указаниями; они отошли, а Сара опустилась на низенькую земляную насыпь под южным дубом, бедным родственником могучих северных великанов. Вернулся Генри, уселся рядом, критически уставился на сцену, которой на следующий день предстояло ожить. Без толковой репетиции. Городские статисты завтра утром соберутся на площади, где им расскажут, как следить за Джорджем Уайтом и повторять его действия; Генри сильно переживал. Сара успокаивала его афоризмами типа: «И тонна беспокойства долг на грош не убавит». Он ответил словами современного хита: «Don't worry, be happy…»
– Сынок вчера по телефону обрадовал. Оба любят эту песню, жена тоже. – Генри неодобрительно сжал губы. – Заботы улягутся, если все пойдет путем, так я считаю.
– Что ж, полностью присоединяюсь.
Скоро подошел автобус с труппой. Сара хотела было вернуться с ним обратно, но Генри запротестовал.
– Хотите бросить меня?
И она осталась в дырявой тени под деревцем, наблюдая за репетицией, которая тянулась с перерывами и повторами, а технические работники неустанно возились с оборудованием. Певицы не пели, а декламировали, актеры подавали текст, но не играли, с сознанием необходимости того, чем они занимались, но без сценического воодушевления. Со скуки то и дело перебрасывались шуточками. Усилитель вдруг взвыл и отключился, лишенные звукового фона актеры дали отдых голосовым связкам.
Билл вдруг обратился к Молли с уже произнесенными в этот день в ином месте словами:
Прах мой это услышит, забьется,
Хоть сто лет пролежит в мертвецах —
Все равно затрепещет, очнется
И распустится в алых цветах.
Декламацию свою Билл сопроводил клоунскими жестами, чуть не приплясывая вокруг утомленной Молли, отиравшей прах осевшей на нее пыли и обильно выделявшийся пот и даже не пытавшейся улыбнуться. Подтянутый лейтенант французских колониальных войск вмиг преобразился в хулигана – кокни, орущего две последних строки Сэнди, влезшему на полуразрушенную стену, чтобы набросить толстый кабель на сук дерева. Ладное тело Сэнди плотно облегал хлопчатобумажный комбинезон… Прекрасно представляя, как он выглядит, Сэнди издал громкий и весьма похабный смешок, чем осилил непростую задачу – выставить всех присутствующих, всю мораль на посмешище. По рядам присутствующих: актеров на сцене, то есть перед разрушенным домом, в кулисах (деревьях); музыкантов, певцов – прокатился нервный смех и тут же замер. Всем стало не по себе. Билл быстро огляделся. Конечно, он и хотел вызвать шок, но подставлять себя под удар не желал. Присутствующие, не отрывая взглядов от приготовившегося к прыжку со стены Сэнди, не обижали вниманием и Билла. Генри решительно направился к нему.
– Билл, играем какую-то другую пьеску?
– Прошу прощения, нашло на меня что-то. – И Билл вновь повернулся к Молли, раскрыв ей объятия, нацеленные куда-то гораздо ниже плеч. Молли досадливо поморщилась и отшатнулась от него.
Билл устремил умоляющий взгляд на Сару. Ее ощущения оказались неожиданными для нее самой. Да, сострадание, однако не живое, согретое нежностью, но сухое, отвлеченное, как знак Времени. Физиономия Билла в ярком южном послеполуденном солнце показалась чудовищной маской, покрытой множеством мелких и мельчайших пустячков, испещренной морщинками, черточками, строчками, рубчиками. С преобладанием беспокойства. Глянь на этот миловидный фасад тела не любящим, но отстраненным взглядом, глазами, натренированными долгими годами бесстрастия, и увидишь тонкую сетку неудовлетворенности. Неуравновешенности. Страдания. Слишком многого ему стоило казаться поклонником женского пола в традиционном понимании, любителем женщин в том смысле, в каком их любят обычные мужчины. Конечно, можно сказать, что он любит женщин, его насущная сексуальность включает и их в сферу своего интереса, но ему совершенно ничего не известно об удовольствиях борьбы, противоречиях, балансе полов в великой игре природы. Всплыли в памяти строки Жюли: «Тебе и алфавит неведом. Лишь новые морщины под твоими глазами умеют говорить со мной». Но внезапное искажение его лица, крушение в момент опасности, в момент даже воображаемой опасности, не отражало достойного прочтения информации. Определенного рода сочувствие – противоядие от любви. Жалость убивает любовь. Во всяком случае, убивает любовное желание. Жалость, ею ощущаемая, поражала грандиозностью, масштабностью, как и все эмоции, связанные с Жюли Вэрон. Ощущалась в этой жалости и примесь жестокости, причем немалая. Яд, примешанный к противоядию. Ты заставляешь меня страдать, ты похож на желторотого пацана, развлекающегося с взрывчаткой, ты позволяешь своему влечению к матери, которого ты не осознаешь или не признаешь, выхлестываться на всех окружающих старух… да-да, засекла я тебя сегодня утром с Салли, видела я и как она на тебя реагировала… Ты не просто допускаешь это поневоле, по неизбежности, а сознательно разжигаешь огонь. Что ж, поделом тебе, и я рада, что страдание искажает твою бессмысленную милую мордашку. Конечно, неприятно в этом признаваться, но именно такие эмоции бушевали в сознании Сары.
Прибыл автобус, отвез труппу в город. За столиками пошел разговор о сегодняшнем концерте. Стивен сказал, что присутствие Бенджамина он обеспечит. Конечно, тот увидит пьесу с музыкой, но музыка Жюли сама по себе отдельная тема, не следует пропускать такой возможности. Эндрю согласно закивал, сообщив, что музыка Жюли изменила его жизненную позицию. Сообщение Эндрю развеселило всех: надо же, ковбой подпал под влияние музыки. Генри предпочел отдохнуть перед напряженным следующим днем и пораньше улечься. Так же решила поступить и Сара. Оба посидели немного в сумерках перед «Колин Руж».
– Расскажу-ка я вам о себе, о своей жизни. Рассмешу, – сказал вдруг Генри.
История получилась живописная. Сироту приютило бандитское семейство. Он сбежал, решив стать бедным, но честным, вкалывал в разных притонах и кабаках… Рассказывая, Генри следил за лицом Сары, чтобы убедиться, что она смеется.
– …Пока меня не спасла любовь доброй женщины. И вот, престо, а лучше сказать, вуаля – я модный театральный деятель.
– Похоже, вы собираетесь утаить от меня историю своей жизни.
– Почему же… Возможно, как-нибудь…
– А где во всем этом ваша мать?
– Гм… Да… Вот оно как… С чего вы взяли?
Сара улыбнулась.
– Мать матери рознь. У меня есть мать. А вы – колдунья. Вроде Жюли. – Генри уже вскочил, готовый удрать.
– Легко вы в ведьмы записываете. Нет на свете женщины, которая не учуяла бы мать.
Генри сощурился на собеседницу, чуть наклонился вперед.
– Об-ла-ди, об-бал-да, – промурлыкал он и хищно оскалился. – Сейчас изречете, что большинство из нас при матерях или что-нибудь в этом роде. Обматерены. А как насчет Билла?
– Я бы сказала, что он в большей степени при матери, чем большинство из вас.
– А Стивен?
Она покачала головой.
– Гм. Действительно, странно. О нем я как-то совершенно не задумывалась.
– Странно и смешно. – Он засмеялся. – Такой орешек зубами не раскусишь.
– Почему же я о нем не подумала? Что ж, скорее всего, в семь лет его услали из дому в интернат. Спальня с множеством кроватей, а ночью дети плачут во сне, зовут мамочку.
– Странное племя эти люди.
– Годам к десяти-одиннадцати мамочка для него уже чужая.
– Полюбила я чужого, – запел Генри. Улыбнулся. – Мне повезло, что встретился я с вами. Для вас это не секрет. Не знаю, как бы я без вас справился, Сара. А сейчас пора позвонить домой.
Встречаться с Биллом ей не хотелось, любоваться на Стивена и Молли, на отражение собственной прискорбной ситуации – тоже. Она села у окна своего номера, не включая свет, следила за происходящим на площади, слушала молодые голоса. Ни Стивена с Молли, ни Сэнди с Биллом внизу не видно, Бенджамина обхаживает Жан-Пьер. Сара улеглась.
Проснулась она, возможно, оттого, что смолкла музыка. Тишину нарушали лишь цикады. Нет, не цикады. Крутилась, пощелкивая, вертушка поливальной установки. От луны остался лишь ломтик, лениво ползущий над городскими крышами. Пыльные звезды, мокрая пыль, обрызганная дождевальной установкой. На тротуаре возле закрытого кафе на поставленных рядом стульях две фигуры. Тихие голоса, затем смех Билла. Он, разумеется, не с женщиной, это Сара слышит по смеху. Ни с Молли, ни с Мэри – ни с какой женщиной не станет он так смеяться.
Вернувшись в постель, Сара улеглась поверх одеяла. Ночь дышала дневным жаром, жалкая прыскалка под окном никак не освежала воздуха. Ее охватило нечто худшее, чем желания. Глаза распирали невыплаканные слезы. О чем скорбим?
Сара заснула. Любовь… процесс горячий, влажный… но не жжет, не жалит. Пробудилась призраком: от нее отделился фантом, с нею равнообъемный, скользнул в сторону, сморщился до стадии сосунка. Призрак-младенец окунулся в жаркую жгучую влагу, пропитался болью желания и вернулся в ее тело. Она перевернулась вниз лицом, вонзилась зубами в подушку. Сухая ткань уколола язык горечью…
Лежа на спине, Сара наблюдала за игрой бликов на потолке и стенах номера. Контрастную светотень бросили на потолок фары запоздалого автомобиля. Голоса в коридоре: Стивен… Второй, очень тихий – женский. Молли? Что ж, совет да любовь.
В поле зрения Сары попала не только эта комната, сон все еще не оставил ее, он расслоился, размножился, обволакивая ее и все окружающее. Раскалывалось и пространство. Вот область обитания отделившегося от нее младенца. Она ощущает его отчаяние. Чувствует присутствие множества иных сущностей. Вот голова красавца молодого. Билл – он же Поль… Самодовольная улыбка, взгляд в зеркало… Но из зеркала смотрит молодое женское лицо, оживленное, насмешливое. Сара прикоснулась пальцами к собственному лицу – под ним, она знает, скрыты другие. И молодой женщины, и девочки, и младенца. Она заставила себя подняться и подойти к окну. Стулья внизу не заняты, площадь пуста. Забытая поливалка по – прежнему тарахтит под деревьями.
С языка падают слова.
– …Стадии взросления, созревания, срыва в водоворот… – Спит она или грезит? Сидит ли у окна? Нет, она не спит, но язык ее… – стадии взросления, созревания, срыва в водоворот…
Желание не ослабевает, рвет на части. Сара не припоминает, чтобы с ней случалось такое даже в периоды самой сильной влюбленности. Режущая нутро пустота заполняет ее, вытесняет жизнь из тела. Нужда, зависимость, беспомощное и безнадежное ожидание теплых рук, момента возврата жизни и любви…
Четыре. Скоро рассветет. Сара идет в душ, неспешно одевается, готовится к дневной активности, затем возвращается к окну. Верхушки деревьев уже розовеют, площадь все еще пуста. Но вот в устье улицы Жюли Вэрон появилась старуха в платье с длинными рукавами. Платье белое в розовых цветочках, с черным воротничком и черными манжетами. Идет без спешки, смотрит под ноги. Подошла к скамье под платаном, протерла ее белым платком, села. Замерла, прислушиваясь к стрекотанию цикад и дождевальной установки. Ей нравится сидеть на площади в одиночестве. Наблюдающую за нею Сару старуха, разумеется, не заметила. Возможно, так же сидела на этой скамье ее мать, а до нее и бабка… думая всякие гадости о Жюли.
Сара вышла из комнаты, спустилась по лестнице. У конторки никого. Она отодвинула засов на двери, вышла на тротуар. Проходя мимо старухи, обменялась с нею улыбками. «Бонжур, мадам – бонжур, мадам».
До домика Жюли около трех миль. Сара не торопилась, так как уже навалилась жара. Асфальт присыпан розовой пылью, такая же пыль на стволах и листьях деревьев. Листья вялые, обвисшие, дождя не было давно. Солнце поднялось над холмами, залило красные стволы сосен красным светом, исчертило землю тенью. Жюли окружал скупой, суровый пейзаж, несравнимый со щедростью лесов Мартиники, пропитанных тяжелым, наркотическим цветочным ароматом. Здесь резко пахло тимьяном, майораном и сосной. Асфальт закончился. Сара продолжала путь по дороге, которой пользовалась Жюли, размышляла о том, что отделяло ее от женщины, жившей восемьдесят лет назад. Горячий воздух уже обжигал кожу и носоглотку. Возле развалин домика трудились двое рабочих, поправляли стулья и убирали мусор после вчерашнего концерта. На пустую сцену напрашивались суровые древние драмы. Казалось, сейчас выскочит на нее пролог в маске, возвестит начало представления, в ходе которого злой рок преследует обреченных, а античные боги сварливо торгуются, словно базарные торговки, выжимая друг из друга все новые льготы для своих протагонистов. Интересно представить себе такой торг из-за Жюли между Афродитой и Афиной. Сара обошла домик, опутанный проводами и обвешанный динамиками, воображая общение богинь как разговор двух школьных училок, обсуждающих нерадивую ученицу. «Могла бы намного лучше, если бы приложила хоть капельку усердия». Но если Жюли не жрица богини любви, то кто она? Ей присуща безжалостная соблазнительная женственность, сразу распознаваемая женщинами и за версту ощущаемая мужчинами, отметающая и подавляющая всякие соображения морали и порядка – сильный аргумент Афродиты. Но почитайте ее дневники… Так кто же она?
«Послушай меня, Жюли, – обращается она сама к себе лет этак за девяносто до того солнечного утра, в которое Сара топчет пыль у развалин ее каменной хижины, направляясь к реке. – Если ты допустишь в сердце свое любовь к этому человеку, то окажешься в еще более затруднительной ситуации, чем с Полем. Ибо это не милый мальчик, видящий себя лишь отраженным в твоих глазах. Реми – мужчина, несмотря на то, что он младше тебя. С ним развернутся, расцветут все твои женские способности, откроется возможность реализовать себя как женщину. А потом? Разбитое сердце – это бы еще ничего, с этим ты уже жила. Но разбитая жизнь… Опомнись, Жюли, пока не поздно».
Но она не опомнилась.
Какая, которая из Жюли говорит:
«Не воображай, милая моя, что, коли ты предпочтешь любовь, тебе не придется расплачиваться за этот выбор»?
Но явно не дочь Афины пишет вот это:
«Сочиняй свои песенки. Малюй свои картинки. Но это не жизнь женщины. Предпочтешь влачить этуне-жизнь? Сбежишь в пустыню?»
А вот и река с ее порогами, разливами и размывами, и скамья, сооруженная городскими службами для желающих по– размышлять о печальной судьбе Жюли. И кто-то уже размышляет. Генри. Поникшая поза позволяет предположить упадок сил и отток эмоций. Уставился перед собой, а приближения ее не заметил не вследствие глухоты, но в результате оглушенности звуком. В ушах его затычки наушников, к карману тянется провод. То, что он слушает, не имеет к Жюли никакого отношения. Слух Сары воспринимает какую-то мелко-жестяную дурь, ее перекрывает вопль самки какого-то зверя, вероятно, кошки, хвост которой кованым штурмовым башмаком придавил мощный «зеленый берет». Сара улыбается, подсаживается к нему, соблюдая высокоморальную дистанцию. Генри выдирает пробки из ушей, сует руку в карман и раздавливает масскультуру нажатием пальца.
– Зачем ты не сказал мне о любви, пока не взял мою? – выпевает он фразу Жюли на какой-то попсовый мотивчик, Саре совершенно неизвестный.
Генри откинул голову и издал протяжный волчий вой.
– Я лаю на луну, я тешу сатану; нечаянно я выпил белену, – прокомментировала Сара, мило ему улыбнувшись.
– Браво, браво. Как раз в точку.
– Вы тут всю ночь продежурили, Генри?
– Почти.
– Но вы же знаете, что все будет в порядке.
– Мы запишем в тетрадке: все будет в порядке. Натурально, знаю, но верить в это упрямо отказываюсь.
Генри резким движением выпрямил спину, расставил ноги пошире, раскинул руки и уперся ими в скамью. Эта поза ему, очевидно, не понравилась, он перекинул левую ногу через правую, затем правую через левую, руки скрестил на груди. Река бросила в них туманный клок брызг. Быстро бежала река мимо рыжих скал и рыжих деревьев, курчавилась мелкими водоворотами, плескалась в берегах, качала прибрежный камыш. Перед водопадом устраивалась передохнуть в верхнем пруду, темном и тихом, с быстрым течением лишь по центральной линии. Перемахнув через каменный край, вода с шумом, поднимая тучу брызг, падала в нижний разлив, разбиваясь о скалы в сахарную пену. Глубина внизу небольшая, но буйство потока, втягивающего в себя все, послужило причиной гибели Жюли и – как упрямо болтали некоторые жители городка – ее ребенка. Как будто не было врача и выписанного им свидетельства! Но люди верят в то, во что хотят верить. Пониже этого коварного разлива, за скалами, обширный проточный водоем, в котором Жюли плавала, но лишь по ночам, чтобы ускользнуть от недреманного ока соглядатаев.
– Чтобы утопиться здесь, надо обладать железной волей, – сказала Сара.
– Может, напилась для храбрости.
– В дневниках нигде не упоминаются спиртное и наркотики.
– Вы уверены, что она все доверяла своим дневникам?
– Полагаю, что все.
– Тогда возвращаюсь к своей первой гипотезе. Когда я впервые прочел дневники Жюли, я напрочь отверг мысль о возможности самоубийства.
– Вы того же мнения, что и горожане? Они полагают, что ее убили.
– Я не того же мнения. Я полагаю, что они ее и убили.
– Но ведь Жюли собиралась стать респектабельной женщиной.
– В том-то все и дело. Может, им не нравилось, что ведьма станет мадам Мастер-Печатник.
– Ведьма?
– Знаете, Сара, она мне тут приснилась… Не какая-нибудь сисько-попка, положенная мне по возрасту и воздержанию. Приснилась, когда она уже… в общем, после…
– Привлекательность женщины не в сиськах и не в попках, – одернула его Сара тоном строгим и поучающим.
Генри покосился на ее суровое лицо, улыбнулся.
– Что ж, в какой-то степени верно. Как посконно-домотканый американский парень я должен увлекаться нимфетками, у которых выпуклости еще не полне… Ладно-ладно, не сердитесь. – Он вскочил, схватил ее руку мокрой от брызг водопада ладонью, поцеловал. – Ох, Сара… – Кажется, он сдержал зевок. – Надо вздремнуть, если получится. Технический прогон в одиннадцать. Рой натаскивает городских любителей. Потом с вокалом. Вы будете? Хотя вам, конечно, не обязательно.
– Буду, если хотите.
– Нежась в закатных лучах… – Он вернул затычки в уши и понесся, чуть ли не бегом, обратно к домику Жюли.
Она подошла к берегу. Настоящий омут. Здесь стояла Жюли, вглядывалась в коварную воду. Прыгнула. Невысоко, футов около шести. Камни, бурлящий поток… Она упала на ноги, поскользнулась, качнулась, рухнула, возможно, на гладкий валун, позволила воде втянуть себя… Позволила? Но она плавала, как рыба.
Сара почувствовала чье-то присутствие, повернула голову – у скамьи остановился Стивен. Она подошла, села. Он опустился рядом.
– Что-то всем нам сегодня не спится, – заметила Сара.
– Я сегодня не ложился. Полагаю, по мне заметно. – Стивен развел руками. Одежда измятая, да и попахивает от него…
Ну, и трагическая маска на лице. Снова Сара подумала, что за всю жизнь подобного не ощущала. Такое выражение лица может быть у переживших стихийные бедствия, когда их интервьюируют телерепортеры. – Всю ночь гулял с Молли. Она любезно согласилась… По улицам… Темно в городе…
Чего ж тут не понять. Темно ночью под деревьями, кто же спорит. Огрызок луны… да и тот вскоре спрятался. Они выныривали в пятнах лунного света, вновь погружались во тьму. На Молли белая хлопчатобумажная юбка и облегающая белая футболка. Черно-белая гамма.
Не в силах выносить его вида, Сара отвернулась к воде.
– Чрезвычайно интересно, правда? Удивительно, что происходит с твоей гордостью. Она меня поцеловала. Что ж, и я ее тоже… – Стивен помолчал. – Спасибо, что промолчали, Сара.
Она покосилась на Стивена. Слезы оросили щетину его щек.
– Что-то я плохо понимаю, – продолжил он. – Что можно сказать о пятидесятилетнем старике, уверенном, что ничего более магического с ним за всю жизнь не случилось, чем поцелуй во тьме с…
Сара прокрутила в мозгу фразу: «Тебе хоть поцелуй достался». В этот момент она ощущала злость и зависть.
– Все пролетело мимо меня, – услышала она его голос, ослабленный порывом ветра. – Жизнь пробегала мимо. Конечно, я влюблялся, но… – Ветер унес его слова. – Кто это сказал, что, когда обнимешь женщину, все происшедшее с тобою ранее превращается в прах и пепел?
– У Жюли есть что-то подобное. Она говорит это о Реми. – И второй раз за день Сара сказала: – Чтобы утопиться, нужна сила воли, убежденность.
– Будь я здесь…
– Вы или Реми?
– Вы не понимаете. Я и есть Реми. Я проникся им.
– Вы тоже младший брат? Как Стивен, я имею в виду.
– Но у меня два старших, не четыре, как у Реми. Не знаю, насколько это критично. А вот что критично… Что бы я должен был сказать, чтобы предотвратить ее смерть?
– Выходите за меня, – предположила Сара.
– Нет-нет, вы не понимаете. Это совершенно исключено. Он не мог жениться на ней ни при каких условиях. Он француз. Во Франции все в тысячу раз слоящее, чем у нас. У них семья – кремень. У нас проще. Мы можем жениться на певичках и моделях… и почище того. Очень полезно для генофонда. Французские аристократы такого не допустят. Да еще сто лет назад. Совершенно безнадежно. А не влюбиться в нее Реми не мог. Причем на всю жизнь. Он любил ее до самой смерти.







