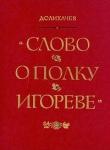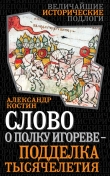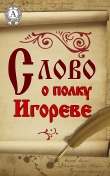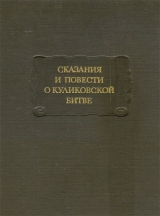
Текст книги "Сказания и повести о Куликовской битве"
Автор книги: Дмитрий Лихачев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 40 страниц)
Оба союзника Мамая, Олег Рязанский и Ольгерд Литовский, изображены в «Сказании» с определенной долей иронии как коварные, но неразумные предатели. Рассказывая о честолюбивых замыслах этих неудачливых союзников Мамая, автор восклицает, что они рассуждают, «акы несмыслени младые дѣти» (с. 27). «Многоразумный» Ольгерд, доверившись Олегу Рязанскому, оказался посрамленным. Автор «Сказания» особенно старается подчеркнуть ограниченность и тупость рязанского князя, о котором он в самом начале говорит, что «скудость же бысть ума въглав’ѣ его» (с. 26). Скудоумие Олега Рязанского помешало ему увидеть возросшую мощь Москвы. Узнав о том, что московский великий князь выстудил против Мамая, Олег восклицает: «Азъ чаях по преднему, яко не подобаеть русскым князем противу въсточнаго царя стояти» (с. 35). Это признание рязанского князя, согласно мысли автора, должно не только показать «скудость ума въ главѣ его», но и подчеркнуть, что при великом князе московском Дмитрии Ивановиче установился иной, новый характер отношений Руси с Ордой.
Героический характер битвы, изображенной в «Сказании», обусловил обращение автора произведения к устным преданиям и легендам о Мамаевом побоище. Многие эпизоды «Сказания» по самой сути своей носят эпический характер, хотя в них и следует видеть эпическое осмысление действительных фактов: разведка в ночь накануне боя – то, что в современной тактике называется рекогносцировкой, – передана как «испытание примет» Дмитрием Боброком Волынским; единоборство Пересвета как богатырский поединок, и т. п.
Влияние устной народной поэзии на «Сказание о Мамаевом побоище» можно обнаружить и в использовании его автором отдельных изобразительных средств, восходящих к приемам устного народного творчества (битва – пир, врагов побивают, как траву косят, воины – соколы и т. п.). Но в «Сказании» все эти словосочетания и формулы предстают в тесном переплетении с приемами книжной риторики, как единый цельный поэтический образ: «Единомыслении же друзи высѣдоша из дубравы зелены, аки соколи искушеныа урвалися от златых колодицъ, ударилися на вели-киа стада жировины, на ту великую силу татарскую; а стязи их направлены крупным въеводою Дмитреем Волынцем: бяху бо, аки Давидови от-роци, иже сердца имуща аки лвовы…» (с. 45); «Сынове же русскые, силою святого духа и помощию святых мученикъ Бориса и Глѣба, гоняще, сѣчаху их, аки л4с клоняху, аки трава от косы постилается у русскых сыновъ под конскые копыта» (с. 45).
Показательно в этом отношении использование в «Сказании» символа народно-эпического творчества – «битва – пир», который в тексте объединяется с религиозно-риторическим образом «смертная чаша». В. П. Ад-рианова-Перетц показала, что соединение фольклорного образа «битва – пир» с религиозным образом «смертная чаша» вообще характерно для древнерусской литературы. В этой связи она пишет: «Украшенное заимствованиями из „Задонщины" „Сказание о Мамаевом побоище" нередко пользуется образом битвы – пира и смерти в бою – чаши, причем сопровождает слово „чаша" то книжным эпитетом „смертная", то перенесенными из „Задонщины" – „медвяная, поведеная"».227227
Адрианова-Перетц В. П. Очерки поэтического стиля древней Руси. М. – JL, 1947, с. 112.
[Закрыть] Великий князь накануне боя обращается к вопнам с такими словами: «.. ужо бо гости наши приближаются… утрѣ бо нам с ними пити общую чашу, межу събою поведеную, ея же, друзи мои, еще на Руси въжделѣша» (с. 39). Начало этой цитаты построено на эпическом образе «битва – пир»: враги названы гостями, вторая же ее половина строится согласно религиозной символике «смертной чаши». Но эпический, народно-символический характер этого образа преобладает, и в дальнейшем, в тех случаях, когда автор снова возвращается к мотиву «битва – пир», символика библейской «смертной чаши» исчезает. После поединка Пересвета с ордынским богатырем Дмитрий говорит: «Сэ уже гости наши приближилися и ведуть промеж собою поведеную, преднии уже испиша и весели быша и ус-нуша» (с. 43). Волынец, удерживая русских воинов от преждевременного выезда из засады, обращается к ним с такими словами: «.. будеть ваше врѣмя коли утѣшитися, есть вы с кѣм възвеселитися!» (с. 44). В этих примерах преобладает эпический, народно-символический характер образов.
Ряд устно-эпических по своему характеру эпизодов передан в «Сказании» в книжно-риторической манере. Рассказывая о прощании жен с мужьями, уходящими из Москвы, автор памятника приводит плач великой княгини. Плач этот основан на народной традиции устного причитания, но в «Сказании» он передается в форме молитвы. Противник Пересвета, ордынский богатырь, сравнивается с библейским Голиафом, а Пересвет, идя на единоборство, призывает Осляблю: «.. моли бога за мя» (с. 43).
В тесном объединении в пределах единой поэтической фразы устноэпических по своему характеру оборотов с книжно-риторическими образами и словосочетаниями заключается стилистическое своеобразие «Сказания о Мамаевом побоище». Следует отметить, что при последующих редакционных переработках «Сказания» отдельные эпические по своей природе эпизоды сближаются со своей эпической первоосновой.
Большой поэтичностью проникнуты картины природы в «Сказании». Природа в «Сказании» одушевлена, она выступает как сила, сочувствующая русским.
Автор красочно изображает поведение зверей и птиц накануне боя. В какой-то мере здесь отразилась реальная действительность, но все же главная цель чисто поэтическая: передать настроение тревожности, напряженности и настороженности перед сражением. Кроме того, это описание символизирует кровопрслитность предстоящего боя. Данный символ в письменной древнерусской литературе имеет своими истоками устную поэзию.
Одухотворение природы с наибольшей силой проявилось в рассказе об испытании примет Дмитрием Боброком Волынским. Перед боем Дмитрий Волынец приникает ухом к земле и слышит, как плачет земля. Этот образ плачущей земли окрашен большой человечностью и гуманностью. Земля, на которой сейчас произойдет кровопролитная битва между русскими и ордынцами, горюет о гибели людей.
Автор «Сказания» еще раз говорит о земле как о живом существе: «И в то врЗшя, братье, земля стонеть велми, грозу велику подавающи на встокъ нолны до моря, а на запад до Дунаа, великое же то поле Куликово прегибающеся, рйкы же выступаху из мйстъ своихъ, яко николи же быти толиким людем на мѣстЗ* томъ» (с. 41). Без сомнения, образ стонущей и плачущей земли – это не просто механически употребленная поэтическая гипербола, а продуманная картина с глубоким смыслом. Земля олицетворяет собой мирный труд: ведь воины, которые сейчас начнут биться, это простые труженики, дети земли, которую они обрабатывают и которая питает их своими плодами. И вот вместо мирного труда предстоит жестокое сражение на матери-земле, и поэтому она плачет и стонет. Уже само употребление этих слов говорит о желании автора подчеркнуть горе и страдания, постигшие людей.
Окончание вышеприведенной цитаты представляет собой гиперболическое описание Куликова поля, на которое пришло огромное войско. Здесь литературный образ особенно отчетливо выступает в слиянии поэтической метафоричности с реальностью. Вышедшие из берегов реки символизируют предстоящее кровопролитие, но сам же автор переводит этот символический образ в реальный план: реки вышли из берегов потому, что на небольшом пространстве собралось огромное число воинов.
Наряду с метафорическим изображением природы в «Сказании» встречаются и чисто реалистические картины, создающие образ вполне реального пейзажа. Эти места в памятнике проникнуты глубоким чувством, мягкостью и лиризмом. Таково, например, описание утра в день битвы: «Приспѣвшу же, месяца септевриа въ 8 день, великому празднику Рождеству святыа богородица, свитающу пятку, въсходящу солнцу, мгляну утру сушу…» (с. 41). Или картина ночи накануне боя: «ОсЗши же тогда удолжившися и деньми светлыми еще сиающи, бысть же въ ту нощь теплота велика и тихо велми, и мраци роении явишася» (с. 40).
Выше уже отмечалось, что одним из источников «Сказания о Мамаевом побоище» была «Задонщина». Сравнительный анализ текстов «Сказания» и «Задонщины» свидетельствует об обращении к «Задонщине» и автора «Сказания», и последующих редакторов и переписчиков этого произведения. Автор «Сказания о Мамаевом побоище» включил в свой текст отдельные отрывки из «Задонщины». Он заимствовал из «Задонщины» слова о том, что русские князья– «гнездо» Владимира Киевского, к «Задонщине» восходит фраза «Сказания» о стуке и громе на Москве от воинских доспехов («Ту же, братие, стук стучить…»), заимствованием яз «Задонщины» является фраза о солнце, освещающем путь великому князю московскому, в описании выезда русского войска из Москвы, из «Задонщины» вставлены слова о горе Русской земли после битвы на Калке в плач великой княгини. (Судя по различным редакциям «Сказания», в последнюю из перечисленных вставок из «Задонщины» входили и слова о 160 годах, прошедших с битвы на Калке до Мамаева побоища). Помимо непосредственных вставок из «Задонщины» в «Сказании о Мамаевом побоище» много эпизодов, в которых автор перерабатывает текст «Задонщины», создает самостоятельные композиции по мотивам ее, использует отдельные слова, обороты, образы своего поэтического источника. Такого рода переделки и переработки текста «Задонщины» можно обнаружить в следующих эпизодах «Сказания»: описание движения русского войска по дороге из Москвы в Коломну и сбор русских сил под Коломной, описание грозных предзнаменований природы, описание русского войска накануне дня битвы, картина ночи перед битвой и «испытание примет» Дмитрием Волынцем, описание битвы, рассказ о выезде засадного полка. Многие из этих эпизодов рассматривались выше при характеристике литературных особенностей самого «Сказания». И это не случайно: не только отдельные слова и образы из «Задонщины», не только самостоятельные переработки текста ее, но и отдельные отрывки из «Задонщины» органически входят в окружающий их контекст и становятся неотъемлемой частью уже текста собственно «Сказания о Мамаевом побоище», ибо все эти вставки, заимствования и вариации на темы «Задонщины» сделаны с большим поэтическим чутьем, уместно и продуманно.
Сопоставление текстов, заимствованных из «Задонщины» в «Сказание», с сохранившимися списками «Задонщины» показывает, что автор «Сказания о Мамаевом побоище» пользовался более ранним и более близким к первоначальному тексту «Задонщины» списком этого произведения, чем все дошедшие до нас списки.
В дальнейшем при составлении новых редакций и вариантов произведения авторы их вновь обращались к «Задонщине». Особо примечателен в этом отношении Печатный вариант Основной редакции «Сказания о Мамаевом побоище». Составитель этого варианта к уже имевшимся заимствованиям из «Задонщины» добавил новые, перерабатывал первоначальные вставки, сверяя их с имевшимся у него текстом «Задонщины». Автор этого варианта «Сказания» располагал таким текстом «Задонщины», в котором имелось много индивидуальных особенностей, присущих только списку «Задонщины» К-Б, но вместе с тем это был полный список памятника, а не то сокращение его, которое сделал Еф-росин. Таким образом текст «Сказания» в Печатном варианте свидетельствует о том, что у Ефросина был полный список «Задонщины», из которого он взял, сократив, лишь первую половину произведения.
Сравнительный анализ различных редакций и вариантов «Сказания о Мамаевом побоище» со всеми списками «Задонщины» дает не только представление о характере соотношения «Сказания» и «Задонщины», но, как можно было убедиться из сказанного выше, уточняет наши представления и о самом тексте «Задонщины».228228
донщины» в текстах Распространенной редакции «Сказания о Мамаевом побоище», с. 440–476.
[Закрыть]
«Сказание о Мамаевом побоище» создавалось в эпоху, когда человеческий характер еще не стал предметом изображения писателя. В соответствии с требованиями древнерусского литературного этикета, как уже отмечалось выше, герой выступал не как индивидуальная личность, а как идеальное воплощение тех черт, которыми он должен был бы обладать, будучи идеальным представителем своего класса. Именно таку как мы могли убедиться, изображаются центральный герой произведения, Дмитрий Донской, и все остальные персонажи. Но все же в рамках этой схематичности и этикетности дают себя знать и черточки личностно-человеческого начала. В изображении великого князя это сказывается в описании его эмоций в различных ситуациях. Узнав о готовящемся походе на Русь Мамая, великий князь «велми опечалися» (с. 28). Когда до него дошло известие о союзе с Мамаем рязанского и литовского князей, то Дмитрий Иванович «наплънися ярости и горести» (с. 29). Услышав от Сергия Радонежского предсказание победы, он «об-веселися сердцемъ» (с. 31). Когда великий князь прощается с плачущей женой на виду у всего народа, то он «самъ мало ся удръжа от слезъ, не дав ся прослезити народа ради» (с. 33). В определенной степени индивидуальные черты характера (правда, очень схематичные и обобщенные) можно отметить в изображении антиподов великого князя московского – Мамая, Олега Рязанского, Ольгерда Литовского. Э™ черты «Сказания» придавали ему особую живость, заостряли читательский интерес к произведению.
О большом интересе средневековых читателей к «Сказанию о Мамаевом побоище» прежде всего свидетельствует многочисленность списков его. Изменения, вносимые в текст «Сказания» его переписчиками, как мелкие, так и крупные, указывают на то, что это произведение на протяжении многих десятилетий жило активной жизнью.
Мы можем проследить, как те или иные образы, эпизоды в «Сказании» со временем осложнялись новыми деталями, подробностями эпического характера. Посмотрим, как изменялось в нем описание противника Пересвета. В основном списке Основной редакции «Сказания» ордынский богатырь характеризуется так: «…подобенъ бо бысть древнему Голиаду: пяти саженъ высота его, а трех саженъ ширина ero>v (с. 43). В некоторых списках «Сказания» различных редакций, генеалогически не связанных с Основной редакцией, слов о том, что Голиаф пяти сажен в высоту и трех сажен в ширину, нет. На основании этого можно предположить, что и в авторском тексте памятника говорилось лишь о том, что противник Пересвета был подобен древнему Голиафу. Но уже в очень раннее время появилась потребность конкретизировать описание этого персонажа, дать более яркое определение его внешности, которое строилось по принципу контраста: непомерная величина ордынского богатыря и обычный человеческий облик Пересвета. В более
поздний период литературной жизни «Сказания о Мамаевом побоище» образ противника Пересвета стал ассоциироваться у читателей и переписчиков этого произведения с былинным образом Идолища поганого. В некоторых списках мы встречаем уже такое описание ордынского богатыря: «Таврул татарин приметами уподобился древнему Гольяду: высота того татарина трех сажен, а промеж очей локоть мерный» (список конца XVII в., БАН. 21.10.17). II уж совершенно как Идолище поганое рисуется он в списке XVII в. ГИМ, Уваровское собр., № 802: «Трею сажень высота его, а дву сажень ширина его, межу плеч у него сажень мужа добраго, а глава его, аки пивной котел, а межу ушей у него стрела мерная, а межу очи у него, аки питии чары, а конь под ним, аки гора велия».
Поскольку оба упомянутых списка относятся к XVII в., то можно предположить, что такое описание появилось в «Сказании» под воздействием устного народного творчества в XVII столетии. Приведем для сопоставления описание Идолища поганого в былине:
Идолищо нечестивый:
Голова у нево с шгвной котел,
В плечах косая сажень,
Промеж бровми доброва мужа пядь,
Промеж ушми калена стрела.229229
Тихонравов Я. С., Миллер В. Ф. Русскже былины старой и новой записи. М., 1894, с. 23 (из рукописи XVIII в.).
[Закрыть]
Подобного рода эволюция образов «Сказания о Мамаевом побоище» может быть прослежена и на других примерах. Особенно характерно это явление для тех мест памятника, которые наиболее близки к эпическому творчеству, – рассказа о посольстве Захарии в Орду, описания битвы, плача великой княгини и т. п.
В свою очередь и «Сказание о Мамаевом побоище» оказало влияние на устное народное творчество. Можно предположить, что оно наложило свой отпечаток на былину «Илья Муромец и Мамай»,230230
См.: там же, № 8.
[Закрыть] а также на одну из записей былины о Сухмане.231231
См.: Шамбинаго С. К. Исторические переживания в старинах о Сухане. – В кн.: Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому. М., 1909, с. 503–515; Соколов Б. М. Непра в русском эпосе. – ИОРЯС, 1919, т. XVII, кн. 3–4.
[Закрыть] Непосредственно на материале «Сказания о Мамаевом побоище» создана сказка «Про Мамая безбожного», записанная А. Харитоновым в Шенкурском уезде Архангельской губернии и напечатанная в сборнике сказок А. Н. Афанасьева.232232
381 См.: Народные русские сказки А. Н. Афанасьева в трех томах, т. 3. М., 1957, <№ 317, с. 36–42.
[Закрыть] Кроме того, «Сказание о Мамаевом побоище» оказало влияние и на такие памятники древнерусской литературы, как «Казанская история», «Иное сказание», «Повесть об азовском осадном сидении донских казаков».
* * *
О популярности «Сказания о Мамаевом побоище» в средние века как «четьего» произведения, привлекавшего читателей и своей сюжетностью, и тем, что это был рассказ о важнейшем в истории Руси героическом событии, свидетельствует не только уже отмечавшееся выше обилие списков произведения и многообразие его редакций и вариантов, но и то, что до нас дошло довольно много рукописей «Сказания» с миниатюрами. В настоящее время известно девять лицевых списков «Сказания»: один из них – иллюстрированный список Киприановской редакции, восемь – иллюстрированные списки варианта У Основной редакции.
В 60–70-х гг. XVI столетия создается иллюстрированный вариант Никоновского летописного свода – Лицевой летописный свод. Этот грандиозный памятник русского летописания и древнерусского искусства состоит из десяти больших книг. Шесть из них охватывают события русской истории с 1114 по 1567 г. И только в этих шести книгах более 10 ООО миниатюр – йодробнейшая иллюстрированная история Древней Руси.233233
Тома Лицевого летописного свода хранятся в рукописных отделах нескольких библиотек Советского Союза – ГПБ, БАН и ГИМ.
[Закрыть] Во втором томе так называемого Остермановского (или Древнего, или Царственного) летописца (ВАН, 31.7.30), представляющего собой одну из книг Лицевого летописного свода, находится текст «Сказания о Мамаевом побоище», проиллюстрированный 191 миниатюрой.234234
Текст «Сказания» в Лицевом летописном своде – вариант Киприановской редакции. По сравнению с основным текстом Киприановской редакции в этом варианте есть несколько дополнений, источником которых послужила пространная летописная повесть.
[Закрыть] Иллюстрации к «Сказанию» в Лицевом летописном своде – часть всех миниатюр свода. Естественно поэтому, что они отражают те тенденции и приемы миниатюристов, которые присущи всему Лицевому летописному своду как произведению изобразительного искусства XVI в. Как таковые они неоднократно являлись предметом специального изучения.235235
См.: Подобедова О. И. Миниатюры русских исторических рукописей. К истории русского лицевого летописания. М., 1965. Отдельные миниатюры из Лицевого летописного свода воспроизводились неоднократно, в том числе и те из них, что относятся к «Сказанию». Факсимильное издание миниатюр из Лицевого свода к «Сказанию» см.: Повесть о Куликовской битве. Текст и миниатюры Лицевого свода XVI века. Л., 1980. Здесь же см. статью Д. С. Лихачева «Куликовская битва в миниатюрах XVI века».
[Закрыть]
Иного характера и иного происхождения (они никак с миниатюрами Лицевого летописного свода не связаны) миниатюры, которыми проиллюстрированы восемь списков варианта У Основной редакции «Сказания о Мамаевом побоище». По целому ряду стилистических особенностей миниатюр и текстуальным совпадениям семь из восьми лицевых списков «Сказания» делятся на две группы, условно обозначаемые как группы Архаическая и Северная. В первую входят списки: ГБЛ, Музейное собрание, № 3155 (кон. XVII в.); ГИМ, собр. Барсова, № 1798 (нач. XVIII в.); ГИМ, собр. Уварова, № 999а (кон. XVII в.). Во вторую: ГБЛ, Музейное собр., № 3123 (кон. XVII в.); ГИМ, собр. Уварова, № 1435 (кон. XVII в.); ГИМ, собр. Музейское, № 2596 (нач. XVIII в.); ГБЛ, собр. Прянишникова, № 203 (1894 г.).
Ко всем миниатюрам Архаической группы, за исключением двух, в сходных местах текста имеются параллельные миниатюры в списках Северной группы. По исполнению, по самому характеру рисунков миниатюры Архаической и Северной групп лицевых списков «Сказания» представляют собой разные произведения. Но вместе с тем они связаны между собой не потому, что иллюстрируют один и тот же текст, а потому, что в основе их явно виден один и тот же источник, подвергшийся переработке. Прежде всего, единый источник обнаруживается в совпадении содержания минпатюр, в том, что эти совпадающие миниатюры и в той и другой группе находятся в одинаковом текстовом обрамлении. Общность источника видна и в характере изображения на миниатюрах обеих групп великого князя Дмптрия Ивановича Донского и его брата Владимира Андреевича Серпуховского: они всюду предстают как некий двуединый образ – «на одно лицо», в сходных позах. Храмы, городские стены, строения по-разному изображаются в миниатюрах Архаической и Северной групп, но все эти аксессуары встречаются в миниатюрах одной группы только тогда, когда они изображены в миниатюрах и другой группы. Очень часто рисунки в обеих группах совпадают и композиционно: в расположении персонажей, в их позах, в направлении движения и т. п.
Таким образом, можно безусловно говорить о едином источнике миниатюр для обеих групп лицевых списков «Сказания». Необходимо отметить, однако, что внутри самих групп имеются различия в миниатюрах по разным спискам этих групп, и возникает вопрос: каково взаимоотношение между вариантами миниатюр внутри Архаической группы с вариантами Северной группы? Сопоставление миниатюр подтверждает общность происхождения их в обеих группах, но не их непосредственную связь друг с другом: через какие-то утерянные промежуточные списки все перечисленные выше лицевые списки «Сказания» восходят к единому архетипу.
Кроме названных выше есть еще один лицевой список «Сказания о Мамаевом побоище» конца XVII в. – Лондонский. Он находится в Отделе рукописей Британского музея в Лондоне.236236
Hill Е. A British museum illuminated manuscript of an early russian Literary work. An encomium to the grand prince Dimitri Ivanovich and to his brother prince Vladimir Andreyevich the tale of the battle of the Don in the year 6889. Сообщение на IV Международном съегде славистов в Москве Е. Ф. Хилл (Англия). Один вновь обнаруженный лицевой список древнерусского памятника. Cambridge, 1958.
[Закрыть] И по тексту «Сказания» и по характеру исполнения миниатюр Лондонский список ближе к спискам Архаической группы. Однако есть случаи, когда миниатюры Лондонского списка ближе по композиции и содержанию к миниатюрам Северной группы, чем к Архаической. Вместе с тем может быть отмечено несколько случаев, когда миниатюры и Архаической и Северной групп, совпадая между собой, отличаются от параллельных миниатюр Лондонского списка. Это дает основание прийти к заключению, что между общим источником миниатюр всех известных нам лицевых списков «Сказания о Мамаевом побоище» (архетипом лицевого текста «Сказания») и протографами Архаической и Северной групп лицевых списков «Сказания» находился такой список, в котором имелись изменения в миниатюрах по сравнению с архетипом лицевого «Сказания о Мамаевом побоище». Изменения эти нашли отражение и в Архаической и в Северной группе, но не отразились на миниатюрах Лондонского списка. Таким образом, на основании анализа особенностей миниатюр известных нам лицевых списков «Сказания» мы убеждаемся в том, что Лондонский список «Сказания» наиболее близок из всех сохранившихся лицевых списков к первоначальному списку лицевого «Сказания», к которому в конечном счете восходят миниатюры всех известных в настоящее время лицевых списков памятника (кроме, разумеется, миниатюр Лицевого летописного свода). По характеру изображения деталей, стилистическим особенностям миниатюр Лондонского списка лицевого «Сказания» историки искусства Древней Руси пришли к заключению, что оригиналом для них служили миниатюры значительно более раннего времени, чем время датировки Лондонского лицевого списка, – не позже конца XV – начала XVI в.237237
См.: IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. I. Проблемы славянского литературоведения, фольклористики и стилистики. М., 1962, с. 169–173. (Выступления по докладу Е. Ф. Хилл О. И. Подобедовой, Д. С. Лихачева,
В. ф. Ржиги). См. также: Лихачев Д. С. Текстология на материале русской литературы X–XVII вв. М. – JL, 1962, с. 427–428.
[Закрыть]
В Лондонском лицевом списке «Сказания о Мамаевом побоище» 64 миниатюры, из них 14 встречается только здесь. Остальные 50 имеют параллели в других лицевых списках «Сказания». В свою очередь в остальных лицевых списках «Сказания о Мамаевом побоище» есть немало миниатюр, отсутствующих в Лондонском списке. Часть из них приходится на отрывки текста, утерянные в настоящее время в Лондонском списке (список дефектный – во второй половине текста листы перепутаны и часть листов утрачена). Сравнительное сопоставление миниатюр по всем лицевым спискам «Сказания» говорит о том, что в общей сложности на сюжет «Сказания о Мамаевом побоище» по тексту варианта У Основной редакции имеется 98 миниатюр. Возможна, некоторые из этих миниатюр принадлежат творчеству тех копиистов, которые иллюстрировали тот или иной лицевой список: копиист мог по образцу остальных миниатюр создавать и свои собственные. Не менее вероятно, однако, что все эти миниатюры были уже в первоначальном виде лицевого «Сказания», а дошедшие до нас списки повторили не все эти миниатюры. Вероятнее всегот их было больше, чем имеется сейчас в Лондонском списке – может быть, 98 миниатюр или более того.238238
Более подробно о лицевых списках «Сказания о Мамаевом побоище» см.: Дмитриев Л. А. 1) Миниатюры «Сказания о Мамаевом побоище». – ТОДРЛ, т. XXII. М.—Л., 1966, с. 239–263; 2) Лондонский лицевой список «Сказания о Мамаевом побоище». – ТОДРЛ, т. XXVIII. Л., 1974, с. 155–179.
[Закрыть]
Несмотря на то что до нас не дошел первоначальный лицевой список «Сказания о Мамаевом побоище», мы на основе сохранившихся поздних и разнообразных интерпретаций этого первоначального списка можем убедительно говорить, что миниатюры первоначального лицевого списка «Сказания» отличались мастерством исполнения, их было много и они исчерпывающе отразили все перипетии сюжета этого произведения.
В настоящем издании воспроизведено 8 миниатюр к «Сказанию» из Лицевого летописного свода, 6 миниатюр из Лондонского списка и 2 миниатюры из списка ГБЛ, Музейное собрание, № 3155.239239
Полное воспроизведение минжатюр этого списка «Сказания» (часть из них в цветных таблицах) см. в кн.: Сказание о Мамаевом побоище. Лицевой список конца XVII века. Вступ. статья Л. А. Дмитриева. Л., 1980 (Альбом изд-ва «Художник РСФСР»).
[Закрыть]