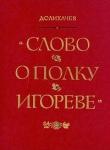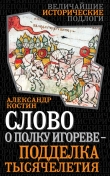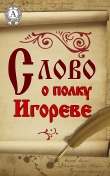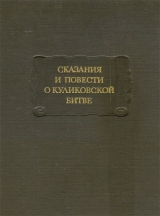
Текст книги "Сказания и повести о Куликовской битве"
Автор книги: Дмитрий Лихачев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 40 страниц)
Как исторические ошибки, возникшие из-за того, что произведение писалось спустя много времени после описываемого в нем события, все эти анахронизмы объяснены быть не могут. Русскую историю и в XV, и в XVI вв. знали хорошо, и в произведении на историческую тему так ошибаться не могли. Об Ольгерде имелись подробные сведения в летописях, не менее подробные сведения имелись там же и о Киприане. О перенесении иконы Владимирской богоматери в Москву во время похода Тимура сообщалось в «Повести о Темир-Аксаке», первоначальная версия которой возникла не позже первой четверти XV в., а последующие редакции расцвечивали всевозможными подробностями как раз историю перенесения иконы из Владимира в Москву и ее чудесного вмешательства в спасение Москвы от нашествия Тимура. И если уж видеть в этих анахронизмах непроизвольное, бессознательное совмещение разновременных фактов, то гораздо больше оснований считать, что это могло произойти в не слишком отдаленное от самих событий время, когда автор еще полагался на свою память и не считал нужным обращаться ддя проверки своих сведений к письменным источникам. Показательно, что все три перечисленных анахронизма очень близки по времени к событию, являющемуся центральным для темы «Сказания». Не исключено, однако, что-сообщение о Владимирской иконе представляет отражение в «Сказании» не зафиксированного по другим источникам факта (икона на какое-то время могла приноситься в Москву из Владимира идо 1395 г.), а включение в число действующих лиц «Сказания» Киприана ж замена имени литовского князя были сделаны автором «Сказания» сознательно из дитера-турно-публицистических соображений.
В 70–80-х гг. XIV в. на русской митрополии происходила так называемая «замятия»: на стол митрополита претендовало несколько лиц, в том числе ставленник великого князя московского Митяй-Михаил.216216
Эта история кратко изложена в Киприановской редакции «Сказания» (см. с. 52–53). В древнерусской литературе имелась специальная повесть о Михаиле-Митяе. См.: Прохоров Г. М. Повесть о Митяе. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. JL, 1978.
[Закрыть] Поэтому отношение великого князя московского к Киприану как к одному из этих претендентов было весьма враждебным. Но после смерти Митяя в 1379 г. московский князь примирился с кандидатурой Киприана и в 1381 г. призвал его из Киева в Москву. Однако размирья между Дмитрием Ивановичем и Киприаном бывали и после 1381 г., и великий князь снова изгонял Киприана из Москвы. Окончательно с большим почетом Киприан водворился на престол митрополита всея Руси в Москве в 1390 г. и с этого года по год своей смерти (1406) возглавлял русскую митрополию. Но, как бы то ни было, формально в 1380 г. митрополитом был именно Киприан, и если бы он не находился в это время в Киеве, то именно он благословлял бы поход московского князя против Мамая. И вот автор «Сказания» рисует эту этикетную ситуацию в своем произведении вопреки историческим фактам. Изображая тесный союз Дмитрия Донского с митрополитом Киприаном, автор «Сказания» тем самым подчеркивал общерусское значение разгрома Мамая, возвеличивал общерусскую роль в этом деле московского князя. Разумеется, из литературно-публицистических соображений Киприан мог быть назван в «Сказании» и в том случае, если произведение создавалось значительно позже 1380 г., но с таким же успехом это могло быть сделано уже и при жизни Киприана – в конце XIV в. Один из исследователей считает, что упоминание Киприана в «Сказании» как раз «указывает на то, что „Сказание44 было создано именно при жизни Киприана, а может быть, даже при непосредственном его участии».217217
Греков И. Б. О первоначальном варианте «Сказания о Мамаевом побоище». – Советское славяноведение, 1970, № б, с. 31.
[Закрыть]
Действительный союзник Мамая, литовский князь Ягайло, был мало известен на Руси как враждебный ей князь. Отец же Ягайла великий князь литовский Ольгерд несколько раз предпринимал попытки захватить Москву и подходил под самые стены города со своими войсками, он пользовался среди русских в конце XIV – начале XV в. славой опытного воина и опасного врага.218218
Подробнее см. об этом в статье В. Т. Пашуто «Историческое значение Куликовской битвы», с. 273–277 настоящей книги.
[Закрыть] Называя союзником Мамая Ольгерда, автор «Сказания» подчеркивал этим силу и мощь московского князя, особое значение Куликовской битвы, ее безусловное величие: вместе с Мамаем поражение терпит и старый враг Москвы Ольгерд. Заменить имя Ягайла именем Ольгерда автор «Сказания» мог в то время, пока в памяти сохранялось живое представление об Ольгерде. В более позднее время такая замена не имела никакого смысла. Показательно в этом отношении, что в поздних редакциях, связанных с летописями (в Летописной и Киприановской), имя Ольгерда было заменено исторически верным – Ягайло.
Итак, все три анахронизма «Сказания о Мамаевом побоище» не только не противоречат возможности относить время создания памятника к годам, не слишком отдаленным от даты Куликовской битвы, а скорее свидетельствуют в пользу того, что «Сказание» должно было быть написано в то время, когда в памяти еще сохранялись и события 1380 г., и близких к нему лет. Вместе с тем должно было пройти и определенное время после этих событий, что давало возможность воспринимать их в некотором обобщении и умышленно или неумышленно совмещать.
После смерти Дмитрия Ивановича Донского в 1389 г. московский великокняжеский стол занял <его сын Василий Дмитриевич. Он продолжал политику своего отца по укреплению Московского княжества, увеличению территории княжества за счет присоединения к Москве новых земель, стремился подчинить влиянию Москвы другие княжества.
Новым в политике Василия Дмитриевича по сравнению с политикой его отца было отношение к митрополиту Киприану. Одним из первых мероприятий в начале княжения Василия Дмитриевича явился вызов Киприана из Киева в Москву в 1390 г. и устроенная Василием Дмитриевичем торжественная встреча митрополита в Москве. Василий Дмитриевич стремился привлечь на свою сторону митрополита. В этом нужно видеть проявление тонкой и умной политики московского князя: митрополит Киприан был связан узами дружбы с литовскими князьями. При возрастании литовской опасности для западной окраины Руси московскому князю было выгодно иметь на своей стороне такого человека, как митрополит Киприан. Вопрос о роли митрополита в государственной жизни того времени имел чрезвычайно важное значение, что, как мы могли убедиться выше, отразилось в «Сказании о Мамаевом побоище».
В 90-х гг. XIV в. Орда была сильно ослаблена нашествием Тамерлана. Это вызвало изменение политики московского князя. Об отношении великого князя московского к Орде в этот период мы можем судить, исходя из текста грамоты Едигея, посланной им Василию Дмитриевичу после 1408 г. В ней он упрекает московского князя за его пренебрежительное отношение к ордынским послам, за то, что Василий Дмитриевич сам ни разу не бывал в Орде и братьев и детей своих не присылал с тех пор, как там сел на царство Темир-Кутлуй, наконец, за то, что Василий перестал давать «выход», т. е. дань.
В 1408 г. эмир Едигей, объединивший большую часть Орды, организовал военный поход на Москву. После Тохтамышева разорения 1382 г. нашествие Едигея было самым сильным и жестоким. Хотя ему не удалось взять Москву, но ее окрестности он начисто разорил. Были сожжены и разграблены Переяславль, Ростов, Дмитров, Серпухов, Верея, Нижний Новгород. С Москвы был взят «окуп» в размере 3000 рублей. Из высказываний летописца в эти годы можно сделать вывод, что нашествие Едигея и его успех объяснялись внутренними раздорами между русскими князьями, хитрой политикой Едигея, который сумел поссорить великого князя литовского Витовта и Василия Дмитриевича и, ослабив тем самым княжество Московское, нанести ему поражение. В известиях летописи о событиях 1408 г. проводится мысль о необходимости объединения вокруг Москвы для борьбы с внешним врагом.
После Едигеева нашествия в 1408 г. вопрос о взаимоотношениях с Ордой, об ордынской опасности вновь остро встает в общественной и политической жизни Руси. Нашествие Едигея показало, что Орда еще сильна и угроза набегов на Русь золотоордынских отрядов была реальной и страшной. Но пример Куликовской битвы свидетельствовал о том, что с монголо-татарскими войсками можно успешно бороться, что Москва способна противостоять Орде.
Именно в это время, когда ордынская опасность как бы была забыта, а потом со страшной неумолимостью вновь дала себя знать после Едигеева нашествия, должен был появиться усиленный интерес к недавнему прошлому, когда московский князь, объединив вокруг Москвы остальные княжества Северо-Восточной Руси, нанес жестокое поражение Орде. Нашествие Едигея снова пробуждает мысль о необходимости единения русских князей для борьбы с внешним врагом, так как в победе Дмитрия Донского видели силу единения русских князей, русских земель во главе с Москвой, с великим князем московским. Эта мысль отчетливо звучит в летописных записях тех лет. Она же является и основной мыслью «Сказания о Мамаевом побоище». Все сказанное выше дает основание полагать, что «Сказание о Мамаевом побоище» возникло в первой четверти XV в.:219219
Подробнее см.: Дмитриев Л. А. О датировке «Сказания о Мамаевом побоище».
[Закрыть] тема была вполне злободневной, а события 1380 г. еще были на памяти большого числа людей, в это время должно было существовать много устных достоверных и, наряду с ними, уже эпически обобщенных рассказов о битве с Мамаем за Доном.
Многие исследователи «Сказания о Мамаевом побоище» само собой разумеющимся считали, что «Сказание» возникло после пространной летописной довести и на основе ее (из этого положения как бесспорной истины исходил С. К. Шамбинаго, что уже было отмечено выше). Специально, основываясь на текстологических сопоставлениях, рассматривал эту проблему В. С. Мингалев.220220
См.: Мингалев В. С. Летописная повесть – источник «Сказания о Мамаевом побоище». – Труды Моск. гос. истор. – архивн. ин-та, 1966, т. 24, вып. 2, с. 55–72.
[Закрыть] Но В. С. Мингалев в своих текстологических построениях исходил из неверной начальной посылки: он сравнивал пространную летописную повесть с Летописной редакцией «Сказания», которая представляет собой переработку первоначального текста «Ска-вания» с привлечением пространной летописной повести. Здесь произошло, в сущности, повторение ошибки С. К. Шамбинаго, посчитавшего вставки из летописной повести в Киприановской редакции «Сказания» за основной текст произведения. Последней работой, где вновь была рассмотрена эта проблема, является статья М. А. Салминой «К вопросу о датировке „Сказания о Мамаевом побоище*4».221221
См.: ТОДРЛ, т. XXIX. Л., 1974, с. 98–124.
[Закрыть]
М. А. Салмина, как и многие исследователи до нее, обращает внимание на близость «Сказания» и пространной летописной повести. По ее мнению, близость эта в развитии сюжета, композиционном построении такова, «что представляется несомненным – или эти памятники влияли друг на друга, или они восходили к одному источнику».222222
Салмина М. А. К вопросу о датировке «Сказания о Мамаевом побоище», с. 119.
[Закрыть] Предположение о том, что оба произведения восходят к общему источнику, которое мне представляется наиболее верным, М. А. Салмина отвергает и считает, что характер связи обоих произведений свидетельствует о вторичности «Сказания» по отношению к пространной летописной повести. По ее мнению, имеется шесть примеров текстуальной зависимости «Сказания» от пространной летописной повести. Насколько же убедительны эти примеры?
Только в двух из них, в первом и четвертом по общему счету М. А. Салминой, – в фразе о посылке великим князем брату и другим
князьям известия о нашествии Мамая и в описании утра битвы можно действительно отметить текстуальные совпадения:
Летописная повесть
… и посла по брата своего Володимера и по всих князей руских и по воеводы великиа (с. 17).
… въсходящю солнцю, бысть тма велика по всей земли: мьглане бо было бѣаше того от утра до третьяго часа (с. 20).
«Сказание»
И посла по брата своего по князя Владимера Андреевичи в Боровескъ, и по все князи русские скорые гонци розославъ, и по вся воеводы мѣстныа… (с. 28).
… свитающу пятку, въсходящу солнцу, мгляну утру сущу… (с. 41).
Однако решить вопрос, какой именно текст лежит в основе другого, исходя из совпадений такого характера, при этом в столь небольших по объему отрывках текста, невозможно. В подобных случаях обоснованнее всего можно говорить об общем для обоих текстов источнике.
Третий пример – сравнение Олега Рязанского со Святополком и в пространной летописной повести и в «Сказании». Имя «Святополк» как символическое обозначение предателя и изменника было настолько распространено в древнерусской письменности, что уподобление ему – общее место огромного числа древнерусских литературных памятников. Правда, в обоих произведениях совпадает определение Святополка «новый»: автор «Сказания», сообщив, что Олег Рязанский начал торопить Мамая – «Подвизайся, царю, скорее к Руси», восклицает: «Нынѣ же сего Олга оканнаго новаго Святоплъка нареку» (с. 28); в пространной летописной повести Дмитрий Донской, «увѣдавъ лесть лукаваго Олга», говорит: «Не азъ почал кровь проливатп крестьяньскую, но онъ, Святополкъ новый» (с. 18). Как видим, контекст в обоих случаях совершенно разный и совпадение эпитета «новый» может быть чисто случайным. Если все же признать, что в данном случае между обоими текстами наблюдается текстуальная связь, то это никак не свидетельствует о первичности пространной летописной повести, скорее наоборот. Дело в том, что в «Сказании» Олег Рязанский сам сравнивает себя со Святополком; узнав о решении Дмитрия пойти на Мамая, он в покаянной речи говорит: «.. по-жреть мя земля жыва, аки Святоплъка» (с. 35). Параллели этому в летописной повести нет вообще.
Четвертый пример (пятый по общему счету) – слова в обоих произведениях о том, что у Дмитрия Донского три противника. Данный пример вообще не может свидетельствовать о зависимости одного текста от другого, так как это – отражение реальной ситуации. У московского князя действительно было три противника: Мамай, литовский князь и Олег Рязанский, о чем с самого начала много говорится и в «Сказании» и в летописной повести. Контекст же, в котором упоминается о трех врагах Дмитрия Донского в обоих произведениях, совершенно различный. В пространной летописной повести автор, сообщив о переходе Дмитрия Ивановича через Дон, восклицает: «О, како не убояся, ни усум-няся толика множества народа ратных? Ибо въсташа на нь три земли, три рати: первое – тотарьскаа, второе – литовьскаа, третьее – рязанъ-скаа» (с. 20). В «Сказании» Олег Рязанский, узнав от своих бояр, что Дмитрий выступает против Мамая, спрашивает их: «Откуду убо ему помощь сиа прииде, яко противу трех насъ въоружися?» (с. 35).
Два заключительных примера, по общему счету второй и шестой, наиболее существенны, так как если признать текстуальную взаимосвязь между ними, то тогда действительно будет больше оснований говорить о зависимости «Сказания» от пространной летописной повести. Дело в том, что в этих двух случаях в пространной летописной повести – заимствования из постороннего источника, апокрифического «Слова на рождество Христово». Поэтому на данных примерах следует остановиться подробнее.
В пространной летописной повести и в «Сказании о Мамаевом побоище» Мамай сравнивается с ехидной. М. А. Салмина полагает, что это сравнение могло быть заимствовано «Сказанием» только из пространной летописной повести. С этим нельзя согласиться. Образ ехидны как самого* зловредного существа широко встречается в древнерусской книжности, о ехидне имелась специальная статья в таком популярном у древнерусских книжников источнике всевозможных сравнений и уподоблений, как «Физиолог». Поэтому сравнить Мамая с ехидной авторы обоих произведений могли независимо друг от друга, а текстуальной зависимости в двух отрывках, где упоминается ехидна, нет. В «Сказании» Мамай пошел на Русь, «акы левъ ревый пыхаа, акы неутолимая ехыдна гневом дыша» (с. 26). В пространной летописной повести ехидна упоминается в обличительной тираде Дмитрия Донского: «Что есть великое свйрьпьство Мамаево? Аки нѣкаа ехидна прискающе пришедше от нѣкиа пустыни» (с. 19).
Второй из этих двух последних примеров (шестой по общему счету) таков:
Летописная повесть «Сказание»
… и слышано бысть сиречь высо– Слышах землю плачущуся надвое:
кыих Рахиль же есть рыдание крепко: едина бо сь страна, аки н-ѣкаа жена,
плачющися чад своихъ и великим ры– напрасно плачущися о чадѣх своихь.
даниемь, въздыханиемь… Да кто уже (с. 40). не плачется женъ онѣх рыданиа и гор-каго их плача… (с. 19).
Рассматривая эту параллель и сравнение Мамая с ехидной, М. А. Салмина пишет: «Предположение о появлении этих чтений в памятниках независимо одно от другого следует исключить. Как эти чтения появились в „Сказании44, объяснить трудно. Между тем в „Летописной повести" образ ехидны и описание скорби „жены44 по „чадом своим44 имели своим источником, как указала В. П. Адрианова-Перетц, апокрифическое „Слово на рождество Христово о пришествии волхвов44. И в „Сказании44 эти чтения появились, по-видимому, уже под влиянием Летописной повести».7Е
То, что Мамай мог сравниваться с ехидной в одном произведении независимо от другого, как мне представляется, не подлежит сомнению. Остановимся теперь на описании скорби «жены» по «чадом своим». В пространной летописной повести после сообщения о переправе великого князя через Оку говорится о туге и плаче в Москве и во всех русских землях, когда там узнали об этом. Далее этот мотив развивается вставкой из «Слова на рождество Христово» – «и слышано бысть…». В «Сказании о Мамаевом побоище» приведенный выше отрывок о плаче земли обозначает следующее: в ночь накануне боя великий князь с воеводой Дмитрием Волынцем выезжает в поле, и Дмитрий Волынец «испытывает приметы» – гадает, чем окончится битва. Он ложится на землю и, «приниче к земли десным ухом на долгъ час», прислушивается. Встав, Волынец горестно вздыхает и лишь после долгих уговоров великого князя сообщает ему, что он слышал два плача земли: «… едина бо сь страна, аки нйкаа жена, напрасно плачущися о чад-ѣх своихь еллиньскым гласом, другаа же страна, аки нйкаа девица, единою възопи велми плачевным гласом, аки в свирель нѣѣкую, жалостно слышать велми» (с. 40). Перед нами цельный, самостоятельный поэтический образ, в котором обе его части тесно связаны. Почему же мы должны искать источник лишь нескольких слов, означающих определенное конкретное действие («плачущися о чадех своих») и входящих в одну из частей этого цельного поэтического пассажа, в каком-то другом тексте? В одном случае (в летописной повести) – риторический, заимствованный образ, в другом – глубоко лиричный, оригинальный. Сопоставляя совпадающие словосочетания в двух произведениях в широком смысловом и стилистическом контексте, в который входят эти словосочетания, мы убеждаемся, что у нас нет оснований видеть в данном случае зависимость текста «Сказания» от пространной летописной повести. Перед нами чисто формальное, случайное совпадение отдельных слов в близких по ситуации (плач), но совершенно разных по смыслу и содержанию отрывках текста.
Все шесть рассмотренных примеров не могут являться свидетельством текстуальной зависимости «Сказания» от пространной летописной повести. Я бы сказал более того: все они свидетельствуют как раз о другом, а именно о том, что непосредственной текстуальной связи между «Сказанием» и пространной летописной повестью нет, несмотря на бесспорное совпадение во многом обоих произведений. Если бы автор одного из этих памятников обращался к тексту другого как к своему источнику, то в столь больших по объему текстах, какими являются «Сказание» и пространная летописная повесть, непременно имелись бы значительные текстуальные совпадения. О том, что это должно было быть именно так, свидетельствуют вставки в «Сказание» из «Задонщины»: мы без труда обнаруживаем значительные по объему и близкие по тексту совпадения между «Сказанием» и «Задонщиной». Когда же мы сравниваем «Сказание» с пространной летописной повестью, то поражает почти полное отсутствие текстуальных совпадений между этими произведениями при бесспорной общей близости между ними. В этой связи заслуживают особого внимания высказывания А. А. Шахматова о характере взаимоотношений памятников Куликовского цикла.
А. А. Шахматов отмечал близость «Сказания» и летописной повести, но он же, завершая свой отзыв на труд С. К. Шамбинаго, писал, что тому «не удалось доказать ни влияния Летописной повести на Поведание Со-фония («Задонщину», – JI. Д.), ни также происхождения Сказания из Повестй».223223
Шахматов. Отзыв, с. 192.
[Закрыть] Именно отсутствие текстуальных совпадений между «Сказанием» и пространной летописной повестью привело А. А. Шахматова к заключению, что «дошедшие до нас произведения, посвященные Мамаеву побоищу, не могут быть сведены к одному общему типу, к одному родоначальнику, в виде той или иной повести».224224
Там же.
[Закрыть]
А. А. Шахматов писал: «Куликовская битва вызвала появление нескольких произведений: мы указывали на Летописную Повесть, официальную реляцию и Слово о Мамаевом побоище. Дальнейшая история сюжета состояла в эволюции не одного какого-либо из этих произведений, а во взаимном их влиянии, с одной стороны, и самостоятельном развитии Летописной Повести и Слова, с другой».225225
Там же, с. 193.
[Закрыть] «Слово о Мамаевом побоище», по предположению А. А. Шахматова, – еще одно поэтическое произведение о Куликовской битве, до нас не дошедшее. По гипотезе А. А. Шахматова, к этому «Слову» обращались и автор «Задонщины», и автор «Сказания». Как считал А. А. Шахматов, «Слово» в целом было близко к «Сказанию», «на нем основывается большая часть Сказания».226226
Там же, с. 190.
[Закрыть] Гипотеза А. А. Шахматова подтверждений не нашла и, по существу, принята не была. Однако уже сам факт выдвижения этой гипотезы таким ученым, как А. А. Шахматов, заслуживает самого пристального внимания. Текстологические наблюдения, сделанные над памятниками Куликовского цикла уже после работы А. А. Шахматова, все больше подтверждают сложность взаимоотношений между памятниками, посвященными Мамаеву побоищу. И, может быть, гипотеза А. А. Шахматова была несправедливо забыта, и, лишь пользуясь ею, можно будет удовлетворительно объяснить всю сложность текстологических соотношений этих произведений древнерусской литературы.
«Сказание о Мамаевом побоище» А. А. Шахматов датировал первой четвертью XVI в., но основной источник «Сказания» – гипотетическое «Слово о Мамаевом побоище», по его мнению, было создано не позже конца XIV в. Независимо от того, признаем мы или нет существование «Слова о Мамаевом побоище», характер текстологических соотношений «Сказания» и пространной летописной повести таков, что мы, не имея возможности непосредственно возводить «Сказание» к пространной летописной повести или же пространную летописную повесть к «Сказанию», должны признать, что оба произведения пользовались каким-то общим источником или несколькими общими источниками, которые наиболее полно отразились в «Сказании». И у нас есть основания утверждать, что в большинстве подробностей и деталей «Сказания» исторического характера, не имеющих соответствий в пространной летописной повести, перед нами не поздние домыслы, а отражение фактов, не зафиксированных другими источниками.
«Сказание о Мамаевом побоище» – книжно-риторическое произведение и по всему характеру своему и по стилю, это произведение с ярко выраженной церковно-религпозной окраской. Но было бы неверно только в этом видеть характерные признаки данного памятника древнерусской литературы. Если бы «Сказанию» были присущи только эти черты, оно не пользовалось бы такой популярностью у древнерусских читателей и не вызывало бы к себе такого интереса у читателей нашего времени. Книжная риторика, характеризующая исключительно высокое литературное мастерство автора произведения, не заслоняет реальных подробностей великой битвы, решившей судьбу русского народа. Эти реальные подробности излагаются увлекательно, сюжетный характер произведения заставляет читателя сопереживать тому, о чем он читает в «Сказании», с волнением следить за развертывающимися перед ним событиями. Наряду с многочисленными молитвами, цитатами и примерами из книг священного писания, наряду с морализирующими рассуждениями автора, в «Сказании» немало поэтических картин, эпических в своей основе эпизодов, заимствований из поэтической «Задонщины», метафор, эпитетов и сравнений, уходящих своими корнями в устное народное творчество. И книжно-риторическая и поэтическая стихии в «Сказании» предстают не в механическом соединении, а в тесном переплетении, что делает «Сказание» одним из интереснейших литературных памятников Древней Руси.
В соответствии с древнерусским литературным этикетом, требовавшим изображения каждого персонажа как идеального представителя своего класса или сословия, изображаются в «Сказании» и главный герой– великий князь московский Дмитрий Иванович, и все остальные участники событий 1380 г. Дмитрий Донской рисуется как смиренный христианин, прежде всего помышляющий о боге. Этим автор хочет не только подчеркнуть христианскую добродетель своего героя, но и показать его морально-этическое превосходство над врагами – над возгордившимся и вознесшимся в своих помыслах Мамаем, над изменниками Олегом Рязанским и Ольгердом Литовским. Но, и это автор прекрасно знал и понимал, не смиренномудрие и молитвы обеспечили победу Дмитрия Донского, а его государственная мудрость и воинский талант. И автор «Сказания» подробно описывает все действия великого князя, сумевшего сплотить вокруг себя русских князей, организовать большое и сильное войско, принять такие решения, которые привели к победе.
Дмитрий Иванович призывает всех русских князей бороться за православную веру. В этом обращении он называет своих сподвижников «гнездом» Владимира Киевского, образ которого, в соответствии с окраской всего памятника, рисуется с церковно-религиозных позиций. Владимир просветил Русскую землю святым крещением и заповедал всем русским князьям «ту же вѣру святую крепко дръжати и хранити и поборати по ней» (с. 30). Но самая суть этого эпизода «Сказания» заключена в последних словах обращения князя московского: «Азъ же, братие, за вѣру Христову хощу пострадати даже и до смерти» (с. 30). Князь московский изображался как продолжатель дела, начатого Владимиром Киевским, как преемник киевских князей. Все русские князья – потомки киевских князей, но старший среди них – великий князь московский, и поэтому именно он напоминает русским князьям об их великом предке и имеет право сказать, что стоит на страже того дела, которое было начато Владимиром Киевским.
Подчеркивая кротость и смирение своего героя, автор «Сказания» достаточно выразительно описывает полководческий талант Дмитрия Донского, его воинскую отвагу. Узнав, что на него идет Мамай, великий князь московский принимает энергичные меры: созывает князей в Москву, рассылает по Русской земле грамоты с призывом идти на битву против Мамая, посылает в поле «сторожи», «уряжает» полки и призывает воинов сражаться насмерть с врагом. Показав великого князя как полководца, – автор рисует его личную доблесть и мужество. Перед началом битвы Дмитрий Донской переодевается: совое великокняжеское одеяние он отдает любимому боярину Михаилу Бренку, а на себя надевает боевые доспехи, чтобы биться с врагом наравне со всеми, как простой воин.
Сподвижников Дмитрия Донского, русских князей, выступивших вместе с ним против Мамая, автор «Сказания» изобразил беззаветно преданными своему господину, все они готовы умереть за великого князя московского. В период создания «Сказания» вассальная зависимость одного князя от другого определялась термином «брат» – старший и младший, независимо от кровных отношений между этими князьями. Так, Владимир Андреевич – князь серпуховской – в «Сказании» все время называется братом великого князя, и хотя автор имеет в виду и родственные отношения между этими князьями (они – двоюродные братья), тем не менее основной смысл слова «брат» – обозначение феодальных отношений: Владимир Андреевич – младший, подчиненный князю московскому «брат». Всех русских князей великий князь московский называет «братьями», они же его, в том числе и Владимир Андреевич, или великим князем, или государем, или господином.
Большое место в «Сказании» занимает рассказ об Ольгердовичах – сыновьях литовского князя Ольгерда, пришедших на помощь к великому князю московскому. Согласно «Сказанию» Андрей и Дмитрий Ольгердо-вичи идут к московскому князю, утаиваясь от отца. На самом деле в 1380 г. и Андрей и Дмитрий состояли на службе у великого князя московского и от Ольгерда им таиться было не нужно: как мы знаем, его не было уже в это время в живых. Ольгердовичи идут на помощь к Дмитрию Ивановичу, чтобы бороться против «нечестивого» Мамая за христианскую веру – так трактует этот эпизод автор «Сказания». Такая трактовка подвига Ольгердовичей имела глубокий идейный смысл, усиливала сюжетную остроту произведения. Ольгердовичи выступают против отца, что противоречит евангельским заповедям. Но борьба Руси с Мамаем являлась святым делом, и во имя этой борьбы даже дети были вправе нарушить свою покорность родителям.
Святость борьбы московского князя с силами Мамая подчеркивалась и еще одним эпизодом произведения. Вместе с воинами на Куликово поле пошли иноки Троицкого монастыря Пересвет и Ослябя. Согласно монастырским уставам монахи не имели права выступать с оружием на поле брани. Но Пересвета и Ослябю благословляет и отправляет на Куликово поле сам Сергий. Битва на Куликовом поле – это святое, общерусское дело, в котором должны принимать участие все.
Красочно, с большой любовью описывает автор «Сказания» русское войско как единую, сплоченную, грозную силу. После переправы через Дон происходит «учрежение» – расстановка воинских отрядов. После того как полки были «уставлены», великий князь с князьями и воеводами выезжает «на высоко мѣсто», и его взору предстает русское воинство: «.. и увидѣвъ образы святых, иже суть въображени въ христианьскых зна-мениих, акы нѣкии свѣтилници солнечнии свѣтящеся въ врѣмя в'ѣдра; и стязи ихъ золоченыа ревуть, просьтирающеся, аки облаци, тихо трепе-щущи, хотять промолвити; богатыри же русскые и их хоругови, аки жыви пашутся, доспѣхы же русскых сыновъ, аки вода*въ вся в'ѣтры колыба-шеся, шоломы злаченыя на главах ихъ, аки заря утреняа въ вр*ѣмя ведра свѣтящися, яловци же шоломовъ их. аки пламя огненое, пашется» (с. 39). После этого автор говорит, что «умилено» и «жалостно» смотреть на такое собрание русского воинства и что все воины «равнодушьни (т. е. единодушны, – Л. Д.) единъ за единого, другъ за друга хощеть умрети» (с. 39).
Наряду с общей характеристикой всего русского войска приводятся имена и отдельных, наиболее отличившихся простых, неизвестных нам по другим источникам людей. Данный факт представляет для нас особый интерес, так как на основании этих, хотя и очень скудных, сведений «Сказания о Мамаевом побоище» мы можем утверждать, что в битве на Куликовом поле принимали участие самые различные слои населения.
Мамай – враг Русской земли изображается автором «Сказания» как полная противоположность Дмитрию Донскому. Если Дмитрий смирён и во всех его действиях отражается проявление божьей воли, то Мамай – воплощение непомерной гордыни и высокоумия, в его поступках проявляется воля дьявола: «.. от навождениа диаволя въздвижеся князь от въсточныа страны, имянем Мамай…» (с. 25).