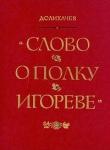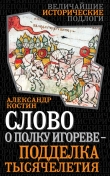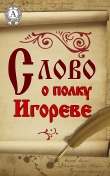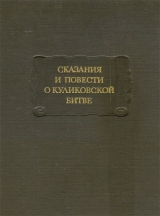
Текст книги "Сказания и повести о Куликовской битве"
Автор книги: Дмитрий Лихачев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 40 страниц)
Многие из христиан гнались за ними далеко, но кони их не выдержали, потому что под теми были кони свежие, не бывшие в бою. Гнались русские удальцы, пока всех татар не настигли, и вернулись. И нашли трупы татар на той стороне реки Непрядвы, где русские полки не были. Они были убиты святыми мучениками Борисом и Глебом, о которых рассказал Фома Берцыев, когда стоял в сторожевом отряде. Возвращаясь с побоища, собирались сыны русские каждый под свое знамя.
Князь Владимир Андреевич стал на поле битвы под черным знаменем. Не нашел он брата своего, великого князя Дмитрия Ивановича, только нашел одних литовских князей. И велел князь Владимир трубить в сборную трубу. И трубили два часа, но великий князь не нашелся. И стал князь Владимир плакать и кричать, и по полкам ездил сам, и не нашел брата своего, великого князя Дмитрия, и стал спрашивать: «Кто, братья, видел или слышал про государя нашего великого князя Дмитрия Ивановича, когда и где он был? Сейчас мы в таком положении,
о котором сказано: „Поражу пастыря и разбредутся овцы".* Кому принадлежит честь, кто в победе этой победителем явится?». И сказали литовские князья: «Мы думаем, что он жив, только сильно ранен и может быть среди трупов». А другие сказали: «Видели его в пятый час, и он крепко бился». А другой сказал: «А я видел его еще позднее того в битве, четыре татарина наседали на него». А один юрьевский юноша, князь Стефан Новосильский,* тут стоял и сказал: «Я видел его незадолго до твоего приезда, пешком шел он по побоищу и был сильно ранен, и преследовали его четыре татарина. И я бился с татарином, и с божьей помощью побил его скоро, и погнался за теми, которые так досаждали великому князю, но не мог догнать их, конь мой не мог быстро идти по трупам человеческим. Едва я догнал татарина и убил, вслед за ним напали на меня еще трое и здорово мне досаждали. По милости божьей, я от них отбился, третий побежал. Я гнался и за тем. Увидев это, иные татары напали на меня, и мне от них порядком досталось, много ран они мне нанесли, плохо мне пришлось, я едва спасся, упал с коня и был среди мертвых, пока ты не появился. Я думаю, что жив великий князь, но среди мертвых». И сказал князь Владимир: «Ты прав, Стефан».
И просил князь Владимир Андреевич искать великого князя, говоря: «Если кто найдет теперь великого князя, будут ему великие почести». Дружинники с усердием рассыпались по огромному грозному побоищу, искали победителя. Одни нашли Михаила Андреевича Бренка, думая, что это великий князь, а другие нашли князя Феодора Семеновича Белозерского, думая, что это великий князь, так он был на него похож.
А два некие воина, славные витязи, отклонились в правую сторону в дубраву. Одного звали Сабур,* а другого – Григорий Холопишев,* родом оба костромичи. Немного отъехав с побоища, нашли они великого князя, избитого и иссеченного сильно, лежащего под срубленным деревом, под березой. Увидев его, они сошли с коней и поклонились ему радостно. Сабур поспешил воротиться и сообщил князю Владимиру Андреевичу, что великий князь Дмитрий Иванович жив. И все князья и бояре быстро к нему бросились, соскочили с коней и поклонились великому князю, говоря: «Ты наш древний Ярослав, новый Александр,* победитель врагов своих! Тебе, государь, честь этой победы воздается». Великий же князь с трудом едва проговорил: «Расскажите мне о победе». И сказал брат его князь Владимир Андреевич: «По милости божьей, и по молитвам божьей матери, и сугубыми молитвами родственников наших, святых мучеников Бориса и Глеба, и молением русского святителя Петра митрополита, и его помощника, нашего вооружителя игумена Сергия, и всех святых молитвами враги наши побеждены, и мы спасены».
Услышав это, великий князь встал на ноги и произнес псалом – «Песнь обновления дому Давидову»: «Вечером водворится плач, а заутра радость».* И снова сказал он: «Восхваляю тебя, господи, боже мой, почитаю имя твое святое, ибо ты не дал нас на посмеяние врагам нашим, не дал восторжествовать чужому народу, который на меня такое замыслил». И сказал псалом седьмой: «Суди, господи, меня по правде моей и незлобивости». И из семидесятого псалма: «Я всегда уиоваю на тебя и всякую хвалу тебе вложу в уста свои».
И привели великому князю смирного коня. И сел он на этого коня, и выехал на побоище, и увидел многое множество перебитого своего войска. А татар было перебито в четыре раза больше. И обратился он к Волынцу и сказал ему: «Брат Дмитрий, ты истинно мудр, приметы твои правильные, тебе следует быть всегда воеводою».
И начал он с братом своим и с новонареченными братьями, литовскими князьями, и со всеми другими, оставшимися в живых, ездить по побоищу, из глубины сердца восклицая и обливаясь слезами. Подъехал он к тому месту, где лежали князья белозерские, все вместе зарубленные; они отважно бились и друг за друга умерли. Вот имена их:* князь Федор Романович Белозерский и сын его, князь Иван, князь Федор Торусский, брат его, князь Мстислав, князь Дмитрий Александрович Монастырев, Тимофей Васильевич окольничий, Семен Михайлович, Василий Порфирьевич, Михайло Каргаша Иванович, Иван Александрович, Андрей Серкиз, Волуй Окатьевич, Дмитрий Мичень, Александр Пересвет, Григорий Ослябя. Тут же рядом лежит Микула Васильевич. Над ним стал государь, и одарил его дарами своей любви, и стал плакать и говорить: «Братья мои милые, князья русские, если имеете дерзновение ко господу, молитесь о нас. Я энаю, что бог послушает вас. И еще молитесь, чтобы нам быть вместе с вами».
И приехал он на другое место, и нашел наиерсника своего Михаила Андреевича Бренка, а около него лежал Семен Мелик, надежный страж, а около них Тимофей Волуевич убит был. Над ними встав, великий князь плакал и говорил: «Братья мои возлюбленные, вы убиты за сходство со мной. Брат Михаил, кто еще такой раб, который мог бы так служить своему государю, как ты, – ведь ты за меня сам на смерть пошел! Только в полку царя Дария был такой, который так же поступил». И Мелику он сказал: «Крепкий мой сторож, твоей стражей мы все охранены».
И на другое место он приехал, и увидел Пересвета чернеца, лежащего рядом со знаменитым богатырем, и сказал: «Видите, братья, того, кто начал нашу победу. Он победил подобного себе человека, от которого многим пришлось бы испить горькую чашу». И еще он увидел знаменитого воина Григория Капустина.
Встал великий князь на месте своем и повелел трубить сбор. Храбрые друзья, достойные витязи, испытавшие оружие свое о сынов измаильтянских, со всех сторон шли на звук трубы, ликуя, и пели они песни – одни богородичные, другие – мученические и иные духовные песнопения.
Когда все собрались, великий князь Дмитрий Иванович, став посреди них и плача от радости сердца своего, сказал: «Братья, князья русские и воеводы, поместные князья, сыны Русской земли! Вам подобает так служить, а мне надлежит по заслугам вас наградить. Если господь сохранит меня и я буду на своем престоле, на великом княжении, тогда я по достоинству одарю вас. А сейчас нужно вот что сделать: каждому нужно ближнего своего похоронить, чтобы не были в пишу зверям тела христиан».
И стоял князь великий за Доном восемь дней, пока разобрали тела христианские от татарских. Христиан похоронили, скольких успели. А тела нечестивых были брошены на съедение и расхищение зверям.
А поганый окаянный царь Мамай побежал в Орду, собрал большое войско и решил снова идти на Русь. Но на него пошел войной царь по имени Тохтамыш* из Синей Орды, весьма сильный, и учинил он великую битву с Мамаем, грозное побоище, и победил Тохтамыш Мамая, и войско Мамая разбил. Мамай обратился в бегство и добежал до моря, где стоял город Кафа.* Имя свое он утаил, но был опознан одним фряжским купцом и был убит им. Так он окончил окаянную жизнь свою. А Тохтамыш воцарился в Орде.
Великий князь Дмитрий Иванович сказал князьям и воеводам: «Братья мои милые, князья русские и воеводы поместные, сосчитайте, скольких князей и воевод у нас нет и младших воинов». И сказал московский боярин Михайло Александрович: «Государь Дмитрий Иванович, у нас нет сорока больших бояр московских, да двенадцати князей бело-зерских, да тридцати бояр и посадников новгородских, да четырнадцати бояр серпуховских, да четырнадцати бояр переславских, да двадцати пяти бояр костромских, да тридцати пяти бояр владимирских, да сорока бояр муромских, да пятидесяти бояр суздальских, да тридцати трех бояр ростовских, да двадцати двух бояр дмитровских, да пятидесяти бояр углечских. А погибло, государь, у нас дружины двести пятьдесят тысяч. Слава господу богу, что помиловал он тебя, государь, великого князя и всю Русскую землю. А осталось, государь, 50 тысяч».
И сказал великий князь Дмитрий Иванович: «Братья, князья русские, и воеводы поместные, и бояре сильные, и все удалые сыны русские! Вы еще на Руси такое слово между собою сказали, чтобы служить верно и головы свои за веру святую русскую сложить. И вот пришлось, братья, найти вам это место суженое за тихим Доном, за быстрым Днепром, на поле Куликовом, на реке Непрядве – положили головы свои за веру христианскую, и за святые божии церкви, и за землю Русскую. Простите меня, братья мои, и благословите в этом веке и в будущем».
И возвратился великий князь Дмитрий Иванович с победой и пошел к городу своему Москве с братом своим, с князем Владимиром Андреевичем, и с оставшимися воинами. А литовским князьям воздал он честь и дары великие. И пошли они по своим городам и вотчинам. А русские удальцы торжествовали с богатой добычей и пошли в свою землю, ззяв коней, волов, верблюдов, меды, и вина, и сахар. Пронеслась слава над землей языческой, ревут рога великого князя по всем землям, пошла весть по всем городам – к Орначу,* Риму, Кафе, к Железным Воротам* и к Царьграду* – похвала великому князю.
Воздадим же хвалу Русской земле! Град Москва – всем глава. Владимир и Ростов славу богу воздают, по всем городам прославляют милость божью.
А когда шел великий князь обратно, рязанцы ему неприятность причинили – мосты на реках разрушили. Великий князь хотел на князя Олега рать послать.
Услышали Ольгерд Литовский и Олег Рязанский, что великий князь Дмитрий Иванович победил своих врагов, князь Олег Рязанский сбежал из Рязани на большой остров с княгинею своею и с боярами. Рязанцы же били челом великому князю. И так Олег Рязанский прожил два года, а потом обратился с грамотой к великому князю Дмитрию Ивановичу. А Ольгерд Литовский, хотевший Москвой владеть, вернулся с позором домой и не только Москвы не получил, но и своей вотчины лишился.
Великий князь Дмитрий Иванович с братом своим, с князем Владимиром Андреевичем, и с оставшимися князьями и воеводами и воинством пришел к Москве, слава богу, здоровым. И встретили их архимандриты и игумены и протопопы и весь священнический и иноческий чин с крестами и чудотворными иконами. Потом князья и бояре и весь народ, также и великая княгиня Евдокия со своими детьми и прочие княгини и боярыни, все единогласно восхвалили бога, избавившего их от страшного нашествия Мамая, а великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его князю Владимиру Андреевичу честь воздали как победителям, а также и прочим князьям и боярам, и всему войску честь воздали по достоинству. Великий князь Дмитрий Иванович пришел в Москву в год 6889 октября в 3 день и войско свое распустил по домам.
В тот же год Пимен* был поставлен митрополитом и пришел в Москву.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Д. С. Лихачев
МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ КУЛИКОВСКОЙ ПОБЕДЫПобеда объединенных сил русских княжеств под предводительством московского великого князя Дмитрия Ивановича 8 сентября 1380 г. имела огромное значение для всего южного и восточного славянства; больше того – для всех народов Восточной Европы. Она произошла в момент наибольшего натиска на все славянство Османского государства, с одной стороны, и Золотой Орды – с другой.
15 июля 1389 г. войско сербского князя Лазаря потерпело страшное поражение на Косовом поле. Несмотря на мужественное сопротивление, Сербия превратилась в вассала Турции. В 1393 г. Турецкая империя уничтожила болгарское Тырновское царство, а в 1396 г. – Видинское. И это произошло в тот период, когда и Сербия, и Болгария переживали огромный культурный подъем, когда искусство обогащалось новыми предвозрожденческими принципами, а в литературе появилась и расцвела Тырновская литературная школа.
К счастью для Руси и для южнославянской культуры, в течение всей середины и второй половины XIV в. Русь, явилась хранительницей письменного наследия славянства, и здесь, на Руси, происходил аналогичный подъем культуры, что и в южнославянских странах. На Руси рука об руку с русскими книжниками, с русскими зодчими и живописцами в это время работают болгарские, сербские и византийские мастера. На Русь устремляются спасающиеся от османского ига книжники, художники, переносятся книжные богатства, формируется не только русское национальное самосознание, но и сознание славянской общности.
Куликовская победа пришла на гребне этого культурного подъема и сама явилась новым толчком к дальнейшему росту культуры и национального самосознания.
Как же развивались события?
Ханская власть на Руси не была властью одной какой-либо национальности. В начале XIII в. государство Чингисхана, а потом Батыя, покорившее себе Русь, образовалось еще до того, как в его пределах появились нации и национальности. Это было объединение различных племен, связанных между собой общностью военных интересов, стремлением захватить добычу, получать дань с покоренных народов.
Когда «татары», как называли их русские летописи и былины, появились на границах Руси, летописцы правильно писали: «Никто их хорошо не знает: кто они такие, откуда они пришли, что они за народ и какого они племени», а затем с сомнением передавали на этот счет различные слухи.
Завоеватели, пришедшие в XIII в. с Батыем, постепенно растворились в Кыпчакской степной среде, да и впоследствии войско ханов было многоплеменным и колеблющимся в своем составе. Ханы мобилизовали в свое войско жителей покоренных ими стран.
С установлением чужеземного ига началось отставание и социального и культурного развития Руси. Это и понятно: люди думали по преимуществу о самосохранении. Летописец пишет, что даже «хлеб не шел в рот от страха».
Отставание от нормального развития охватило не только покоренных, но и самих покорителей. Их развитие не могло происходить нормально. Чужое, награбленное и даровое богатство не шло впрок. Оно не стимулировало труда – подлинную основу социального и культурного движения вперед. Характерно, что перед своим походом на Русь, приведшим к его полному поражению на Куликовом поле, хан Мамай самонадеянно разослал приказ по улусам не сеять хлеб: «будем, мол, осенью на русских хлебах».
Поэтому свержение ига было необходимо для народов всей Восточной Европы, а для. народов Южной Европы оно знаменовало собой общую надежду на грядущее освобождение из-под «ига ущербной луны».
Куликовская победа не означала полного уничтожения ига, но, как мы увидим, привела к резкому перелому в самом характере золотоордынского властвования на Руси и сделала несомненным для всех грядущее полное освобождение от национального порабощения.
Ханская власть стремилась разделять и властвовать, натравливать русских князей друг на друга. Однако Москва вопреки намерениям Орды постепенно становилась объединяющим центром Руси. Этому способствовали многие условия: и удачное расположение Москвы на скрещении торговых дорог в некотором удалении от Золотой Орды, и политическая энергия и дипломатическая изворотливость московских князей. Некоторое время роль объединителя Руси колебалась между Москвой и Тверью, но в конце концов Москва вышла победительницей. Она стала центром складывающейся великорусской народности.
Орда в это время обладала огромными пространствами и неисчислимыми людскими ресурсами. Она владела и Крымом на юге, и устьем Сырдарьи на востоке. Но, как и всякое военное государство, она не имела надежной экономической основы и не была национально единой. В середине и второй половине XIV в. Орда сама раздиралась внутренними усобицами. То, в чем она видела надежный залог своего владычества на Руси – отсутствие политического единства, это-то и поразило ее саму.
В 1378 г. русские победили ордынцев во главе с Мамаем на реке Боже. Это была первая крупная, но еще не решающая победа Руси. Хан Мамай, которому удалось захватить власть в Орде, стал готовиться к огромному походу на Москву, стремясь получить подавляющий численный перевес над русскими. В войско он включил различные племена и нанял многочисленных наемников, включая опытных в военном деле генуэзцев из Крыма. Кроме того, он подготовлял свой поход дипломатически, пытаясь изолировать Москву и привлечь на свою сторону Литву и слабую, постоянно подвергавшуюся разорению пограничную Рязань.
Но Мамаю не удалось сохранить своих приготовлений в тайне. Дмитрий Московский стал готовиться к войне заранее и начал спешно собирать свои войска, как только осенью 1380 г. огромное войско Мамая появилось на реке Воронеже.
Дмитрию важна была не только армия, но и поддержка простого народа Руси: крестьянства, ремесленников, торговцев. И вот тут он пошел на очень решительный шаг.
В пределах Московского княжества существовал бедный монастырь, основанный Сергием Радонежским во имя Троицы – древнерусского символа единения и готовности к самопожертвованию.
Основатель монастыря Сергий считал бедность и труд основными монашескими подвигами. Сам он одевался так бедно, что приходившие к нему не могли поверить, что перед ними прославленный игумен, по одному слову которого закрылись все церкви в Нижегородском княжестве, когда нижегородский князь осмелился ослушаться Москвы. Сергий сам строил кельи для своих монахов, таскал в гору воду для монастыря, шил бедную монашескую одежду и копал огороды. Именно благодаря своему трудовому образу жизни и искусству в работе простых крестьян и ремесленников, он пользовался громадным нравственным авторитетом среди населения Руси. Дмитрий не вызвал Сергия в Москву, а сам пришел к нему за благословением перед походом, и Сергий дал ему двух монахов. Разумеется, вряд ли два монаха могли как-то «физически» усилить русское войско в битве, в которой принимали участие стотысячные армии, но морально эти два воина в монашеских одеждах имели громадное значение в условиях средневекового главенства церкви в духовной жизни. Дело в том, что монахи не могли сражаться и носить оружие, быть воинами. То, что в войске Дмитрия появились ратники монахи, означало, что война с чужеземными завоевателями – священное дело, общий долг всех русских людей.
С войскам: и Дмитрия двинулись и народные ополчения.
Перед решительным сражением московский великий князь Дмитрий устроил в месте сбора – в Коломне – смотр русскому войску. Смотр этот также должен был поднять дух русского войска, помочь русским воинам осознать свою многочисленность и силу. Дух русского войска поднимали великолепные новые каменные стены Московского кремля, построенные в 1366–1367 гг., новые храмы в Коломне и Серпуховском княжестве.
Когда дошли до Дона около впадения в него речки Непрядвы, перед русскими предводителями встал вопрос: дожидаться ли войск Мамая, прикрывшись рекой, или, рискуя в случае поражения погубить все войско, перейти Дон и, отрезав себе все пути к отступлению, сражаться до последнего… И Дмитрий вместе со своим двоюродным братом Владимиром Андреевичем Серпуховским решительно и мужественно избрали второе. Они перешли Дон. Позиция была удачной в том отношении, что врагам нельзя было, пользуясь своей многочисленностью, охватить русское войско с флангов, как это всегда делали войска степняков. Нельзя было и ввести в бой многочисленную конницу развернутым фронтом. К тому же русским удалось спрятать в дубраве запасный полк, и об этом не узнали ордынцы.
Натиск войск Мамая был ужасающим, и первая половина битвы стоила обеим сторонам огромных жертв. Русские стали отступать, оттесняемые к Дону. Надо было иметь огромное самообладание, чтобы, видя поражение своих, выдержать время, не вступить в бой слишком рано спрятанному в дубраве запасному полку. Этот момент был найден: как только ханское войско миновало дубраву, свежие силы русских внезапно выступили и ударили в тыл врагу. Поражение Мамая было полным, и преследование противника затянулось за ночь.
Дмитрий, прозванный за свою победу Донским, на следующий день «встал на костях» ж почтил память погибших, прощаясь с ними и прося их о прощении.
Еще перед битвой Дмитрий пригласил с собой сурожских (крымских) купцов, в большинстве своем генуэзцев, чтобы они были свидетелями его победы и разгласили о ней повсюду. И «шибла слава» о русской победе по всему Востоку и Западу. Среди городов, куда донеслась весть о победе11
«Железным» он был назван за свою жестокость, но легенда объяснила это его прозвище еще и тем, что он якобы сам сковал себе железную ногу.
[Закрыть] в наиболее известном из древнерусских произведений о Донской битве – «Задонщине» – упоминается ж Рим, и Кафа в Крыму, и Железные Ворота (Дербент) на Каспийском побережье Кавказа, а также болгарский город Тырново. И последнее особенно знаменательно: русская победа рассматривалась в «Задонщине» в ее общеславянском значении.
Но Орда не теряла надежды восстановить свое господство на Руси. Через два года преемник Мамая хан Тохтамыш вторгся новым внезапным походом на Русь и хитростью захватил и разорил Москву. От систематического сбора дани и управления русскими княжествами Орда перешла к хищническим набегам и захватам. «Татарская» власть на Руси резко переменила свой характер. Орда уже не назначала великих князей. Они перестали быть ордынскими ставленниками на Руси. Великие московские князья стали пользоваться традиционным законным наследственным правом и передавать московское великое княжение старшему сыну.
В 1395 г. на Москву снова идет походом знаменитый и грозный завоеватель всей Передней Азии – хан Тамерлан (Темизр-Аксак, т. е. Желеа-
вый Хромец, как звали его русские летописи).1 Сын Дмитрия Донского Василий Дмитриевич собрал войско и выступил ему навстречу. Но страшный завоеватель Тамерлан, перед которым дрожала вся Европа, не решился напасть на русское войско и от города Ельца повернул обратно. Василий прекратил уплату дани Орде.
Снова пошел на Москву хан Едигей, и снова в глубокой тайне. Его поход был похож на грабительский налет. Едигею удалось осадить Москву. Взяв откуп, он удалился. От покорности Москва перешла к сопротивлению, и Золотая Орда принуждена была захватывать добычу только набегами. Неизбежность освобождения Руси становилась все более очевидной для обеих сторон. А ровно через сто лет после Куликовской битвы в 1480 г. Иван Третий бросил на землю ханскую золотую басму, которой были снабжены послы хана в качестве знака их полномочий, и топтал ее ногами. Иго окончательно закончило свое существование. Встретив могучее русское войско, после многодневного знаменитого «стояния на Угре» ханское войско без боя повернуло назад.
Русские с уважением относились к татарам как к сформировавшемуся уже к тому времени народу, к их военным способностям, и никогда не проявляли чувства своего расового превосходства. Татарская знать принималась в русское дворянство. Сохранилось предание, что выезжавшие на Русь татарские князья зимой получали шубу с княжеского плеча, летом – княжеский титул. Эта была шутка, но шутка, отражавшая положение, при котором татарские вельможи ценились на Руси. А татарские торговцы и ремесленники свободно ездили по всей Руси без всяких ограничений, в русском войске были татарские отряды.
Выехавший на Русь еще в конце XIII в. Петр «царевич ордынский» стал почитаемым русским святым, однако приходившие на Русь набегами татары были злейшими врагами русского народа, ненависть к которым запечатлели русские былины и исторические песни.
Подъем, предшествовавший Куликовской победе и последовавший за ней, ярко запечатлелся в русском искусстве и русской литературе. В живописи этот подъем ознаменован творчеством Андрея Рублева, в литературе – творчеством Епифания Премудрого, в эпосе – завершением создания киевского цикла былин, в политической мысли – обращением к традициям времен независимости Руси, в исторической мысли – созданием ряда огромных московских и новгородских летописных сводов, а в письменности вообще – появлением многочисленных и сложнейших переводов теологической литературы с греческого. Мы можем предполагать, что к этому же времени относится и подъем русской церковной музыки (многие тексты стали в это время не читаться, а петься), и подъем естественнонаучных знаний о мире.
Что самое важное в том культурном подъеме, на гребне которого пришла Куликовская победа, – подъеме, который отчасти предшествовал битве и морально ее подготовил, затем продолжался после победы?
Самым значительным было обращение во всех областях культуры к человеку, к его внутренней жизни, к его достоинству, к его личности.
Взгляните на фрески Рублева во Владимирском соборе, на его произведения в иконописи, на произведения Феофана Грека (хоть и грек по происхождению, он был все же явлением русской культуры – именно «явлением», потому что такое не часто встречается в культуре и искусстве)» на произведения живописи того времени в целом. Какое поразительное и какое «тихое» чувство собственного достоинства в образе человека того времени! Даже не ум, а мудрость, даже не стойкость, а готовность к самопожертвованию, даже не чувство долга, а готовность нести служение идее. Такое не могло быть выдумано художником, если его не было в жизни. Сверхличностное начало светится в образе человека, излучается им. А если мы примем во внимание, что тонкий вкус и своеобразный аристократизм духа в цветовых сочетаниях, в композиции и движении линий не могли оставаться без отклика в восприятии современников, то характер человека этого времени, человеческий идеал, к которому стремились люди конца XIV – начала XV в., предстанут перед нами во всем их скромном величии.
Но ведь то же удивительное человеческое и человечное начало звучит и в произведениях зодчества начала XV в. Собор Андроникова монастыря и церковь Успения в Звенигороде во всем соразмерны человеку, отражают его веру в себя, не пытаются величием и величиной подавить окружающую природу и окружающих людей. Они просты и гармоничны – гармоничны в собственных внутренних пропорциях и линиях и одновременно находятся в гармонии с окружающим их миром. В них ощущается обращение к образам Руси времени ее независимости, к храму Покрова на Нерли XII в. Принято говорить, и не без основания, о родстве архитектуры и музыки. Зодчество сравнивают (и сколько раз!) с застывшей музыкой. Древнерусские же храмы этого времени – это застывшая русская протяжная песнь. Это голос человека – не инструмента.
В литературе в это же время развивается стиль, способный передавать глубокую взволнованность человека, – стиль эмоциональный и филологически сложный (отсюда и прозвание главного представителя этого стиля – «Премудрый»).
Почему же возникло это особое внимание к человеку? Время, когда человек оценивался главным образом по своему положению в иерархии феодального общества, проходило. Нужны были личные качества человека. Только они могли обеспечивать полную жертвенности борьбу за национальную независимость.
И еще одна черта была свойственна культуре этого времени – времени подъема национального самосознания: глубокий интерес к истории. В конце XIV и начале XV в. на Руси, а на Балканах в течение всего XIV в., возрождались интерес и уважение к своему прошлому.
Все эти черты, общие для восточнославянских и южнославянских культур. И именно эта общность делает значение Куликовской победы таким широким и всеобъемлющим. Если в настоящее время мы имеем хотя и далеко не полное, но некоторое представление о письменности на Балканах и на Руси, то этим мы в значительной мере обязаны тому, что шестьсот лет назад события на Куликовом поле сдержали натиск ордынских войск, а ровно через сто лет, в 1480 г., Русь окончательно освободилась от иноземного ига. И это в значительной мере помогло сохранить культурные ценности южного и восточного славянства. Сюда, на Русь, спасаясь от османского ига, уходили южнославянские книжники, художники и общественные деятели, такие как Киприан, Григорий Цамблак, Арсений Грек, Феофан Грек, Пахомий Серб, сюда еще раньше приехали работать безвестные сербские художники, расписавшие новгородскую церковь Спаса на Ковалеве как раз в год КуликоЕской победы и изобразившие на стенах ее, в нижнем регистре, большие мужественные фигуры святых воителей. Сюда же на Русь тысячами в течение нескольких веков переносились книги. Здесь они переписывались и тем спасли в значительной степени южнославянскую культуру от полного забвения.
В. Т. Пашуmo