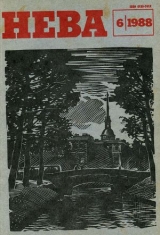
Текст книги "Ноль три"
Автор книги: Дмитрий Притула
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Понятно, я пообещал, что больше сегодня ни боже мой, никого, но это были лишь наши игры. А куда я дену инфаркт, не оставлю же на дому. Вот сюда и привезу. А с койками как-нибудь устроится. Если днем, то кого-нибудь выпишут из незапланированных, а если ночью, положат больного в физиотерапевтический кабинет или воткнут раскладушку в столовую. А утром – оно же вечера мудренее – как раз кого-то и выпишут.
Подошел попрощаться с больной, которую привез. Она уже лежала на раскладушке. Не спала, лицо уже порозовело, дыхание ровное, без сипения.
– Как вы себя чувствуете, Анна Ивановна?
– А ничего, получше.
– Ну, тогда удачи. Выздоравливайте.
Она повела глазами по сторонам, поманила меня пальцем и сказала тихо, чтоб не слышали посторонние уши:
– А за картошкой приезжай. Мешок приготовлю.
– Вот спасибо. Выздоравливайте, Анна Ивановна.
Пристроив Зотова, я пришел на «Скорую», глянул на часы – мать честная, полчетвертого. А диспетчер Зина тарелку щей передо мной поставила и показала на закутанную в одеяло кастрюлю – там жаркое! Это уж они сегодня что-то разошлись, решили побаловать всех едой.
И после обеда я лег на топчан, и жизнь мне показалась очень уютной. Я знал, что в ближайшие часы, покуда работает поликлиника, дежурство будет спокойным. А там просуетиться вечер и ночь – ночь может быть спокойной, вечер же никогда, зато ночь протекает незаметно – в работе или в дреме, а потом дежурство закончится, потом день передышки, а потом наступит новый день, и я поеду в Эрмитаж.
И уже сейчас меня не покидало предощущение счастья. Вспомню, что через день поездка в город, и окатит теплой волной надежды. Тьфу ты, пятый десяток идет, а все надеешься на какую-то приятную неожиданность в запланированном течении жизни.
Только бы ничего за эти дни не случилось.
4
И ничего не случилось.
Но как же я нервничал, собираясь в город. Словно бы впервые из своей провинции выезжаю в город или же впервые иду на свидание.
Ведь хаживал, чего там, и немало хаживал, особенно в последние институтские годы и почти за десять лет холостячества при собственном жилье. Но по большей части то были свидания верные, так что иной раз я говорил себе – а пусть оно сорвется, ничего страшного не произойдет, будет добавочное свободное время, и только.
Свидания эти, может, потому, как правило, не срывались, что шел я на них не без душевной лени. И даже иной раз наивный вопль прорывался – где были женщины в моей ранней молодости, почему не замечали меня, когда я был нищ и одинок.
А сейчас нервничал, да так, что когда брился, чуть ли ручонки не дрожали. Говорил себе раздраженно – ну, зачем мне, потертому мужичонке, стреляному, можно сказать, воробью, искать на свою шею приключения. Так ли уж худо жить без приключений, при бытовой привычной сговоренности. Нет, очень даже нехудо. В шкале моих ценностей женщина занимает не первое, не второе и даже, думаю, не третье место. Уж определенно Павлик, работа, книги ценятся мною больше.
Так нет же, чего-то он нервничает, чего-то суетится.
К тому же в душе была некоторая пакость. Наде я, разумеется, сказал, что еду в Эрмитаж (ну, там немцы привезли картины и юбилейная выставка Ватто). Но ведь не сказал, тоже разумеется, что еду не один. И пакость некоторым образом копошилась в душе – вот ни с чего обманываю. Вернее, это даже не обман, но умолчание. Хотя малая ложь, как известно, рождает большое недоверие. Пакость, словом, имела место.
И все вместе сложилось в простое понимание – а сорвись поездка с Натальей Алексеевной, так ведь оно еще и лучше. Поеду все равно – уже настроился, – но один. И не будет суеты, упреков совести, наивных волнений.
Но вместе с тем понимал, – сорвись поездка, ведь очень огорчусь, даже и несчастным себя посчитаю, мол, всегда так, надеешься на некий праздник, а приходят одни лишь будни, о, забудь о надеждах, тебе уже почти сорок три.
Во мне было отчаянное желание вновь увидеть Наталью Алексеевну. Как-то уж я понимал, что начинается не короткая интрижка, но что-то серьезное. Даже не смог бы внятно объяснить, почему так считаю. Предчувствие, не более того. И твердо знал, что она придет.
Наталья Алексеевна уже стояла на платформе, у газетного киоска. Я смотрел на нее как бы посторонним взглядом – какая-то странная широкополая шляпа, повязанная желтой лентой, хорошее пальто, хорошие сапоги. Мы сухо поздоровались – чужие люди.
Радости во мне не было, даже успел упрекнуть себя – а чего ты дергался, нервничал. Ведь чужие люди, черта ли было встречаться. Смирил раздражение – а просто съездить в Эрмитаж, тоже оно нехудо. Не был там уже год. К тому же, значит, немцы. И юбилейный Ватто.
Электричка привычно задерживалась, мы молча и отчужденно смотрели друг на друга, видно, и Наталья Алексеевна не понимала, чего это она стоит рядом с пожилым и хмурым дядькой со стандартной потертой внешностью и к тому же в стандартной же отечественной одежде.
Было утро гнилой весны, когда все тускло, сыро, неуютно, когда под ногами чавкает, когда кусты за платформой черны и голы, когда залив темен, а вдоль путей скапливается весь мусор зимы.
И не было защиты от ветра с залива, и не было утешения. К тому же небо лежало так низко, что всплыла привычная фраза о том, что под этим небом не страшно умирать.
И этим соображением я поделился с Натальей Алексеевной – угнетало долгое молчание.
– Зато в электричке будет тепло, и мы поедем в Эрмитаж, – ответила она.
И мне стало ясно, что она отлично понимает и мое состояние, и почему я хмур и молчалив – а черта ли нам было встречаться. Это мне следует острить и суетиться, чтоб сгладить неловкость, но, выходит, она гораздо воспитаннее меня и, возможно, умнее: не поддалась минутному настроению, но нашла первый же утешительный мотив – вот в электричке будет тепло. И это разом вымыло из меня и хмурость и с трудом скрываемое раздражение.
Напротив, стало легко: ведь всегда радует, когда замечаешь, что кто-то воспитаннее тебя.
И тут же подошла электричка.
В вагоне было свободно, и мы сели друг против друга. Электричка пошла.
– Вот и поехали, – весело сказала Наталья Алексеевна. Она рада этой поездке, и она улыбнулась.
И это была все та же, уже узнаваемая открытая улыбка. Сперва чуть виноватая – слегка вздернулась верхняя губа, а затем повлажнели глаза. И эта улыбка окончательно вымыла мое раздражение, со мной все ясно – я пришел, чтобы еще раз увидеть эту нежнейшую улыбку, и было то же странное чувство, что и в библиотеке – мы знакомы много лет, мне легко и просто, и не надо пыжиться, чтоб казаться умным и значительным. Коротко говоря – свои люди – вот точное определение этому состоянию.
И утро уже казалось не тусклым, но замечательным, и будто бы за окнами чуть посветлело, и что-то загадочное замаячило впереди: таинственная поездка, встреча, как говорится, с прекрасным, к тому же все работают, а ты волен, как школьник, рванувший с урока, – все удивительно, все неповторимо.
Начал постепенно прибывать народ, скамейки были уже заняты, я наклонился к Наталье Алексеевне, чтоб разговорами не мешать соседям, и мы были отъединены ото всех.
– Я шесть лет не была в Эрмитаже. Как закончила институт, так и не могла выбраться.
Из разговора я узнал, что она ленинградка, прежде жила с отцом, матерью и младшей сестрой, на последнем курсе вышла замуж, уехала в один из райцентров области, где она работала библиотекарем, а муж в Доме культуры. Полтора года назад разошлась с мужем, вернулась было к родителям, но там к этому времени стало туго с жильем – сестра вышла замуж.
И тогда Наталья Алексеевна переехала к нам. Почему именно к нам? А здесь дали лимитную прописку. Отдел культуры арендует несколько комнат в общежитии строителей – это и есть лимитная прописка.
К тому же вроде обещают жилье. Но, конечно, не сразу. Но все-таки обещают. И нужно ведь как-то на ноги становиться – не одна ведь, у нее пятилетняя дочь Марина.
Примерно так я понял, почему Наталья Алексеевна перебралась к нам. Впрочем, не ручаюсь, что понял все точно: бытовые стороны нашей жизни бывают столь тонки и хитры, что непременно запутаешься.
И я не стал продолжать бытовой разговор, но вернулся к ближайшей цели нашей поездки.
– У меня было время, когда я каждое воскресенье ездил в Эрмитаж. Что-то, конечно, тянуло, но и выхода иного не было. Общежития не хватило, и нам, десятерым гаврикам, институт снял в Лисьем Носу летний домик. Ребята были поразвитее меня, по субботам они ходили на танцы, а потом провожали девушек. А воскресным утром, натопив печку и чуть выпив, они делились впечатлениями прошедшего вечера. А поскольку я был тощ, не нравился девушкам и не умел танцевать, у меня и не было никаких впечатлений. Очень правильно сказал мой сосед, проворный парнишка: «Тебя бабы не будут любить, ты по углам прячешься». И я уматывал, чтоб не казаться уж вовсе молокососом. И уматывал именно в Эрмитаж.
Мне было даже и странно: а чего это я молодой и незнакомой женщине рассказываю о своей далекой юности. Да ведь она же тогда и в детский сад, поди, не ходила. Четырнадцать-пятнадцать лет разницы – почти целое поколение.
Мне даже и непонятно было, чего это она согласилась встретиться со мной.
Господи! Да ведь ей просто не с кем было поехать в Эрмитаж – вот и все объяснение. Собственно, я – швейцар, открывающий дверь в рай. На моем месте могла быть соседка, подруга по работе, постоянный читатель-пенсионер. Просто одной скучно и не выбраться.
Перед Эрмитажем очереди не было, да и у касс мы стояли всего минут пять.
Я сдал наши пальто и сапоги Натальи Алексеевны. Наталья Алексеевна у большого зеркала поправляла прическу. Я встал с нею рядом. Соседство, несомненно, было проигрышным для меня.
Видно, что-то дрогнуло в моем лице – размягчилось ли оно, глаза ли стали испуганными, – а только Наталья Алексеевна тихо спросила:
– Что случилось?
– Все в порядке, – ответил я.
И осторожно, нежнейше дотронулся до ее локтя.
Я люблю поговорить у картин, с удовольствием вожу гостей по музеям – ведь хоть на пару часов становишься пророком, так как же не обожать себя в это время.
Но тут сидел во мне тормоз. Мы останавливались у той картины, которую я хотел показать, молча рассматривали ее и шли дальше.
Рембрандт, поворот налево – испанцы – Эль Греко, Моралес, потом голландцы, «Портрет камеристки», две-три картины Ван Дейка, потом долгим ходом, почти не задерживаясь, к французам третьего этажа.
Я вдруг вспомнил, как обалдел, когда впервые обнаружил, что в Эрмитаже есть третий этаж. После девушек Греза, в которых я несомненно был влюблен, так что они снились мне по ночам, я уткнулся в висевший тогда над лестницей «Танец» Матисса, и мне было странно, как это такой замечательный музей вывесил детские упражнения – а что, и я, да и всякий так может, у меня и сомнений не было.
Я пошел в залы третьего этажа и наткнулся на курсанта, который объяснял двум теткам «Трех женщин» Пикассо, а тетки чуть не плевались, хотя курсант и доказывал, что женщины на картине невероятно красивы.
Странные были времена: плевали в Пикассо, дрались на выставке итальянских абстракций – отсквозившее время, давние нравы, свежий, незамыленный взгляд дикаря.
Даже и неясно мне, почему я решил тогда, что мне все это нужно понять. А только споря с таким вот курсантом, я постоянно приговаривал – хочу понять. Да, я хочу понять.
Но и повезло. То ли нищий мой вид, то ли голодное тощее лицо, то ли горящие глаза дикаря, но что-то привлекло ко мне внимание худой пожилой женщины. Несколько воскресений она сидела за столиком в зале Сезанна и что-то писала.
И что-то я однажды спросил, ну вроде того, а почему вон там небо красное, и эта женщина принялась объяснять мне так понятно и с такой, я бы сказал, любовью, что почудилось мне, что и сам я в этих картинках кое-что кумекаю.
Я ходил в залы каждое воскресенье и кончилось тем, что женщина эта – она оказалась старшим научным сотрудником и звали ее Варварой Васильевной – стала каждое воскресенье приходить сюда, чтоб поводить меня по залам.
Я угадывал какую-то потерю в ее жизни – возможно, сын погиб в блокаду – другого объяснения, почему она возилась со мной, я не знаю. Но каждое воскресенье несколько месяцев я ходил сюда, и Варвара Васильевна меня натаскивала.
Когда я разговариваю с Андреем, я иногда вспоминаю Варвару Васильевну. Кто я ей был? Никто – мальчик, желающий что-то понять, и этого одного достаточно было, чтоб она тратила на меня воскресные дни. С Андреем положение более определенное. Кто я ему? Учитель. Что он мне? Оправдание жизни.
Потом началась сессия, потом я, чтоб все-таки выжить, начал подрабатывать, и тут уж было не до воскресных походов в Эрмитаж, и больше Варвару Васильевну я не видел. Почему она приняла во мне участие? Загадка, мне ее уже не разгадать, да по правде говоря, я и не хочу ее разгадывать.
Но с той поры во мне держится любовь к французам девятнадцатого века. Причем вот к этим, эрмитажным работам. Московские нравятся менее. Выставка разрослась, многое достали из запасников, но любовь осталась именно к тем, давним картинам, что висели при Варваре Васильевне.
Я не смог удержаться и объяснил Наталье Алексеевне, почему мне здесь нравится – картины, конечно, хороши, имеет место и возврат в юность, но тут еще и дань возрасту – мы всего более любим смотреть привычное, устоявшееся в нас.
Однако, черт побери, это привычное было хорошо. В тусклый денек, при тусклом же освещении картины все равно сияли. Думаю, они сияли бы и в темноте. Впрочем, об этом лучше спросить у служителей запасников, где многие из этих картин десятилетиями ожидали прилива массового интереса к себе.
В Эрмитаже мы были недолго – часа полтора. Как-то само собой имелось в виду, что мы здесь вместе не в последний раз. Итальянцев и англичан посмотрим отдельно. Да, не в последний раз.
И вот ведь что: все это время меня не покидала легкость. Что ни делаю, все хорошо. Хочу молчать, и молчу, и это молчание естественное, не натянутое, так что не надо суетиться и что-то лепетать, чтоб спутница не заскучала – она не скучает. Хочу заговорить, не покажусь болтливым. Именно что свои люди. Именно что давно знакомы. И при этом сложная смесь умиления и какой-то непонятной жалости. И еще, конечно же, присутствовала некая тщеславная гордость, что понятно – со мною рядом красивая молодая женщина.
И как же она была легка, и мне было особо приятно видеть, что вот все женщины в сапогах, а она в легких, чуть не бальных, туфлях.
Праздник, чего там, конечно, праздник.
С Невы дуло, все было серо и слякотно, на Невском ощущалась непереносимая для некурящего провинциала загазованность.
Но на душе была беспричинная какая-то торжественность. Я четко ощущал, что в моей жизни происходит нечто важное, некий серьезный поворот.
На Невском мы зашли в «Кафе-мороженое» и взяли по бокалу шампанского. Было безлюдно. Я молча поднял бокал – ваше здоровье! Она тоже молча кивнула – ваше! На лице ее была легкая улыбка, загадочная даже какая-то, в трепете, я бы сказал, и в печали. Возможно, Наталья Алексеевна тоже понимала, что начинается что-то серьезное.
– Все хорошо, – сказал я.
– Да. И спасибо вам. Вы знаете, я из нашего города никуда не выезжаю. Вначале ездила с Мариной к моим родителям, но теперь там грудной ребенок, тесно и, думаю, всем не до нас. Это, конечно, временно. Я уже полтора года живу в нашем городе, но ни с кем не подружилась. На работе все старше меня. Может, считают меня высокомерной, не знаю. Но только не с кем поговорить, – и это все с той же нежнейшей улыбкой.
– Теперь я? – робко, чтоб только как-то помочь ей, спросил я.
– Да.
В электричке ехали молча. Грустно как-то, даже печально смотрели друг на друга. О! Длить бы бесконечно эту поездку, сидеть друг против друга и печально ожидать продолжения, да, ради бога, не надо продолжений, вот так хорошо, в ожидании чего-то важного, неотвратимого, общая грусть, общая печаль, общая неизвестность. Бесконечное общее время, блаженная заторможенность, нет страсти, нет нетерпения, и это замечательно.
В свой город мы приехали в четыре часа. На платформе во мне неожиданно проклюнулась воля, и я сжал локоть Натальи Алексеевны. Заторможенность прошла вместе с остановкой электрички.
– Провожу, – сказал я.
Она ничего не ответила. Мы поднялись в гору, молча, торопливо пересекли пустырь и подошли к ее дому.
– Обещала Марине забрать ее пораньше, – словно в чем-то оправдываясь, сказала она.
– Еще рано, – сухо сказал я.
Она печально кивнула.
Обойдя общежитие строителей, мы вошли в боковую дверь, прошли пустым коридором и вошли в ее комнату.
Повесив пальто, мы порывисто повернулись друг к другу и обнялись. И долго стояли, привыкая друг к другу.
5
Да, а время между тем текло, и Алферов, мой новый начальник, помаленьку врабатывался. Первое время, как водится, он только присматривался – никому никаких замечаний. Пятиминутки проводил коротко, и это, конечно, людям нравилось. Лариса Павловна устраивала получасовые утренние разборы – на ошибках учимся! – а люди после суток, спешат домой.
Значит, никаких замечаний. Скромно заметит: мы с вами люди маленькие, назначили и потому приходится подчиниться. А так-то новая работа ему не нравится.
Но тут не надо быть крупным психологом, чтоб понять: новая работа Алферову как раз нравится. На пятиминутке пальчиками по столу побарабанит, и сразу тишина и всеобщее внимание. Или вот в пятницу идет на медсовет, приходит распаренный, но довольный – это главврач при всех его выругал. Понятно, почему доволен – ругали именно его, а не кого другого.
Да, ему нравилась новая работа, и он на глазах расцвел. Прежде глаза у него были тусклые, а тут в них живой блеск появился, вроде бы человек нашел смысл жизни. И явно похорошел. Тщательно бреется, даже одеколоном от него попахивает, и даже – нате вам! – брюки у него постоянно глажены. Правда, они у Алферова, как всегда, чуть коротковаты, словно бы он их когда-то покупал навырост, но это уж беда всех людей маленького роста. Но ведь постоянно глажены, что удивительно.
Значит, жена заботится, значит, она гордится своим мужем – это по одежде видно безошибочно. Гордость ее понятна: выходила замуж за простого фельдшера (правда, студента института), а вот за шесть лет какой рост наметился. Ходко? Конечно, ходко.
И вел Алферов себя, надо прямо сказать, умно. Старался ничем не раздражать людей, не брал круто. Помня о нашем уважении к Ларисе Павловне, не катил на нее, дескать, вон сколько недоделок она ему оставила. Нет, всегда ее хвалил. И я с удивлением понял, что ошибался в нем, что он умнее, чем я предполагал. Теперь, если окажется, что он и дело понимает, будет совсем хорошо. А я уже не сомневался, что так оно и будет.
Даже не обиделся на Алферова, когда он меня при всех срезал.
Поступила жалоба, правда, устная, по телефону. Молоденькая фельдшерица сделала укол, а больной раздраженно заметил: нельзя ли поласковее. А она с ночи, усталая, ну, и прицыкнула, дескать, можно и потерпеть – у вас вон какие желваки от магнезии. Хорошо хоть не сказала: «Тяжело в лечении – легко в гробу» – ходит такая шутка после какой-то передачи.
Больной позвонил из, как он сказал, исключительно педагогических соображений – молодая работница.
Алферов спокойно, ненапористо сказал:
– Сдерживать себя надо, Валя.
Да, но Валя из моей смены, и я стал рассуждать, что это не только она виновата, но и мы, опытные врачи. Мы в своих разговорах бываем циничны, и молодежь это быстро схватывает.
Алферов в середине моего разгона побарабанил пальцами и сказал:
– Все ясно, Всеволод Сергеевич, все ясно.
Я, конечно, от неожиданности осекся. По прежним временам привык, что меня внимательно слушают – ну, говорун, – вот Алферов и дал понять, что прежние времена кончились. Тут не вольная говорильня, а собрание – дадут слово, будешь говорить, но коротко и ясно.
Срезал он меня так изящно, что я даже рассмеялся. И вовсе не обиделся. Да и что обижаться, если кто-то оказался умнее тебя. Тебе дали понять разницу в служебном положении, ну и пойми ее.
После собрания Алферов подошел ко мне – он не хотел, чтобы я обижался.
– Не знал я, Всеволод Сергеевич, что это такая хреновая работа, – тихо пожаловался он. – Голова пухнет – совсем увяз в бумагах. Скучаю по живой работе. Утром проснусь – тянет к машинам. Скорее бы это кончилось – и по коням.
Это он таким деликатным способом просил у меня прощения за то, что срезал при всех.
– Все будет хорошо, Олег Петрович. Новая работа – это всегда трудно. Привыкнете.
– Спасибо.
Однако отношение в сменах было к Алферову таким же, как прежде – то есть его всерьез как-то и не принимали. А думали – временный человек. Вроде вчера он был игроком в команде, а сегодня случайно стал играющим тренером, завтра же – опять будет играть с нами вместе. Так и смотрели на него – временный человек.
Это он, конечно, понимал и, думаю, переживал болезненно.
И тогда Алферов показал, что некоторую власть имеет и что зубы у него тоже прорезаются. Что и верно – должны же люди чувствовать, что у них есть начальник.
Начал он с укрепления дисциплины. Тем более, что волна такая пошла – на укрепление дисциплины. В каждой смене было, как водится, два-три человека, которые постоянно на несколько минут опаздывают. Причем одни и те же. И тут Алферов точно угадал недовольство тех, кто приходит вовремя.
Положение ведь как: в девять часов ты должен быть готов ехать на вызов. Потому надо прийти на десять минут раньше, чтоб собрать сумку, принять наркотики, все такое. Вот ты уже собрался, а те только подтягиваются. Да пока покалякают, да пока соберут сумку – их же в это время на вызов не пошлешь – не готовы. А поедет тот, кто готов. Что, конечно, обидно.
Алферов сперва предупредил молоденькую фельдшерицу, чтоб больше не опаздывала, а когда она опоздала снова (думала, поди, что начальник только стращает, пока его не утвердили в должности, побоится активничать), Алферов сунул ей выговор. Не сам, конечно, а через главврача – написал докладную.
И все – опоздания прекратились. Хотя все, да и он сам, понимали, что обозначая строгость, он дал и слабину – напал на девочку, на опытного опоздальщика напасть – кишка тонка. Но ведь тут был важен результат.
Первый период его работы можно назвать периодом покладистости – вот это: мы с вами простые люди, нам сказали делать, и мы делаем, и он нам не судья, он лишь продолжает дела, оставленные Ларисой Павловной в отличном состоянии. Этот период продолжался недолго – примерно месяц.
Потом начался второй период – время бурных экспериментов. Алферов ездил по другим станциям и набирался опыта. Приедет, расскажет сменам, где был и что видел, да, нам есть чему у них поучиться.
Был энергичен, глаза его сияли, любил приговаривать – давайте попробуем то-то и то-то, ведь мы еще молодые. Нам учиться и учиться. У нас неиспользованные резервы, нам брать новые рубежи. Прямо тебе молодой лидер, открывающий нации новые горизонты.
Появились красивые и – убежден! – полезные таблицы, графики, сводки. К примеру, здоровое соревнование между сменами. У тех четыреста пятьдесят вызовов за месяц, а у этих меньше – только четыреста. Так в чем дело? Может, один диспетчер берет все подряд, или, напротив, другой диспетчер слишком жесткий. Давайте считать, давайте разбираться, ведь мы же молодые!
Или вот одна смена сделала сорок электрокардиограмм, а другая двадцать шесть. Это явная недоработка, товарищи, это наверняка пропущенные инфаркты. Мы ленимся, а страдают люди.
Конечно, у Ларисы Павловны работа была налажена, но это уже вчерашний день, а мы живем сегодня и должны стремиться в завтра.
Вот он решил, что сумки должны быть не свои у каждого, как прежде, но общие. Пять выездных машин – пять сумок. Тогда будет преемственность и порядок.
Или вот давайте работать по скользящему графику: тот выходит к восьми, тот к девяти, тот к десяти, а не все скопом, как прежде.
И мог ли я говорить ему, что подобные эксперименты уже переживал, и не раз? В самом деле – я работал в одиночку и в бригаде, обслуживал только город и только село, а сейчас и город, и село, ездил с общей сумкой и со своей собственной, соревновался с другими сменами нашей «Скорой», и с другими отделениями нашей больницы, и другими «Скорыми» других больниц, машины прикреплялись к каждому врачу отдельно, и ездили они потоком, кто куда сядет – я пережил все.
Но на усилия Алферова смотрел с большим сочувствием, всяко поддерживал их. Потому что эксперименты эти не мешали работать, и это было главное. Я всегда знал: Алферова, если он зарвется, снимут, меня же – никогда.
Конечно, некоторое благодушие в ту пору у меня было. Что очень и очень объяснимо.
Ну, во-первых, пришла яркая накатистая весна. Как-то быстро сошел лед с залива, неожиданно навалилась жара, к маю появились листочки на деревьях, люди начали загорать в парке и на заливе, и к середине мая ходили в одних рубашках.
Во-вторых, Андрей упорно писал повесть, и я поэтому все время жил в какой-то радостной надежде. Вот, думал я, у мальчика получится вещица и, глядишь, может этим и будет определяться его дальнейшая жизнь. Даже в самых радужных надеждах не было у меня прежде, что вот Андрей, мой подопечный, станет, там, писателем. Но, находясь в эйфории, я отчего-то убежден был, что именно так и будет. О! Это такой паренек, у него непременно получится все, за что он ни возьмется.
Он писал повесть поздними вечерами, прихватывая часть ночи, торопился, потому что впереди маячила сессия, и Андрей так положил себе, что к сессии должен прогнать хотя бы половину повести.
Он понимал, что я очень верю в него, надеюсь и все такое, и каждый вечер забегал к нам – вот книжку возьму, вот сверю цитату. Но было понятно, что перед вечерней работой заскакивает глотнуть моей веры в него.








