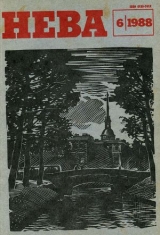
Текст книги "Ноль три"
Автор книги: Дмитрий Притула
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
21
Когда шел домой, на душе было тускло – сразу после моего утреннего взрыва радость улетучилась. Да, было тускло, и сердце ныло. Ну, и что я доказал? Ничего. Проку от этого мало – плетью обуха не перешибешь. Алферов, пожалуй, рано или поздно меня выпрет. Конечно, не сейчас, это было бы глупо – после критики-то.
Придя домой, я полежал в ванне, побрился и пошел к Наташе. О встрече договорились позавчера – у нее сегодня выходной день.
Я шел захламленным пустырем. Было слякотно, после дождей похолодало – дело к близкому снегу.
Помню такую малость. У меня развязался шнурок, я нагнулся, чтоб завязать его, потом выпрямился, и этого малого движения достаточно было, чтоб несколько слов, вяло копошившихся во мне, соединились в законченное понимание – моя жизнь прошла. Я и сразу и покорно с этим согласился.
Нет, конечно, какой-то защитный рефлекс возмущался: как же так, жизнь прошла, да ведь тебе только сорок три, по нынешним меркам, время субтильной моложавости, о-хо-хо, сколько всего у тебя впереди: и работа, и интересные книги, и судьба Павлика и Андрея.
Но я окончательно понимал: жизнь прошла, и это факт бесспорный и решенный. Потому что не будет более ничего, что отличало бы мою жизнь от жизни других людей. Все спрограммировано, все ожидаемо. Конечно, остались некоторые точечки жизни, малые ее загадки, но в главном она прошла.
Но, понятное дело, тут же услужливо шевельнулась очередная надежда – нет, это не последняя истина жизни, будут, конечно же, и другие, чего там, я поймал себя на том, что улыбаюсь.
Улыбку не прогонял, потому что как бы играл: сегодняшнее открытие дорого мне и томит своей безнадежностью, но и привычно уговаривал себя, что все-таки некоторая, пусть и малая, надежда есть.
Я пошел дальше и со вздохом сожаления погасил улыбку. Даже провел ладонью по лицу, чтоб убедиться, что улыбка пропала.
И тот взмах руки, и привычный кивок, и почти беззвучное порхание по коридору, и молчаливое объятие.
Да, но Наташа была непривычно печальна, даже подавлена.
– Что случилось, девочка?
– Так, ерунда – мне отказано в жилье.
– Как? Почему? Ведь все было в порядке.
– Исполком не подписал документы. Сказали, до нормы не хватает метра. Если мы ей дадим комнату, она через год встанет на очередь, и будет права.
– Так пусть дадут большее жилье.
– А другого нет. Тут все одно к одному: кто-то из наших написал анонимку, что вот я без году неделя, а уже дают жилье. К тому же наш завотделом культуры уходит в область на повышение, он выбивал это жилье, потому что заботился о нас, а теперь ничего этого не будет.
Снова повторю: в тонкостях быта разобраться сложно, но смысл прост – комната была обещана, но теперь она уплыла и в ближайшее время ее не будет.
Господи, ну как же я утешал Наташу, ну, милая, ну, потерпи, это не самое страшное, жизнь ведь не сегодня заканчивается, это уж ты так настроилась, что больше здесь жить невозможно, но ведь многие люди в таких условиях живут десятилетиями, и как-то уж утешил, исчезла подавленность.
– Ничего, – говорил я тихо. – Есть даже утешение, которое я называю «зато». Нет жилья, зато у тебя девочка хорошая, и есть для кого жить. Написали анонимку, зато я тебя люблю. И так далее – утешение можно длить бесконечно.
– Да, ты прав. Ладно. Мне подарили оперу Рыбникова. Хочешь послушать?
– Поставь.
Я сел на стул. Наташа надела мне наушники, набросила на мои плечи одеяло.
Мне нравилась не так даже опера, как сиюминутное состояние: вот после тяжелого дежурства я слушаю музыку, рядом Наташа, и в любой момент я могу протянуть руку и коснуться ее.
Когда началась песня Резанова («Ты меня на рассвете разбудишь»), я почувствовал движение за спиной. Обернулся – Наташа надевала халат.
– Ты куда? – спросил, но она не ответила.
Она что-то высматривала под кроватью, торжествующе вскинула руку (так футболист радуется, забивая решающий гол), затем вытащила, держа за хвост, дохлую крысу.
Не сгибая спины, выставив прямую руку, она с торжественным омерзением пронесла крысу мимо меня.
– «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду», – пел в это время Резанов.
Наташа, сбросив с моих плеч одеяло, сухой щекой прижалась к моей спине. Я замер. Она сняла наушники и, словно некий неодушевленный предмет, арбуз или мяч, взяла мою голову в руки и повернула к себе.
– Я больше так не могу, – сухо и строго сказала она. – Нам нужно расстаться. Больше мы не встречаемся. Все!
– А в чем, собственно, дело? – растерялся я.
– Я все решила. Надо что-то делать. Я больше так не могу. Крысы. Сырость. Девочка кашляет.
– Крысы, сырость – это одно. А мы – другое. Если расстанемся, то сразу жилье дадут? Нет, не понимаю. Может, ты решила замуж выйти? – кольнула меня догадка.
– Да.
– За капитана Березина?
– Да.
– Он сделал предложение?
– Нет. Но сделает в любой момент, если будет знать, что я соглашусь. И минуту назад я решила – соглашусь. И сразу все встало по местам. И разрешились все трудности.
– Но ты его мало знаешь. И, соответственно, не можешь любить, – конечно, то были жалкие лепетания, чего там.
– Это неважно.
– Что ж тогда важно?
– Жилье. Вот это важно во все времена.
– Тогда вернись к мужу. Незачем было экспериментировать со своей независимостью.
– Поздно, он летом женился.
– Пожалуйста, выключи пластинку.
И я начал молча одеваться. Но, видимо, сделал слишком резкое движение – сердит! – и внезапно что-то острое – нож ли, вражеская пика – ударило меня в грудь, и обожгла боль.
Я захрипел и схватился за грудь, чтобы как-то притупить острие ножа, но не мог заглотнуть воздух.
– Что с тобой? – испугалась Наташа.
– Больно. Не могу дышать.
– Да ты же совсем мокрый, – заметалась она. – Сева, прости меня. Ну, пожалуйста, прости меня.
Ее слова я уже слышал глухо, отдаленно, лицо размывалось, и сама она, в странных каких-то изгибах, уплывала вдаль.
Однако гаснущее мое сознание подсказывало, что это не она, а я уплываю, и уплываю от жизни и безвозвратно, и только рвущая грудь боль не давала мне уплыть слишком уж далеко.
– Я сейчас сбегаю. Телефон-автомат на улице.
– Я уйду. Чужой дом, – уж как-то склеив остатки воли, сказал я.
– Нет, ложись. Я сейчас, – уговаривала Наташа.
Если б она силой уложила меня, я бы остался, потому что боль была невыносима, но она только уговаривала, и я, хватая ртом воздух, как выброшенная на песок рыба, все-таки пытался уйти. Если и умру, знал твердо, это случится не здесь. Здесь – все кончено. Теперь только бы выбраться живым. Как-то уж натянул рубашку, воткнул ноги в брюки и туфли. Набросил пиджак, пальто.
То на миг уплывал, то возвращался – промельк сознания, жалкий трепет воли – все нормально, успокаивал Наташу, и коснулся ее щеки ладонью – красивый прощальный жест – и побрел по коридору к выходу.
– Я с тобой, – не то предложила, не то спросила она.
– Нет, я сам, – и даже попытался улыбнуться, но понимал, что вышла лишь клейкая гримаса боли. – Сам. Тут автомат.
И как-то доплелся до телефона, и с удивлением отметил – работает, повезло, и, набрав ноль три, сказал:
– Это я.
– Всеволод Сергеевич? Что случилось?
– Мне плохо. Боли в сердце.
– Где вы?
– В автомате. Против библиотеки.
– Мы сейчас. Там и оставайтесь.
Стоять не мог, и сел на пол автомата, спиной привалясь к стенке, вольно разбросав ноги. Если б кто проходил мимо, подумал бы, что я пьян, но в то туманное мглистое время никто мимо не прошел.
Я собирал воедино все жалкие осколки воли, чтоб дотерпеть, и знал, что у меня инфаркт – да, сильные боли в груди, и отдают в лопатку, и распространяются в левую руку, и липкий пот, значит, внезапно упало давление – все было ясно.
Господи, удерживал сознание простым и горьким соображением: кого мы любим. Помереть – оно ладно, но хорошо хоть не у Наташи, сумел выбраться. Кого мы любим! От боли и горя я колотил кулаком по стенке автомата.
Но сквозь слякотную мглу пробился наш мерцающий огонь, и из машины выбежала Елена Васильевна, и она махнула рукой – сюда носилки.
– Да вы что? – спросила она.
– Больно! – прохрипел я.
И уложили на носилки, и понесли, и втолкнули в машину.
Елена Васильевна подняла рукав рубашки, надела манжетку и надула ее, и халдейские наши лепетания – нижнее на нуле – и пошлепывание по локтевому сгибу, и слабый вкол, и струение тепла, освободившее тело от боли.
– Поехали! – крикнула она шоферу, и машина рванулась.
Боль прошла, и я попытался подняться. Меня удержали силой. А я и не настаивал, боль хоть и прошла, но осталась услужливая память о ней и удушливое липкое ожидание ее.
Мы подъехали к терапии, шофер начал скликать мужчин, чтобы нести носилки, я снова попытался подняться.
– Это невозможно! – неуступчиво сказала Елена Васильевна и я сразу смирился.
Сила солому ломит, не так ли? Я сейчас был не сильнее соломы. Правда, мелькнуло что-то красивое про мыслящий тростник, но я так боялся – нет, не смерти, а повторения болей, – что было не до рисовки.
Что-то там протестовал, но на мои протесты не обратили внимания, подняли на второй этаж, внесли в многолюдную палату, сбросили на пол пальто и пиджак, стащили с меня брюки и рубашку, вкатили в палату электрокардиограф – и липучие мылкие пошлепывания тряпок по голеням и предплечьям, и унизительное обвивание проводов. Я косил глазом на ленту кардиографа, она, эта лента, и решала мою судьбу.
– Ну, что там, Елена Васильевна? – спросил я.
– Эс-тэ ниже изолинии, патологический ку, – твердо сказала она.
Молодец, строгий деловой голос, нет жалобных нот, а ведь сообщила, что у меня тяжелый инфаркт миокарда.
– Вот посмотрите.
Я взял в руки ленту, смотрел ее профессиональным взглядом, забыв на мгновение, что это не чью-то ленту держу в руках, но свою, не оттиск чужого сердца, но своего собственного, единственного.
– Все правильно. Обширный инфаркт, – сказал я. – Спасибо за оперативность.
Тут подошла Людмила Владимировна, заведующая отделением, с этого момента мой лечащий врач.
Она улыбалась, но ее голубые глаза были тревожны – молодой инфаркт! А мужчина в сорок три года считается молодым инфарктником.
– Все свободны, – сказала она. – Направление оставьте на посту, – это она Елене Васильевне. – Тоня! Готовь капельницу, – и она сказала процедурной сестре, что именно влить в капельницу.
Людмила Владимировна разговаривала со мной, измеряла давление, выстукивала и выслушивала, но меня уже тянуло в сон, тут внесли капельницу и установили ее, и я поначалу пытался считать проскальзывающие сквозь узкое стеклянное горло капли, но потом провалился в липкий пузырчатый сон, который был, пожалуй что, явью, потому что я умудрился смотреть на себя как бы со стороны, и я видел насмешку посторонних сил над моим телом – оно то вытягивалось, то скорчивалось, руки принимали изогнутый вид, словно бы я находился не в больнице, но в комнате смеха у компрачикосов; но что удивительно, дух мой пребывал в восторженном блаженстве при виде издевательства над телом.
Тело было легче пушинки, дух же – всепонимающ и восторжен, и даже знание, что моя жизнь истончилась до легкого волоса, не вымывало из души восторг.
В сон вплывало тревожное, потемневшее лицо Нади, и я удивлялся, а как она сюда попала, у нее же вечерний прием, и жизнь тогда вновь принимала реальные очертания, переносясь от компрачикосов в больничную палату.
И в эти мгновения жизнь была коротка и ярка, как промельк зимней ночью освещенных окон электрички.
– Что, Надя, подвел я тебя? – лепетал я. – Прости. Вечерний прием.
– Спи.
– Я маюсь – ладно. А ты за что? Что я тебе?
– Все! Ты мне все!
– Глупости! Никто никому ничто.
– Спи!
– Ты иди домой. Я в порядке. А Павлик некормлен.
– Ничего. Легкая самостоятельность ему не помешает.
– Нет. Иди и уложи его. Сейчас вечер?
– Да. Восемь часов.
– Иди. Иначе я буду нервничать. Что не показано.
– Хорошо. Я велю Павлику ложиться спать и сразу сюда.
И снова я то проваливался в сон, то снова всплывал, и сон мешался с явью, и всплывали такие подробности прошлой жизни, что я, знакомый с некоторыми закономерностями сновидений, понимал, что это подключается бодрствующая моя память.
И я видел двенадцатилетнего мальчика, худого, длинноносого, с прической под ноль (таково положение тогдашней школы, до седьмого класса стрижка под ноль, профилактика вшивости), у мальчика тонкая шея и плоский затылок, чуть кривоватые ноги – последствия голода раннего детства, на нем шаровары из какой-то непонятной ткани – свалявшиеся шарики ткани легко сощелкивались, и странная же куртка с какой-то вовсе немыслимой кокеткой. О, претензии нищеты: регланы, кокетки, бобочки.
В руках у мальчика сетки, а в сетках кастрюльки, одна побольше, другая поменьше. По мальчику, как по Канту, можно сверять часы. Потому что он идет в столовую, которая открывается после перерыва в три часа. Мальчик не хочет стоять в очереди, потому приходит ровнехонько к открытию столовой. Там со скидкой в двадцать пять процентов отпускаются обеды на дом.
И что удивительно: мальчик не стесняется носить эти сетки с кастрюльками через весь город. И этому есть объяснение: он сознает себя кормильцем. Да, узкие покатые плечи, нечистые шаровары (они не стирались, они просто выбрасывались, когда снашивались до дыр), опорки в галошах, в руках сетки – сирота.
Это его ежедневный маршрут в течение двух лет, пока мальчик не стал подростком и не начал взбрыкивать – ему надо было проходить мимо окон Светы Панченко, в которую он был тайно влюблен.
И что еще удивляет: над мальчиком никто не смеялся, даже одноклассники. Опять же – сирота. Почти все росли без отцов, но они отцов и не знали, а тут положение особое – мальчик растет без матери, которую хорошо (о, даже слишком) помнит.
И мальчика в столовой ни разу не обсчитали. А потому что все официантки, и повара, и буфетчицы поочередно спрашивали: а где твоя мама? Она лентяйка? Нет, ответ, полный сдержанного достоинства (и это достоинство чуть подчеркивается, но лишь в той мере, чтоб достать сердце спрашивающего и не отпугнуть его стыдом), нет, моя мама не лентяйка, она умерла.
Излишне говорить, что мальчику дают куски получше и побольше. Потому что мальчик – живой пример другим детям. Вот он растет без матери, а не хулиган, вежливый и честный.
Да, честный. Однажды он выкинул номер: буфетчица передала ему десятку, и на следующий день мальчик ее вернул. Чем поверг всех в изумление – в среде, где упавшее с воза законно считается пропавшим, возврат денег – явление необычное. Так что некоторое время посудомойки выглядывали увидеть такого необыкновенного мальчугана.
Он сейчас напоминал мне маятник. И я хотел погладить мальчика по стриженой голове, я хотел заглянуть в его глаза, я хотел спросить, знает ли он, что ждет его в дальнейшей жизни.
И это так просто, одной минуты достаточно, чтоб проскочить время от того мальчика до меня, сегодняшнего. Только поставь пластинку со словами «Студенточка, заря вечерняя» или же «Я понапрасну ждал тебя в тот вечер, дорогая», и отлетят тридцать лет.
На что ты надеешься, мальчик? На бесконечный праздник? На то, что если захочешь есть, в любой момент сможешь это сделать? Знаешь ли ты, что станешь доктором и иного дела у тебя не будет? И в сорок три года ты получишь инфаркт.
Мне стало невыносимо жаль мальчугана, и я проснулся от собственного стона.
– Что с тобой, Сева? – услышал я испуганный голос Нади.
Было утро, и в палату проникал с улицы жидкий свет.
– Все в порядке. Выходит, почти сутки продрых.
– Боль есть?
– Все в порядке. Только обалдение от лекарств. Ты всю ночь сидела?
– Подремала. Выпал глубокий снег.
Я неестественно выгибал шею, но увидел лишь клок тусклого неба.
Тут включили свет, больные начали шастать в туалет и обратно и шумно готовиться к завтраку.
– А как же Павлик?
– Велела самому проснуться, позавтракать и отправляться в школу.
– Ты иди домой. На работу надо?
– Нет, на эти дни отпросилась.
Она посчитала мой пульс.
– Шестьдесят четыре. Я, и правда, сбегаю домой. Хоть в порядок приведу себя. А потом покормлю тебя.
– Я ничего не хочу.
– Не настаиваю. Я побежала.
Сразу после завтрака пришла Людмила Владимировна. Обход она начала с меня. Что и понятно – молодой инфаркт.
Поговорили о моих нагрузках – вот где я мог сорваться. Физические или душевные?
– Душевные, Людмила Владимировна.
– Как себя вести, вы знаете.
– Да.
– Не поворачиваться даже с боку на бок. Ваша койка, как бы ваша галера – прикуйте себя к ней. Для ассенизации есть судно. Надеюсь, вы уважаете чужой труд.
– Да, вставать я не буду.
Да, вставать я не собирался. Во-первых, был слаб, во-вторых, не настолько уж я был равнодушен к себе, чтоб расстаться с жизнью добровольно и по собственной глупости.
Сил не было даже на возмущение: ах, как же так, вчера был здоров, а сегодня вколочен в койку. Чего уж тут клясть судьбу и ручками всплескивать – если несчастье возможно у другого человека, то почему не у тебя.
Нет, конечно, в груди что-то поднывало, вроде обиды на несправедливость судьбы – вот почему тяпнуло именно меня, да в сорок три года.
Душа моя была тускла до того, что не было судорожного панического страха смерти. Нет, в душе что-то ныло, и все возмущалось во мне от сознания, что я мог вовсе исчезнуть, это уж чего зря геройствовать.
Но ведь недаром десятилетиями изживал из себя страх смерти. Нет, чтение не проходит бесполезно. Оно, как известно, учит хорошо жить и хорошо умереть. Это мне сумел внушить Монтень. Как и стоики, которых я читал именно чтоб выжать из себя страх смерти. Именно выдавливал из себя каплю за каплей. Юношеского страха – до холодного пота, до тошноты, до судорожной рези в подвздошье – сейчас не было.
Скажу больше: в последние годы сумел воспитать себя до того, что боюсь не так даже смерти, как унижения плоти. Вот крайний случай: скажи мне Людмила Владимировна – если вы встанете, мы вас выпорем – не встану никогда. Страх унижения остановил бы меня. Страх смерти – дело иное.
Начальный звонок был вчера, когда от боли то пресекалось, то всплывало мое сознание. Смерть – это если бы сознание пресеклось навсегда. То есть это было бы лишь смещение во времени. Но я бы этого не ведал. Мгновенное пресечение сознания – и только.
Ах, как я уговаривал себя прежде: в смерти нет ничего страшного, нужно только погасить воображение и представить смерть мгновенную, а не долгую, отсечь подробности в виде скорбных лиц друзей и родственников, резиновых этих жгутов при внутривенных вливаниях, проскальзывающие через узкое горло капельницы лекарства.
Подробности эти явились вчера, есть они и сейчас – вот я неестественно выгибаю шею, чтоб видеть белый свет, а встать не могу. И что же? А можно сказать не без гордости, что подробности эти не испугали меня.
О, самообман, о, жалкие утешения сознания.
Хмарь рассеялась, и стало видно голубое небо. Нет, я за жизнь не держусь, но отдал бы что угодно, только бы быть не в палате, а на улице – потянуть ветку и подставить лицо легкой снежной пыли.
О, самообман, о, жалкие утешения сознания.
Более того, вот вся моя правда: пусть не на улице, пусть в палате, только бы всегда видеть сияние этого голубого неба.
И тогда меня захлестнула отчаянная жалость: да почему именно я, ведь всегда был здоров, не переедал, не курил, не пил, плавал и бегал на лыжах, ну, почему же именно мне так не повезло.
И чтоб уж вовсе не раскваситься, я эдакую хитрую игру ума затеял: вот скажи мне, какая высшая сила перед отлетом – сделай то-то и то-то, что прежде полагал подлостью и предательством, и жизнь твоя потечет дальше, так любой ли ценой удерживается жизнь?
Ох, уж эти игры испорченного чтением ума! Жутко и вольно становилось от сознания, что нет, жизнь удерживается не любой ценой. Конечно, душа верещала бы и корчилась, но сейчас можно было признаться – жизнь удерживается не любой ценой. И только ради этого понимания стоило всю жизнь читать книги.
Вскоре пришла Надя. Поначалу она не могла найти верный тон – что и понятно, потрясена и никак не поймает стерженек новой роли – сиделки при больном муже. Сперва она говорила со мной, как с ребенком-недоумком, ах, не суй пальчик в огонь, будет бо-бо, ах, не делай пи-пи на книги – вот горшочек, но я этот тон не поддержал, и тогда Надя нашла нечто противоположное – тон пожилой классной дамы, правда, с некоторым подтруниванием над собой, и это была вполне приемлемая манера. Скорбных ноток в ее опеке не было, и уже за это я был ей благодарен.
Выходя из палаты, Людмила Владимировна вспомнила обо мне и присела на краешек моей койки.
– Ваши-то опять нашелестели. Алферова ругали на медсовете.
– А что случилось?
– Девочка-фельдшер оставила на дому аппендицит. Привезли через день с тяжелым перитонитом. Мужик возьми да и… – заговорщицки, одними губами шептала она.
– И сколько ему?
– Пятьдесят три. Но это полдела. А вот еще.
О преемственности смен
В восемь часов утра педиатр поехала на вызов. В полдевятого она освободилась. По рации ей передали еще один – у годовалой девочки температура. Подъехали к огромному дому, а там вырыт огромный котлован – метров триста идти пешком. Конец смены, доктор вызов не обслужила, а передала его сменщице. Сменщица же не спешила – вызов-то не ее, с прошлой смены, пока она собрала сумку, да пока чай попила, так что когда приехала, дома никого не оказалось.
Потому что мать девочки, не дождавшись «скорой», взяла дочку на руки – ей и котлован не помеха – и помчалась в детскую поликлинику. Но пока подошла очередь, девочка так потяжелела, что ее сразу положили в больницу. Вызвали из области реанимационную бригаду, девочку увезли в областную больницу, где она вечером умерла.
Случай этот будет разбирать лечебно-контрольная комиссия, это само собой, но мать девочки хочет подать в суд на доктора, который не поехал на вызов.
– Не понимаю, Татьяна Федоровна – толковый педиатр. Мы четыре года в одной смене проработали. Ничего подобного никогда не было, – не мог поверить я.
– Я думаю, она спешила в город к последней электричке перед перерывом.
– Дичь какая-то. Не обслужить вызов – не понимаю. Не было прежде такого.
– А теперь у вас есть все, – и Людмила Владимировна ушла.
Пришла девочка снять электрокардиограмму, мы с ней знакомы не были, и я не стал смотреть свою ленту.
Мы с Надей на бездельные разговоры уже не отвлекались, она читала роман «Челюсти», а я с горечью думал о том, что вот пророк, который предполагает худшее, всегда почему-то прав.
Я ведь очень хотел ошибиться, предсказывая, что при алферовском руководстве неизбежны проколы. Но я не думал, что будет их столько и что ошибется Татьяна Федоровна. Не поехать на вызов – год назад такое было невозможно. Непрофессионализм начальника невольно рождает непрофессионализм у подчиненного. И вот какие платы! Непрофессионализм на швейной фабрике рождает платья-уродцы. Но они будут висеть нераспроданными и только. За наш непрофессионализм горчайшие платы.
Я даже не мог представить, как будет оправдываться Татьяна Федоровна, оправданий нет. Затмение нашло, бес попутал – единственное оправдание. Нет, у этого беса есть имя – Алферов. И самое горькое: ведь проколы на этом не кончатся, и опять платы и платы.
Тут вошла Людмила Владимировна. Лицо ее сияло, глаза стали вовсе васильковыми.
– Я хочу посоветоваться с вами, Всеволод Сергеевич, – сказала она как-то загадочно, глазами приглашая Надю принять участие в нашем разговоре. – Вот если вчера на кардиограмме был инфаркт, а сегодня его нет, о чем бы вы подумали?
– О том, что девушка спешила домой и перепутала ленты.
– А если ошибки нет?
– Я бы подумал, что у больного не инфаркт, а стенокардия Принцметала.
– И вы будете правы, – торжественно сказала Людмила Владимировна.
– Нет инфаркта? – с робкой надеждой спросила моя бедная жена.
– Нет, Надя, нет.
Тогда Надя отошла к окну, какое-то время молча смотрела во двор, а потом горько, даже и с истерическим надсадом разрыдалась.
– Ну, ну, Надя, ну, милая, – говорила ей Людмила Владимировна, – из двух зол нормальные люди выбирают меньшее.
Профессионалы, мы понимали, что и эта стенокардия – тоже не подарок, да для сорокатрехлетнего мужика, которому, кстати, до пенсии еще пахать и пахать, а уже первые звоночки, да еще какие, доложу я, звоночки, эта стенокардия, канальство, имеет склонность к повторению, и жить с такой угрозой – тоже, конечно же, не сплошной мед, эта стенокардия обязательно перейдет в инфаркт. Все лишь вопрос времени. Сколько? Год? Пять? Никак не больше…
Но эти угрозы – будущее, а живем мы в настоящем – вот, к месту! – мы жить не в будущем хотим, а в настоящем, и потому не спим, чтоб не проспать рассвет. Будущее – оно вон где, за каким еще дальним поворотом, а настоящее, оно рядом, и потому понятны рыдания моей жены – о, бедная моя жена, о чем ты горько плачешь? Не нужно в текущий момент трепетать, что муж сделает неверное движение, и сердце его расползется, не нужно пытаться удерживать выскальзывающую его жизнь – в ближайшее мгновение она не выскользнет.
Надя молча склонилась и поцеловала меня в лоб, так поздравляя.
– Исходя из этих новостей, каковы мои планы? – спросил я.
– Надо подлечить вас, – ответила Людмила Владимировна. – Подержим недельки три. Как всех.
– Это всего лучше, как всех. Но вставать я могу?
– А береженого бог бережет?
– Обожаю поговорки. «Не пей воду из колодца – пригодится плюнуть». Надю мы, пожалуй, отпустим к страждущим?
– Да, Надя, иди домой и выспись, – сказала Людмила Владимировна и вышла из палаты.
– Да, Надя, иди. Вечерком подошлешь ко мне Павлика. Может прийти Андрей.
– Вчера приходил. Я запретила навещать тебя. Ты спал. Было не до него.
– Но сейчас мне как раз до него.
– Он написал хорошую повесть?
– Нет, плохую.
– Ты скажешь правду?
– Это уж обязательно.
– Я вечером принесу еду.
– Ничего не надо.
– Я разберусь.
Странное было у меня чувство, когда я остался один. Умом я понимал, что должен радоваться: в сущности, здоров, угрозы дальнейшие – это только угрозы, и меня должна бы захлестнуть оглушительная радость, но был лишь слабый ее оттиск, скорее, приятное сознание, что можно помаленьку вставать и не чувствовать себя беспомощной колобашкой.
То есть я был именно тускл.
Потому что до этого мгновения все силы были направлены на то, чтоб не улететь напрочь, теперь же передо мной была не вообще жизнь, но конкретная, знакомая, со всеми ее подробностями и поворотами обстоятельств.
И потому я вправе был спросить себя – а что дальше-то? Как тащиться далее, если жить мне стало скучно? Да, везунчик, и еще какой, и скажи любому инфарктнику, что у него нет инфаркта, так он от радости в пляс пустится, а этот (я про себя) тускло пережевывает скудные соображения, капризничая при этом – принять ему или не принять неожиданный подарок судьбы. Ему милостиво сказали – живи покуда, так он еще сомневается, так ли хорошо будет ему жить. Нет-нет, не сомневайся, жить хорошо, чего там, жить замечательно.
Но снова это были лишь доводы тусклого ума.
Держась за тумбочку, я поднялся и подошел к окну.
А за окном сверкал зимний день. Внезапно ударил мороз, на земле, на деревьях, на крышах домов лежал глубокий снег. Голубое небо было подпалено солнцем, тугим, в малиновой разлитой короне. Снег разрезали красные полосы, и ровно струился в небо красный дым.
И, представить себе, я еще сомневался, хорошо ли жить на свете, не слишком ли тускло жить? Да, хорошо, хорошо, замечательно. Ну, как птичка. Особенно если ты беззаботен, как птичка – хорошая погода, хороший корм, вот ты и чирикаешь. Да, жизнь прекрасна, если у тебя ум птичий.
Да, странно человек устроен: несколько часов назад готов был отдать что угодно, только бы выйти отсюда, но сейчас почти здоров – и прочь прежние клятвы!
Вдруг пошло оживление – подготовка к обеду, все, кто мог ходить, воодушевились, стали доставать сетки и кулечки, потянулись к холодильнику да и пошли на обед.
Принесли еду и мне – кислые щи, котлету с гречкой и горячий компот. И я все съел. Не могу сказать, что с силой протолкнул в себя пищу. Съел да и все тут.
Тогда мне пришла в голову шальная мысль: я не истощен, болезнь моя не связана с пищей, так дай я поставлю на себе эксперимент – средних лет мужчина, временно бездельничает, так хватит ему казенной пищи или нет? Обоснованы ли повсеместные жалобы на скудость больничного питания? Такой экспериментатор выискался.
После обеда меня пришли навестить старший фельдшер Зоя Федоровна и Сергей Андреевич. Уже знали, что у меня инфаркта нет, потому обошлось без скорбных нот. Сергей Андреевич принес свежие газеты, не забыв указать мне, что именно следует почитать.
Потом пришел Павлик. И как же он был испуган. Что понятно – всегда здоровый папаша лежит беспомощный, в казенной одежде и небритый.
Совсем недавно он меня спросил:
– Папа, а кто лучше врач – ты или Пирогов?
Однажды по телику показывали боксера Стивенсона, так Павлик спросил:
– Папа, а ты этому Стивенсону отколешь?
И сейчас все-таки что-то осталось от его детских преувеличений, потому понятно потрясение мальчика. Кумир, вызывающий жалость, – это уже бывший кумир.
Коротко расспросив Павлика о его школьных делах, велел ему бежать домой.
И принялся ждать прихода Андрея. Да, волновался, это несомненно.
И в пять часов Андрей пришел.
И с испуганным видом переминался он у порога, искал глазами, где ж это умирающий учитель, я помахал рукой и улыбнулся, и на лице Андрея вспыхнула улыбка облегчения – учитель улыбается и ручками двигает, значит, не так плох, как говорили.
Сиротски присел на краешек кровати.
– Не бойся, Андрюша, у меня нет инфаркта. И мы сейчас поговорим о деле. Попробуем выйти в коридор. Здесь не разговоришься.
– А вам можно?
– Мне все можно.
Я взял с тумбочки чистую и глаженую полосатую пижаму.
– Выведешь меня. Больная старость опирается на трепещущую юность, – приговаривал я, надевая больничную форменку, – смычка прошлого с будущим, порока с добродетелью, седины в бороду с бесом в ребро, – все приговаривал я, и Андрей улыбался, понимал, что я готов к разговору.
Мы прошли в столовую. Нет, все-таки столовая – это слишком громко сказано. Мы прошли именно в то место, где принимают пищу.
Это обычный коридор отделения, но между уборной и телевизором есть некоторое расширение, что-то вроде зоба или мешочка, и вот в этом зобе или мешочке стоят столы, за которыми больные и кормятся. Вечерами здесь же смотрят телик, играют в домино, принимают гостей, словом, здесь-то и протекает светская жизнь отделения.
Мы сели за стол. Посетителей покуда не было, и нам никто не мешал.
– Итак, к делу, – призвал я. – Только скажи мне, Андрюша, ты рукопись уже снес?
– Да.
– А почему такая спешка?
– Мне редактор посоветовала. Завотделом прозы через неделю уходит в отпуск. А потом его не будет еще два месяца – уже отпуск творческий. А когда вернется, накопится много работы, будет не до меня. И редактор советовала принести рукопись сейчас, она попросит прочесть ее до отпуска. Полгода экономии.








