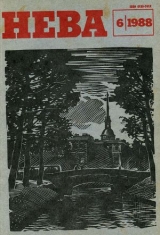
Текст книги "Ноль три"
Автор книги: Дмитрий Притула
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Что было приятно? Андрей не был смущен, не юлил. Да, это несомненная правда – он сделал так, как советовала редактор. Андрюше и в голову не приходило, что я могу обидеться – чтоб сэкономить время, можно пренебречь мнением учителя. Но я мгновенно погасил обиду – иные времена, иные песни. Иные песни, иное молодое поколение. Иное молодое поколение, иное отношение к ценностям. И в шкале этих ценностей успех в работе, возможно, стоит выше дружбы. И в этом случае человека упрекать глупо.
– Значит, к делу. Мне повесть не понравилась.
– Вам было скучно? – как-то деловито спросил Андрей.
Может, я и неправ, но эту деловитость я понял так: я – читатель и имею право на свое мнение, но это будет мнение одного человека. Андрей же рассчитывает на многих.
– Да, мне было скучно. Я не понимаю, Андрюша, зачем ты это сделал?
– А что я такое сделал, Всеволод Сергеевич? – удивился Андрей.
– Зачем ты выпрямил героя? Зачем ты его сделал рыцарем без страха и упрека? Чтоб на свете одним прямолинейным человеком стало больше?
– «Она всего нужнее людям, но сложное понятней им», – процитировал Андрей. «Она», мы понимаем, простота. – Нужна была простота.
– Но зачем же при этом выкидывать лучшие куски? Я не стал бы упрекать тебя, если б не видел, что ты можешь писать нешаблонно. Но когда положительный знак переводится в отрицательный, согласись, это удивляет.
– А я поставил перед собой цель не навязывать читателю свое мнение. В последнем варианте я сух, но это умышленная сухость. Я поставляю только факты, а уж дело читателя разбираться в них.
– Но ведь искушенному читателю ты не сообщаешь о декабризме ничего нового, а неискушенного оттолкнешь сухостью. Что ты сделал с характером героя? Каховский был человек неуправляемый, а у тебя он волевой, целеустремленный логик. А почему, собственно?
Моя суровость была для Андрея непривычна, но он не растерялся, не обиделся, нет, он убеждал меня, неожиданно прибегнув к пафосу:
– А потому, Всеволод Сергеевич, что я думал об исторической справедливости. Разве это правильно – рассматривать человека, погибшего за то, чтоб помочь своему народу сбросить оковы рабства, чуть ли не убийцей-истериком? Это несправедливо. Погиб за правое дело. Его порывы были чисты. Ближайшие люди, с кем он шел на смерть, отвернулись от него. И я хотел восстановить историческую справедливость. Даже и слова вспоминал: «Конечно, вы свежебриты и вкус вам не изменял. Но были ли вы убиты за родину наповал?»
– Твоя точка зрения мне ясна, Андрюша. Я ее не разделяю, потому что по-прежнему считаю – дороже всего правда.
– Но одно другому не противоречит. Историческая справедливость – это правда, проверенная временем.
– Значит, что же нас рассудит?
– Я не знаю.
– Вот и я не знаю. Не редакция же?
– А почему не редакция?
– Хорошо. Хотя и редакция для меня не судья.
Мог ли я спрашивать о том, были ли у него лукавые намерения – имею в виду непременное печатание – нет, не мог спросить. А не спросив, я не мог обвинять его в лукавстве, в торговом счете. Он взял высокий уровень – историческая справедливость, сбросить оковы рабства, за родину наповал. Снизить этот уровень до рассуждения о негоциантском расчете было бы равно тому, что человеку, рассуждающему о неразгаданных тайнах бытия, сходу рассказать анекдот о неверной жене, о Вано или каком-нибудь Петьке.
Тем более, что ничего я уже не мог изменить – рукопись сдана. И мне, как, впрочем, и Андрею, оставалось одно – ждать.
Вечером я объявил Наде о своем эксперименте и просил, чтоб она не носила еду. Уверенная, что я долго не выдержу, она весело согласилась.
22
И потянулся мой больничный быт, столь однообразный, что потом эти три недели представлялись мне одним днем, который через равные промежутки перебивается сном.
Ну как же, крупный экспериментатор, я говорил себе, что надо знать все. Я вожу больных в это отделение, как они себя здесь чувствуют?
И должен сказать честно и прямо – неплохо чувствуют. Что, признаться надо, обрадовало меня.
Да, напряженка с сестрами и санитарками, да, быт не вполне ухоженный, и все-таки больные любят это отделение.
Все дело не в быте и не в кормежке, а в двух немолодых женщинах, которые ведут всех больных. Когда я пришел на «Скорую», они уже были здесь. Вся жизнь, в сущности, в этих вот стенах. И говоря о них, я не могу не впасть в пафос, и я хочу признаться в любви к ним. Из двухсот врачей нашей больницы я насчитал семь или восемь человек, которых уважают безоговорочно и у которых хотел бы лечиться в случае болезни – я бы им верил безоглядно. Ими держится не только отделение, но и вся больница.
Они тащат это отделение десятки лет, иной раз и всплакнут на судьбу, что вот умаялись и что домашних своих почти и не видят, но предложи им работу поспокойнее, непременно откажутся. Ими как раз и держится медицина. Было бы удивительно, если б горожане не платили им любовью.
Да, простите великодушно мой пафос – возраст, замкнутость клана, иной раз тянет на слезу.
Значит, три недели слились для меня как бы в один день.
Если сон перебивает день, то разнообразит долгий день кормежка. Да, кормежки и есть те опорные столбы, на которых день покоится.
Ах, этот легкий шепоток, переходящий во взрыв радости – мальчики пошли за едой. Всегда есть два-три сравнительно здоровых паренька, которые помогают делать тяжелую работу – принести кислородный баллон или ведра с едой, снести в морг отмаявшегося бедолажку.
И вот старенькая тетя Маня стряхивает со столов крошки, оставшиеся от завтрака, и она же объявляет полную мобилизацию всех наличных ресурсов.
Еду разносят и раздают все – постовые и процедурные сестры, и санитарки, и больные, которые почище.
Потому что основа основ – напор. Только ты успел заглотнуть первое, как тебе сходу подают второе, к примеру, котлету, шмякнутую в перловку. Уж перловку-то почти никто не станет есть, так, если только из любопытства колупнуть ее разок-другой, как бы в поисках клада. Котлету же съедают все. Кроме, разумеется, тех, кому из дома принесли курицу или мясо.
А потом очередь горячего компота. Уж его все глотают неторопливо, чтоб потешить свое гурманство.
Однажды ко мне подошла начмед.
– Ну, как вам наша пища? – поинтересовалась она.
– Все в порядке. Соблюдаю чистоту эксперимента – ем только больничное. И, как видите, жив и вес не теряю.
Рассуждения начмеда о казенной пище
– Я понимаю, что вы не в восторге. Но я призову посмотреть вас на дело иначе. Что ест большинство больных дома? У нас положено на нос сто граммов мяса в день – это, разумеется, общего веса. Ну, тридцать процентов – кости, отходы, затем усушка, утруска, налипание. Но худо-бедно пятьдесят-то граммов в день больной получает. Извольте выйти к столу и покушайте. Вы дома часто рыбу едите? А у нас на ужин три раза в неделю рыба. Пусть треска и хек, но ведь три раза вынь да положь. Нет, Всеволод Сергеевич, я всегда внимательно выслушиваю жалобы на наше питание, но и думаю при этом – а что вы дома едите, голубчики? И если к тому же муж пьянчужка, то у тебя каждый вечер пустая картошка с чаем.
И это, скажу прямо, была убедительная речь. То-то я иной раз не понимал, а чего это некоторые больные неохотно выписываются. Вроде и полегчало, а домой не спешат. А то и не спешат, что не надо здесь шустрить по магазинам, и не надо видеть нетрезвую рожу мужа, или ловить на себе укоризненные взгляды кормильцев – вон ты стара, а лопатишь за столом, что молодуха.
Да, все в сравнении. И после разговора с начмедом я так и начал понимать, что у нас вполне сносно. Тебе не надо усилий прилагать, тебе следует только клювик раскрыть. Даже не придется расходовать на пережевывание – все уже пережевано.
И когда я заглатывал гречневую кашу, такую клейкую, что с трудом разжимаешь челюсти, да под такой слизнеобразной подливкой, что попади она на палец или пижаму, ее никакими силами не стянешь; и когда я глотал немыслимого цвета суп-пюре гороховый или наслаждался хвостиком рыбы, плоть моя не трепетала от удивления, что это можно удержать в себе, но терпеливо смирялась – да, все в сравнении и только в сравнении.
В те дни я спасался привычно – чтением. Иначе зачем человеку библиотека, если она не ближайший друг в дни тягот и болезней? А Монтень на что? А Диккенс? А большой однотомник Ремарка? И еще от переизбытка времени я перелистывал все, что случилось со мной за последнее время.
Нет, сожаления меня не томили – не душа, а какая-то скучная пустыня.
Но стоило мне вспомнить, как от меня отказалась Наташа, или как Андрей при первом же испытании сделал не тот выбор, к которому я готовил его долгие годы, и меня начинал томить стыд. Не раскаяние, не тоска, а именно стыд. Словно бы я виноват в том, что меня предали. Да, виноват, зачем надеялся на что-то иное? Все просто: никогда не надейся и не будешь обманут в ожиданиях. Циник – вот кто всегда прав, вот неошибающийся пророк.
И вся штука состояла в том, что я не знал, как мне жить дальше. Не без уколов мазохизма думал иной раз – а ведь испарись я тогда, всем стало бы легче. У Алферова исчез бы последний противник, у Андрея не стало бы химеры в виде совести пожилого учителя, Наташа без каких-либо укоров совести вышла бы замуж за военнослужащего с жилплощадью. Одно утешение – я хоть на краткое время нужен Павлику.
А кроме него – никому, и с этим давно пора смириться.
А что дальше-то? А дальше ничего. Через несколько дней выпишут из больницы, потом пару недель похожу в поликлинику да и пора приниматься за дело. И ведь ничему не научился. Снова буду переть на Алферова. Ясно понимал, что сдохну, а не уступлю ему. Вот это я сумел вбить в себя прочно.
23
Но ведь в жизни так устроено, что рассчитываешь на одно, а выходит совсем другое. Какие все-таки вензеля выписывает жизнь, какие неожиданные повороты она делает.
За три дня до выписки вечером ко мне пришел Андрей. И был он, прямо сказать, раздавлен. Таким я его никогда не видел – погасший взор, опущенные плечи, ну, именно опрокинутый вид.
– Что случилось, Андрюша? Ты здоров?
– Здоров, – ответил он. А губы дрожат. – Повесть прочли, – потерянно сказал он.
– Ну? – нетерпеливо спросил я. Сам не ожидал такого нетерпения, думал, тускл теперь навсегда.
– Вернули.
– Погоди. Давай выйдем в коридор.
По телику шла программа «Время», и люди так жадно слушали прогноз погоды, словно мы зависим от внешнего тепла, а не от тепла больничных батарей.
Ох, это вечернее хождение больных по коридорам, томительное позевывание, с ахами, с нежным подвыванием.
Мы приткнулись в закуток возле туалета.
– Так расскажи подробнее.
– А нет никаких подробностей, – отчаянно сказал Андрюша и попытался улыбнуться, но то была лишь гримаска боли. – В том-то и беда, что никаких подробностей нет.
– Так чем же им герой неугоден? Вроде прям, что телеграфный столб, – сказал я и сразу пожалел: сейчас вовсе не время насмешничать.
– Может, я, и верно, просчитался, и он слишком телеграфный столб.
– Так что в редакции сказали?
– Они как раз хвалили. Это нужно им, и юбилей приближается. Даже и комплименты говорили, чтоб подсластить пилюлю. Нельзя же молодого автора сразу дубинкой по голове.
– Так где ж сама пилюля?
Нам помешал шум, возникший у телика. Мужчины весь день заговорщицки совещались на лестнице и в курилке, что вот сегодня какой-то важный футбольный матч, и мы не дадим бабам в десятый раз смотреть очередную серию «Вечного зова».
Но все эти заговоры были пустым чихом для двух-трех боевых женщин, которые стали перед телевизором на манер «Граждан Кале» Родена, и они стояли насмерть.
В возникшей перепалке женщины, конечно же, взяли верх, что и понятно: разве дома муж позволил бы жене сбить ему футбол, и теперь женщины отыгрывались за многолетние домашние поражения, и их единение было сильнее смерти.
– А вот и пилюля. Они долго втолковывали мне, что все у меня хорошо – и герой, и события, и выводы – но это для отдела публицистики.
– Так отдай в публицистику.
– Им нужны очерки, а я уже печатал у них очерк о Каховском. У нас, сказали, отдел художественной прозы, с ударением на слове художественной. Получается, что моя повесть ма-ло-худо-жественная.
– Подумаешь, что они там только высокие художества печатают, – сказал я, но это был подыгрыш Андрею. Я никогда, разумеется, не считал, что если кто-то свое дело делает плохо, то и ты свое можешь делать неважно. Ты – это ты. У тебя своя совесть и свой счет. – Ну, и что же теперь?
– А теперь, Всеволод Сергеевич, ничего, – с глубоким вздохом сказал Андрей.
– Ну-ну. Ты готов прямо сказать, что времени больше не будет. Да что ты, Андрюша.
И как же я утешал его, для меня он был сейчас тем же самым мальчиком, который пытается поднять с земли пьяного отца. Правда, тогда у него были глаза взрослого и все понимающего человека, а сейчас – потерянные глаза маленького мальчика, который не знает, что ему делать.
– Да что случилось, Андрюша? Да, жалко, что не удался полугодовой труд. Но ты что – пятидесятилетний литератор, который написал книгу своей жизни, можно сказать, эпопею. Ведь это у тебя первая вещь. Давай признаем: она не получилась. Причин касаться не будем – у нас впереди много времени. Ведь тебе только двадцать один год. У тебя есть знания. У тебя в руках специальность. Ты можешь идти в школу или заняться наукой. И наконец, ты можешь писать. На мой взгляд, у тебя есть способности. И вспомни фразу из Чехова: это очень хорошо – плохо начать.
Я утешал его страстно, так что и сам удивлялся своему пылу.
И как могло быть иначе, если я любил этого паренька, любил всегда, даже и в те дни, когда он пренебрег моими советами, в те дни, возможно, и сильнее любил, но только пепел обиды столь обильно засыпал любовь, что ее как бы и видно не стало. Держись, мальчик, человек узнает себе цену именно в беде.
Конечно же, убедил: Андрюша как-то встрепенулся, и из глаз ушла безнадежность.
– Думай, мальчик, где просчет. Вот, мне кажется, первый урок: поучительнее правды нет ничего. А уж куда ты приложишь свои способности, чтоб довести эту правду до других людей – дело будущего. Сейчас тебе остается одно – думать и страдать. Все, мальчик, иди и страдай.
– «Страдать надо, молодой человек, страдать»?
– Вот именно, мальчик.
Думаю, он страдал в этот вечер. Но я-то страдал, несомненно. Правда, примешивалось и спасительное утешение; вот думал, я никому и ни для чего; но вот сейчас я нужен этому мальчугану, и, возможно, не раз еще понадоблюсь ему в дни отчаянья и сомнений.
Держись, мальчик, я с тобой!
О, если бы он мог слышать меня!
Днем накануне выписки навестить меня пришел главврач.
Мы прошли в физиотерапевтический кабинет, главврач попросил сестру постоять в коридоре и никого к нам не пускать.
Мы сели у стола, заставленного приборами, масками, металлическими прокладками.
Лицо у него было сероватое и усталое – видимо, обострилась язва.
– Я в курсе ваших дел. Поэтому так: на «Скорой» сейчас форменный бардак. Обвал жалоб, просто обвал, – морщины на лице его собрались ко рту, словно бы он втягивает слюну для плевка. – Вчера еще одна. Прокараулили инфаркт на дому. Утром человек поехал в город и рухнул на вокзале. А накануне дважды ездила «скорая помощь».
– И не сняли электрокардиограмму?
– Не сняли. Больной в городской реанимации, еле вытащили. Прислали бумагу. У меня раньше с вами особых забот не было, а теперь завалили жалобами. Как-то в исполком вызывали, а вчера в райком – пишут ведь люди.
– На меня есть жалобы?
– На вас нет.
– Так зачем вы все это говорите? Чем я вам могу помочь?
– Смерть смерти рознь. Одно – когда все сделали, но не смогли помочь, и другое – когда ничего не сделали или сделали все неправильно. Куда мы спишем пять-семь смертей, случившихся только по вине «Скорой»? Я говорю только о тех случаях, когда жалуются. Я не знаю о бесшумных смертях, когда баба с возу – родственникам легче. Навалом глупых смертей. И кто в этом виноват? – он сердито, даже зло посмотрел на меня.
– Интересно – кто же может быть виноват? – с вызовом, даже нагло спросил я.
Главврач погладил череп, как бы интересуясь, достаточно ли он гладок, и с удовлетворением кивнул.
– Два человека в этом виноваты…
– Вы и Алферов? – помог я ему.
– Нет, я и вы.
– Ах, как это интересно. Назначаете человека вы, поддерживаете его вы, не даете в обиду вы, а виноват, значит, я. Хотя я еще летом предупреждал вас, что будут платить ни в чем неповинные люди. Нет, я умываю руки.
– А что вы сделали, чтоб вас услышали? Летом пришли ко мне? С той поры вон сколько воды утекло. Да, с Алферовым я промахнулся. Вины с себя не снимаю. Но вы-то? Вам надо было вопить, а вы помалкивали. Он умывает руки! Удобная позиция. Чистота рук – залог здоровья.
Это меня разозлило.
– Я думаю, Алексей Федорович, что Алферова надо выгнать. Но я не думаю, что нам при этом следует переходить на лозунги. Вот вы намекаете, что человек должен за все отвечать. А я думаю, человек должен отвечать за то, за что он может отвечать. К примеру, за свою работу. Но для этого надо быть профессионалом. А чтоб отвечать за все, надо быть не профессионалом, а демагогом. Назначив Алферова, вы поступили непрофессионально. Желание спокойной жизни – желание именно демагога, а не профессионала. Так что я здесь ни при чем.
– Вы уж так круто не берите – я старше вас, – он хотел накалиться, но сдержал себя, видно, я ему для чего-то нужен. – Не испытывайте мое терпение – оно еще понадобится. До пенсии два года. Это, по правде говоря, меня и спасло, – уж как-то очень доверительно жаловался он. – Алферову и вашему педиатру влепили по строгачу за девочку. На областной лечебно-контрольной комиссии нас просто выпотрошили. Неизвестно, будет ли судиться мать девочки. А с Алферовым расстаемся.
– Он не уйдет.
– Считайте, уже ушел. Заявление на столе. Будет работать в городе линейным врачом.
– Стоило мне заболеть, и сразу волшебные перемены.
– Вы довольны?
– Да.
– Что ж не радуетесь?
– А я должен визжать от счастья?
– Ладно. За двадцать лет совместной работы мы с вами говорили только о деле. Не будем нарушать традицию. Алферову я предложил уйти, и он ушел. Людмила Владимировна считает, что ваше здоровье таково, что в ближайшие полгода дежурить вам неполезно. Режим труда, сон, прочее. Сейчас начало декабря. У вас две недели амбулаторного лечения. Затем примете мой новогодний подарок – заведование «Скорой помощью». Это все! – опершись на стол кулаками, он резко поднялся – разговору конец.
– Могли бы спросить согласие, – обиделся я. – Вдруг я откажусь.
– Вы не откажетесь, – строго, как учитель нерадивому ученику, внушил мне главврач. – Много дров наломали. А поучать мы все горазды. Мол, врач и учитель – это врач и учитель, у них нет карьеры. Это очень красиво. И главное – удобно. У меня готового человека нет. Вот вы и исправляйте. Кончатся жалобы, наладите работу – другое дело. Найдете себе замену, тогда и будете вспоминать про удобные расклады.
– Там хорош юный доктор – Сергей Андреевич.
– Он мальчик. Пару лет покатается, тогда будет видно. А пока вы. Все!
– А чего такая спешка?
– Меня через полчаса исполком слушает. Меры приняты, отвечу, назначен Лобанов. Его знают и любят – это всех устроит.
Он так и ушел, не спросив моего согласия.
Конечно, дров наломано много, но когда остался один, я старался понять, почему все-таки согласился стать заведующим, и не мог дать ответ, который удовлетворил бы меня самого.
Нет, для окружающих мотив был готов: здоровье не позволяет дежурить сутками, но это был мотив лишь для посторонних. Я-то знал, что мне пошли бы навстречу и ставили бы дневные и вечерние часы: как же, как же, мы опытных работников ценим, тем более на законных основаниях.
И я не потому согласился, что считал себя способным на лучшее заведование, чем Алферов (это само собой). Я не сомневался, что буду хорошим заведующим. По правде говоря, я не сомневался, что был бы хорошим главврачом и даже завоблздравом. И это не мания величия, но ясное понимание, что при нынешнем состоянии дел желание блага, профессионализм и отсутствие корыстного интереса – достаточные качества для руководителя.
Не мог же я, в самом деле, не понимать, что дело не во мне, не в Алферове и даже не в главном враче. И я превосходно помнил, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, и все-таки согласился. В чем же дело?
И еще в тот день я постоянно думал об Алферове. Вот что удивительно – мне его было жаль. Да, было удовлетворение, что моя взяла, но так оно и должно быть: я профессионал, а не только демагог.
А вот радости или злорадства не было. Даже и удивлялся этому: ведь человек унижал меня, чуть не ногами пытался ходить по мне, но верх брала жалость к нему.
Потому что я представлял, каково ему сейчас. Все считали его человеком средненьким, даже маленьким, и он пытался доказать, что вовсе он не маленький, и пытался выбиться из общего, ненавистного ему ряда, и этот единственный шанс не использовал.
Крах надежд. Теперь всю жизнь полагать будет себя изгоем, неудачником, жертвой моих козней. Да хоть бы кто другой сел на его место, а то ведь я, ненавистный. Да, я не хотел быть в нынешней его шкуре.
Вскоре должен был прийти Павлик, и я пошел встретить его.
Снова потеплело, снег растаял, под ногами влажно блестел асфальт двора, чернели мокрые ветки деревьев.
Я все свои силы направил на то, на что и направлял последние две недели – на уговоры самого себя. Таким образом пытался вернуть испарившийся мой оптимизм. Ничего, уговаривал себя натужно, все будет хорошо. Инфаркт еще когда объявится, мне бы только вывести себя из состояния унылости, вернуть ту прыть, что была еще полгода назад. Сейчас я себе напоминал мяч, из которого выпустили воздух: оболочка есть, ударить по нему, конечно, можно, но он не зазвенит от удара и, понятное дело, не полетит. Именно состояние тупой унылости.
Да, меня оставила подъемная сила или, как сказали бы в цирке, пропал кураж.
В таком вот привычном состоянии я и бродил по двору, как вдруг заметил, что от лаза в заборе спешит ко мне женщина в клетчатом пальто, и легким, тусклым обрывом сердца я узнал ее и заспешил к ней.
– Простите меня, Всеволод Сергеевич, я виновата, я стерва, но вы простите меня, – задыхаясь от волнения, говорила Наташа.
– Ну, что ты, что ты, не надо, прошу, – бормотал я растерянно.
– Вы только простите меня. Я уже две недели в это время пересекаю этот двор в надежде увидеть вас. Вот – повезло.
Господи, а губы дрожат, и вся она на нервном взводе, и малое мое касание, и она зарыдает.
– Да за что же мне тебя прощать? Все было хорошо. Все нормально, – так это тускло говорил я, словно бы старичок, внушающий пережившей первые разочарования любви десятикласснице, что все пройдет и все будет хорошо.
– Тебе, небось, сказали, что у меня инфаркт, – вдруг догадался я.
– Да, – кивнула она и коротко всхлипнула.
– Но у меня нет инфаркта.
– А весь город говорит – инфаркт.
– Это указывает лишь на то, что в городе ко мне неплохо относятся. А если бы прошел слух, что я умер, это означало бы, что меня по-настоящему любят.
– Если бы с вами что случилось (следовало понимать – если бы я умер), я бы не перенесла, – сухо, как о деле окончательно решенном, сказала Наташа.
– Это, пожалуй, ты высоко взяла. Казалось, что нам друг без друга никак. Но, заметь, живем, и по всему судя жить станем дальше.
Я сумел посмотреть на нас как бы со стороны, к примеру, из окон второго этажа, из своей палаты: стоит дядька в темном пальто, из-под пальто видны полосатые больничные штанцы, дядька тускл и хладнокровен, и перед ним нервничает, борется с рыданиями молодая красивая женщина. Да, она красива, посторонним умом понимал я – нервное подвижное лицо, и эта смутная чуть проступающая улыбка, готовая мгновенно прерваться рыданиями.
А что же меня-то заботило в тот момент? Стыдно признаться, но в тот момент меня заботило, что вот сейчас придет Павлик, а его отец стоит в центре двора с какой-то чужой женщиной.
– Отойдем немного, – предложил я.
Мы прошли по аллее к серым домикам подсобных помещений. Там остановились.
– Со мной все ясно. Ты-то как? Выходишь замуж? – спросил я.
Она вдруг подняла ко мне лицо – глаза были полны слез.
– Вы ненавидите меня, Всеволод Сергеевич? – отчаянно спросила Наташа.
– Что ты, что ты, девочка, – растерялся я. И что-то уже стронулось в моей душе, поплыло, начало заливать легким теплом волнения.
– Или вы только презираете меня? – а глаза-то потерянные, а на лице-то болезненная – перед взрывом – улыбка, ах ты, боже мой, да за что же, почему снова хотят рвать мою душу, ну, довольно, довольно.
– За что ж мне презирать тебя, – а уж и сам не смог сдержать волнения, – за что презирать? За то, что хочешь жить лучше? Кто ж тебя судит? Страшно одиночество, нужно растить девочку, я не опора и не защита, а нужна именно опора и защита. Тут все нормально.
– А выйти замуж за человека, которого не любишь, тоже нормально?
– Да, нормально. Потому что привычно.
– Это когда никого не любишь. Но ведь я же вас тогда любила. И тогда, в последнее свидание, любила отчаянно.
– Это для меня слишком сложно, – и я показал на полосатые свои штанцы. Порушился тусклый мой покой, и появилось раздражение – вот если б любила, я не стоял бы в больничном дворе да в казенной одежде, – нет, видно, женская логика выше моего понимания.
– Что ж здесь непонятного? – удивилась она – ну, я прямо каким-то чурбаном стал, не понимаю очевидные вещи. – Да знаете ли вы, что такое отчаянье?
– Да, мне известно отчаяние, – сухо сказал я. – Это когда неохота жить, и потому рвется сердце.
– Так почему же вы не понимаете меня? Я была оглушена отчаяньем. А жилье – это так, последняя капля. Я не сдержала себя, и это был бунт против вас.
– А что против меня бунтовать? Я – безобидное существо.
– Нет, не заблуждайтесь, вы – не безобидное существо. Вы любите свой покой, устоявшийся быт, и вы ничего не хотите менять в своей жизни, и это вовсе не безобидно.
– Конечно, это страшно для человечества, – рассердился я. – Только отчего-то сердце чуть было не расползлось именно у меня. Хотя я, разумеется, и не знаю, что такое отчаянье.
– Да вы не знаете, что такое любить и страдать оттого, что никогда не быть вместе. Любить человека – и видеться украдкой, и с кем-то его делить. Невозможно. Я хотела рожать вам детей, помогать, а если понадобится, служить вам, но это было не нужно, – а глаза сухие, а смута прошла, лицо решительное, говорит то, о чем много думала – это несомненно.
– Ах, милая, да я не стою такой страсти. Считал, что ты предала меня. Но отчаянье от любви – если это отчаянье от любви – дело другое. И спасибо тебе. Полгода любви – разве это не везение? Этого могло не быть, но случилось чудо, и оно останется на всю жизнь.
– Да вы же меня совсем не любите, – удивленно и горько сказала она.
– Да, я не могу сказать, что люблю. Но не могу сказать, что не люблю. А только в тот момент, когда ты сказала, что нам надо расстаться, все во мне помертвело. Если спросить сейчас, какой я сейчас, я отвечу – никакой. Меня оставила подъемная сила, и мне стало скучно. Только тем и утешаюсь, что это временное состояние. Вот и вся правда, девочка. Утешаюсь надеждой, что еще проснусь. И тогда я затоскую по тебе.
– И это будет? – с надеждой спросила Наташа.
– А что мне остается? Только надеяться.
И тут я заметил, что к отделению торопится Павлик, и сказал:
– Сын. Я пойду.
– Ты не меняешься, – горько сказала Наташа.
Мы сняли пальто, я сел за стол, а Павлик стоял перед мной, почему-то держа правую руку за спиной.
Я вспомнил, как просидел с ним десять дней – в шесть лет у него была ангина, и мы спросили, с кем бы он хотел сидеть, и Павлик выбрал меня. Как же тогда сердилась Лариса Павловна – эпидемия гриппа, а он, здоровяк, уселся с ребенком. Но уход с работы Нади был тяжелее моего ухода, и Лариса Павловна смирилась.
И то были десять дней непрерывного счастья. Тогда мы были повязаны так, что я физически ощущал малейшие повороты души Павлика, и тогда я, несомненно, был всесилен.
Мы весь день лежали рядышком, да так, чтоб касаться головами, точнее, ушами – именно на этом настаивал Павлик – и я все дни напролет читал ему сказки Афанасьева.
Да, тогда мое всемогущество было для Павлика, конечно же, сильнее окружающей жизни, ее законов, ее обстоятельств.
Лишь год назад у него начало проклевываться самостоятельное зрение, и он с удивлением начал замечать, что отец не всесилен, и знания его не так уж необъятны: в английском он переплюнул меня в прошлом году, и я уже не помню многих имен из истории, чем очень и очень удивляю Павлика.
Но что ни говорите, сознание, что папаша не всесилен – это одно, а понимание, что он ничтожество и предатель – это совсем другое.
– Как английский?
– Нормально.
– Слова выучил? Римма Робертовна (англичанка) не сердилась?
– Все в порядке. Сказала, что через месяц возьмемся за Агату Кристи.
– Адаптированную?
– Вам обязательно надо обидеть человека, отец?
– Неплохо. А почему ты держишь руку за спиной? Что у тебя там?
Тогда Павлик победно выбросил руку вперед, и в руке он держал новую модель самолета.
– А вот что! – восторженно сказал он, полагая, что я разделяю его восторг.
– Новая?
– А как же? Сразу после школы и закончил. А после английского забежал за ней. Потому и задержался.
– А сколько там мест? – ткнул я в кабину.
– Так ведь два.
– То есть для тебя и для меня? – предложил я игру.
– Точно – ты впереди, я позади, – подхватил он.
– Нет уж, твой самолет, тебе за него и отвечать. Ты впереди, я позади. Ты – мой ведущий, и я надеюсь на тебя.
– Пусть так. Но летать будем вместе.
– Я не знаю данных этого самолета. Долго ли можно на нем летать?
– Да, очень долго.
– Хоть всю жизнь?
– Ну, это ты хватил.
– Но все равно долго?
– Конечно, папа, – серьезно ответил Павлик, и голос его задрожал, – на этом самолете можно летать очень долго.








