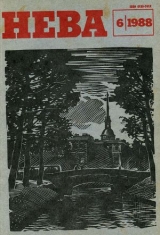
Текст книги "Ноль три"
Автор книги: Дмитрий Притула
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
2
Утром я проснулся легким и веселым – выспался. Проспал уход Павлика в школу и уход Нади на работу.
И я знал, что я сегодня сделаю, – схожу в библиотеку убедиться, верно ли эта женщина хоть отдаленно напоминает мою мать. Это вряд ли, уговаривал себя, но убедиться следует.
Потому что во мне проснулась притихшая было на время непереносимая любовь к матери. И я согласен был идти куда угодно, только чтоб мелькнуло хоть что-то, напоминающее мать.
Любовь эта была непереносимой оттого, что в последнее время к ней примешивался невозможный стыд.
Мне было восемь лет, с весны до осени мы бегали босиком, на ногах образовалась плотная кора цыпок, и ноги перед сном непременно следовало мыть. Я держал ноги в тазу, а мама добавляла горячую воду из чайника. Вдруг она коснулась чайником моей ноги, я вздрогнул и почему-то вскрикнул «гадина». О, как я извинялся, и конечно же, был прощен, но в последние годы мне стало казаться, что я вовсе не прощен, и от этого во мне такой стыд, что я несомненно отдал бы все на свете, чтоб еще раз увидеть мать и убедиться, что прощен.
Именно для этого, а не для того, что снова хочу стать счастливым. По правде говоря, после ее смерти я никогда не был до конца счастливым. Даже в самые яркие моменты оставалась горечь – жаль, что мама не дожила, то есть ее смерть разделила мою жизнь на две неравные части – вот счастливая жизнь при ней и вся оставшаяся жизнь уже после нее.
И понятно мое стремление хоть на мгновение вернуть прежнее счастье, хоть жалкий оттиск его. И что в этом случае страх перед кратким, хотя и непременным унижением.
Да, но джинн памяти вылетел, и я, уж конечно без всякой связи, вспомнил первый день после смерти мамы. Состояние какой-то тупости, даже равнодушие. Вот главное мое тогдашнее переживание: теперь все будут называть меня сиротой и жалеть, как же этого избежать. А ведь, напомню, не маленький был мальчик – одиннадцать лет.
Мы жили в длинном бараке, я стоял в центре двора и рубил саксаул. В то время саксаулом – жили мы в Азии – разжигали печки, чтоб потом, когда саксаул прогорит, засыпать печку углем.
Так я рубил саксаул, а мимо проходила баба Маня (она всегда на пасху дарила мне и сестре крашеные яички), и она спросила привычно: «Ну, как мама?»
А я, надо сказать, отработал такой сдержанный тон ответа. Понимал, что возможны два варианта: один жалостливый, с нотками слез, чтоб рвануть сердце слушателя, а другой сдержанный, скупой («Да, ничего, спасибо»), уж тут сердце слушателя не рванешь, но оно сожмется от восхищения сдержанностью этого славного мальчугана. Словом, элемент спекулятивности был в обоих вариантах, но я держался однажды выбранного второго варианта, от него не отступал все полтора года маминой болезни.
Значит, баба Маня спросила: «Ну, как мама?», а я сдержанно и сурово ответил: «Она умерла».
Так та села на крылечке и беззвучно заплакала, потом поманила меня, и когда я сел рядом, стала гладить меня и похлопывать по спине.
Стыдно даже признаться, о чем я тогда думал. А думал я о том, что это хорошо – выйдет передышка в рубке саксаула.
Дело в том, что широкую часть дерева надо было рубить топором, а уж тонкую часть долбать о большой камень, лежащий в центре двора. Даже и сейчас, вспомнив саксаул, я ощутил гладкость зеленого ствола и отдачу в руки при ударе, так что не спасали и рукавицы, и следовало как можно плотнее держать ствол, но все равно руки потом долго болели и дрожали.
Так я, значит, радовался тому, что отдохну от рубки, а баба Маня все плакала, лицо ее казалось мне вблизи вовсе чужим и сморщенным, словно бы она собиралась чихнуть, и я не знал, заплакать мне или засмеяться. Но я все-таки заплакал, и тогда баба Маня пошла в голос, и я, вспомнив еще и «Песню Сольвейг», по-настоящему впервые ощутил, что я не просто сирота, но сирота я как раз потому, что никогда более не увижу маму.
…Я шел в библиотеку, кляня себя за глупость, безволие, но не сомневался, что дойду, увижу эту женщину и буду унижен. Несмотря на доводы рассудка, шел вперед – всего сильнее во мне было именно желание убедиться в своей ошибке.
Женщина сидела в читальном зале, за столом. Посетителей, к счастью, не было.
Я сдержанно поздоровался, она приветливо ответила.
И я невозвратно понял, что ошибся, всего вернее – я понял, что не помню мать, в памяти лишь какой-то общий образ, плывущий, улыбающийся. И я понял, что сбило меня с толку, – у этой женщины прическа в стиле «ретро», конец тридцатых годов, коротко стриженные светлые волосы с лихой какой-то скобкой. У мамы, на единственной сохранившейся у меня фотографии точно такая же прическа.
– Вы хотите что-нибудь почитать? – очень любезно спросила женщина.
– Вообще-то я пришел узнать, как здоровье вашей соседки.
Тут она уже внимательно посмотрела на меня.
– Это вы приезжали к нам?
Я кивнул. А сердце колотилось в ожидании унижения, и я лихорадочно соображал, как мне выкрутиться из этого глупейшего положения. Повернуться и уйти? А чего ты, придурок, приходил сюда? Узнать о состоянии здоровья пациентки? Так зайди к ней домой и узнай. Правда, была еще домашняя заготовка – «Игра в бисер» Гессе.
– Ну а почитать вы что хотите? – повторила она, видимо, и в мыслях не допуская, что я пришел узнать о здоровье ее соседки: таких врачей нынче нет, уж это она понимала.
– Мне показалось, что вы похожи на мою мать, – неожиданно выпалил я. И ведь не хотел говорить – вырвалось против воли – дичь, невозможный бред.
Ну, сейчас она выдаст – а и справедливо, – если ты бредишь, то делай это хотя бы без свидетелей.
Она повела плечами – не без презрения, надо сказать. Ну, сейчас выдаст, замер я в ожидании.
И выдала, а как же:
– Я какой-то дешевый фильм видела, так там герой, знакомясь с женщинами, уверял, что они похожи на его мать. И они, такие простушки, верили и с ходу влюблялись в него.
– Я понимаю, человек создает мифы. И прежде всего мифы о себе самом, – сухо сказал я и почувствовал, какой у меня противный голос, скрипучий и въедливый. – Я, конечно же, не исключение. По одному из мифов как-то не допускал мысли, что произвожу впечатление провинциального пошляка.
– Простите меня! – о, как же вспыхнула она.
Видно, поняла, что если допустить – если только допустить, – что я был серьезен, то хорошо же она выглядела в глазах этого пожилого, в сущности, и не без странностей дядьки.
– Ну, прошу вас, простите меня, Всеволод Сергеевич.
И она улыбнулась, так прося прощения.
То была нежная улыбка: сперва чуть вздрагивающая, словно человек на что-то обижен, а затем после как бы легкого взмаха души, открытая, ясная, так что даже глаза женщины увлажнились.
И сердце мое поплыло от этой улыбки, и мгновенно вспыхнувшая ненависть так же мгновенно и погасла, и мне стало вдруг легко и спокойно (о, понимаю, ожидание унижения и реализация этого унижения и сразу ясная улыбка – такие контрасты не могут не вызвать перепады настроения), и мне было все равно о чем с ней говорить, только бы задержаться здесь хоть на малое время. Я спросил первое, что пришло в голову:
– Откуда вам известно мое имя?
– Соседка узнала у знакомой медсестры.
– Мужчина средних лет и малость потертый?
– Нет, был вежлив, называл по имени-отчеству и не торопился.
– То есть природный говорун?
– Однако сестра вас опознала. Соседка хотела написать благодарность.
– Но лучшие порывы пресекаются на корню?
– Оставила до следующего раза.
– Буду знать, к чему стремиться.
Какое-то удивительное и, конечно же, странное состояние легкости было, какое устанавливается лишь между близкими друзьями, – когда нет озабоченности взглядом на себя со стороны, когда отступает скованность, напротив того, есть уверенность, а что ни говори, все будет впопад – случайное, конечно же, совпадение настроений – вот я ожидал худшего, но все позади, она ненароком обидела малознакомого дядьку, но он не рассердился – вот от чего была легкость. Вроде того, что бы ты ни сказал собеседнику, все ему, как ни удивительно, будет интересно.
Болтали о всякой чепухе, не разговор, в сущности, а шелестенье слов, который потом никак не вспомнишь.
Тут повалил густыми хлопьями снег, и это был повод весело поахать:
– Возврат зимы!
– А думал, все – конец.
– Да, надоела зима.
– Не правда ли, содержательный мы ведем разговор?
– Да, Всеволод Сергеевич, очень глубокий разговор.
– Вы знаете мое имя, а я ваше нет.
– Это просто – Наталья Алексеевна.
– Я так и знал, – тут непонятный взрыв моего восторга. – Установившийся стереотип. Если светлые волосы, если нежная улыбка и если не злодейка…
– Не стерва, вы хотите сказать?
– Да, именно так и хочу сказать, – тут общий смех, даже и непонятно, почему смех, – так непременно должна быть Натальей.
Да, я нес всякую бодягу, но во мне вовремя проснулся некий сторож, подсказавший, что судьбу испытывать не стоит и усквозить надо сейчас, покуда вам легко и весело. Может прийти читатель, болтовня пресечется, возникнет неловкость, и в памяти этой женщины останется именно неловкость, а не легкий треп с маленько придурковатым доктором.
И я, продолжая что-то лепетать, резво вскочил.
– Я, надо сказать, нафарширован цитатами. Я, собственно, своих слов и не говорю. Вот Зощенко в этом случае сказал бы, что было смертельно удивительно, если б мы больше не увиделись.
Отвага? Да. Наглость? Тоже да. Ну чем не пожилой Сердечкин? Она смотрела на меня удивленно – конечно, ошарашена моей наглостью. Однако молчала, чем и поощрила фонтан моего красноречия. Да, а глаза у нее блестели. Причем это был не блеск, который бывает у человека с неисправной щитовидной железой – там это сухой блеск, у Натальи же Алексеевны глаза светились влажным мягким блеском, какой бывает, когда одному человеку не противно видеть другого человека.
– Я не рискнул бы приходить сюда вновь, – несло меня, – не может дважды повезти так, чтоб не было читателей. И я бы предложил съездить в другой, более замечательный город, – (о, забыл я в этот момент посмотреть на себя со стороны – молодая красивая женщина, лет пятнадцать между нами разницы, откуда-то взялась отвага встречу назначать – дичь какая-то, бред), – где довольно много культурных учреждений. Эрмитаж, к примеру… – (тут пауза, выжидание). – Или Русский? – (снова пауза, перед человеком не стоит вопрос да или нет, ему нужно выбрать между этими да).
– Тогда Эрмитаж.
– А время?
Она сказала, когда у нее выходной.
– Удача! – с восторгом (чуть, несомненно, преувеличенным) сказал я. – У нас совпадают выходные. Так на платформе? Десять пятьдесят?
– Да.
И я усквозил, а на улице сел на подоконник библиотеки и перевел дыхание: только сейчас почувствовал, как нервничал все это время. Постепенно напряжение прошло, и я почувствовал совершенно неожиданные и непонятные мне умиление и жалость.
3
Вообще-то на работу я хожу с охотой. Особенно когда полностью отойду от предыдущего дежурства. Но даже если не полностью восстановился, то и тогда нет омерзения – работа она и есть работа, люди ведь болеют. А вот раздражение имеет место, причем не на работу, а на людей, которые за нее отвечают.
Это они мне платят такую денежку, что я вынужден работать десять суток в месяц. У меня по кругу получается почти триста рублей – полторы ставки, плюс разные стажные, да ночные, да первая категория – двести восемьдесят – триста.
Вот если бы они мне платили такие деньги не за полторы ставки, а за одну, то есть не за десять дежурств, а за семь, это было бы вовсе справедливо. Но сейчас я восстановился, выспался, был бодр и потому благодушен. И на оплату своей работы смотрел как на данность, неизбежность вроде смены времен года.
Выпавший вчера снег растаял, под ногами чавкало, но и это не раздражало меня. И было во мне веселое любопытство – первое дежурство при новом начальнике, вот как поведет себя Алферов? Скажет тронную речь? Будет поучать?
А ничего подобного. Он стремительно вошел в комнату, бодрый, подобранный, сказал общее «здравствуйте» и с ходу начал пятиминутку.
– Коротко! Что случилось! Только главное! Что хотите передать сменщикам!
Все! Свободны, товарищи. Ровно пять минут.
И что удивительно – человек при галстуке. То есть торжественный. Мы-то все от галстуков давно отвыкли. Прежде Алферов казался мне вяленьким, а тут – сгусток энергии. Чем, конечно же, произвел на всех приятное впечатление.
И это впечатление усилила Лариса Павловна. Пока Таня укладывала нашу сумку, я стоял на крыльце. Тут и подошла Лариса Павловна.
– А вы знаете, Всеволод Сергеевич, Алферов вчера удивил меня, – сказала она. – Я ему сдавала дела, объясняла все эти графики, формы и сводки, а он задавал вопросы, и, вы не поверите, все умно и впопад. Слушайте, он толковый человек.
– Вот и хорошо, – обрадовался я. – Значит, работу не развалит.
– А вечером я корила себя, что, видно, ошибалась в нем. Я ведь его не очень-то ценила. Так считала, как был он когда-то фельдшером, так фельдшером и остался. Грамотным, конечно, но фельдшером. Да вы и сами знаете: когда все по схеме, он силен, когда нужно отступить от схемы – теряется.
– Но теперь-то другое дело.
– Да, теперь другое дело. И он приживется, пожалуй.
Она пошла в свой бывший кабинет, а я в нашу комнату – к делу поближе.
– Всем вызова! – громко сказала диспетчер Зина. – Бригада, педиатр, фельдшер.
Это она голос пробует – не пропал ли за два дня отдыха. Нет не пропал.
За двадцать пять лет я так и не научился вызовы называть вызовами. Это такой наш медицинский жаргон. И мое высокомерие несомненно. Если для некоторых слов у меня есть двойной счет – с медиками я говорю эпилепсия, инсульт, с немедиками – эпилепсия, инсульт, то с вызовами ничего не могу с собой поделать – не поворачивается язык. Впрочем, я не могу выговорить и всеобщее «поплохел» (в смысле, больному стало хуже). Это, конечно, высокомерие. Что есть во мне, то есть.
– И куда это нас? – спросил я.
– В Марусино.
– И что?
– Пэ-сэ.
Так она ответила на мое недоумение, чего это нас отсылают в район, оставляя город без бригады. «Пс» – так вызывают, так и в листке написано – плохо с сердцем, наша работа. Еще бывает написано «бж» – это болит живот, и «гб» – это, понимать надо, болит голова.
Я с удовольствием езжу утром в район – чем здесь суетиться, так уж лучше прокатиться в район. А когда вернусь – будет пауза в вызовах. Мне приходится больше по городу мотаться, а тут район – все-таки разнообразие.
– Таня, готовы?
– Готовы! – ответила мой фельдшер.
Я достал из портфеля загашник – коробочку с особенно дефицитными лекарствами – положил в сумку, взял эту сумку, а также электрокардиограф, мы сели в наш «УАЗ», да и поехали.
Я в кабине, Таня в салоне (высоко берем, красивое звучание – салон!). Шофер Петр Васильевич был по обыкновению молчалив, меня тоже не тянуло на разговоры, Таня сразу задремала у раздвинутого окошка салона (ее девочке полтора года, она перепутала день с ночью, и Таня постоянно не высыпается, так что любая возможность вздремнуть – подарок судьбы).
Из-за облаков прорезалось розовое солнце, справа был залив, и видно было, что темный лед скоро треснет, но покуда был он ровный и просматривался до дальних горизонтов, дорога узкая, машине не разогнаться, и приятно и легко в такт покачиваниям погрузиться в нехитрые свои соображения.
К тому же интуитивно (и безошибочно, как правило), я угадывал, что работа будет несложной и не надо взводить свою волю в состояние готовности, потому приятно расслабиться.
И мои соображения относились как раз к новому заведующему.
Я пытался сообразить, хорош Алферов или плох, и я не находил ответа.
Все дело в том, что я задумался о нем впервые, как-то прежде он протекал мимо моего внимания. Вот полчаса назад разговаривал, а сейчас не могу его себе представить внятно. Какой-то он средненький, не запоминающийся. Не худ, это точно, но и не толст, он в том равновесии, когда еще чуть, малый толчок, и человек начнет округляться. Да, рост чуть ниже среднего, сантиметров так сто шестьдесят пять – шестьдесят семь. Что в нем приметного? А вот нос и уши. Нос такой маленький, острый, хрящистый. И уши маленькие, как пельмени, и плотно прижаты, словно для полета.
Что я знаю про Алферова? А почти ничего. Что даже и странно: когда люди работают сутками, они все друг про друга знают. И не хочешь знать, а узнаешь. Вот та с мужем поссорилась, а у той дочка заболела, а у той внезапная раздражительность – да она и не скрывает, ничего особенного, привычные обстоятельства, к следующему дежурству буду в порядке.
Расспрашивать не принято, потому что тебе и так все расскажут.
Вот Алферов, он молчун. Худо ли это? Нет, хорошо, особенно если учесть, что все как раз говоруны. И я в том числе.
Мне известно, что Алферов закончил фельдшерское училище, отслужил в армии, потом учился и работал. Пять лет назад, после института, его направили к нам. Жена – фельдшер на каком-то здравпункте. Шестилетняя дочка. Их, жену и дочку, я видел всего раз – в прошлом году был Дедом Морозом и приезжал поздравить девочку.
Одно время Алферов работал в моей смене. И странное дело – мы ни разу с ним не поговорили. Так, фраза-другая, и только по делу. Может, он просто стеснялся ввязываться в разговор со мной, все-таки разница в возрасте. А я разговоры не затевал по простой причине – Алферов меня никогда не интересовал.
Как он ведет себя на дежурстве? Ну, молчит, это понятно. Первое, что делает, приходя на работу, – включает телик и смотрит все подряд – мультяшки, «Служу Советскому Союзу», кинофильмы – все! Уедет на вызов, телик кто-нибудь выключит, Алферов приедет – сразу включает.
На работе не читает вовсе. Нет, вру, несколько раз видел у него книжку про чекистов.
С работой справляется во всяком случае больные на него ни разу не жаловались. И не было грубых проколов – до разбирательства там лечебно-контрольной комиссией или прокурором.
Когда Алферов работал в моей смене, я иногда просматривал его записи. Нормальный, средней грамотности врач. Звезд, что называется, с неба не хватает. Заранее известно, что он сделает на вызове. В каждом случае у него привычная накатанная дорожка.
Ну, что еще? Покладистый. Ни разу я не слышал, чтоб Алферов жаловался на предыдущую смену – вот они, к примеру, не сделали электрокардиограмму, не привезли больного. Тут все понятно – ты такой же, как все, сегодня ты выручил, завтра выручат тебя – это и есть товарищи по работе.
Уж я-то в таком случае обязательно возникну. Чего это они нам свою работу спихивают. Это раз. И больному каково – мало ли что могло случиться за это время. Это два. Чем, конечно же, вызываю недовольство. Но мне и положено возникать – старший смены, кардиологическая бригада. У каждого свое расписание на жизненном пути, верно ведь?
Я не помню, чтоб Алферов спорил с диспетчером. И это удивительно: когда работаешь сутками, непременно будет казаться, что тебя гоняют больше других. Ты вот только приехал, а тебя снова выпроваживают, товарищи же твои, что характерно, все в тепле да у голубого экрана. Как же не возмутиться? Денежки-то вы одни получаете!
А Алферову сунули вызов, он молча взял сумку и поехал.
И безотказный. Когда некому работать, его просят выйти в другую смену, всегда выйдет. Тут, конечно, возможность подработать, но ведь у каждого человека семья, планы, прочее. Но выйдет.
Значит, что же получается? Безотказного, надежного, средней грамотности врача назначили заведующим. Все нормально. Он, может, будет хорошим заведующим. Может, именно в этом его призвание. Если б ему было назначено стать выездным врачом, уж за пять-то лет сумел бы подняться над средним уровнем. А если не сумел, значит, не судьба. И вот теперь жизнь предоставила ему возможность сделать поворот, да какой важный.
Это все так, но отчего-то я был недоволен назначением Алферова. Скорее, это были дурные предчувствия.
Их я объяснял тем, что у меня всегда был один начальник – Лариса Павловна, и как всякий поживший человек, от внезапных перемен я жду худшего.
И напрасно, утешал себя. Нечего забегать вперед. Нужно только принять Алферова, как и советовал главврач. Втянется, вживется. А уж с людьми-то ладить он умеет. Мешать он не будет, это точно. И это главное. О! Все к лучшему! Все будет хорошо!
Дом нашли сразу. Да нас и встречали.
У шестидесятилетней тучной женщины болела голова.
– А сердце что же?
– А сердце ничего. Колотится резвее, чем обычно. Видать, давление.
– А своего доктора почему не позвали?
– Так когда это она придет?
Ее было нетрудно понять – голова-то болит. Конечно, ей следовало вызвать своего врача. Это вызов не наш, и уж во всяком случае не кардиологической бригады.
Выговаривать я не стал. Больные теперь научились вызывать «скорую» с опережением. Если скажут – болит голова, – диспетчер ответит: вызывайте своего врача. А если больной скажет – плохо с сердцем, мы сразу едем. Все равно в следующий раз именно так и вызовет. Так что накаляться не имело смысла.
Сказал Тане, что надо делать. А простейшее – магнезию, дибазол, все такое. Без тонкостей.
– А врача своего все-таки вызовите. Может, надо курс проделать, верно?
– Да. Мы уже вызвали.
– Вот и хорошо. Выздоравливайте.
– Вызывали! – повел подбородком на рацию Петр Васильевич, когда я сел в машину.
Я вызвал диспетчера.
– Везете? – спросила Зина.
– Нет.
– Возьмите Разуваево. Дом три. Задыхается.
– Принято. Разуваево. Дом три.
Вот тут я уже собрался – чувствовал, что работа предстоит тяжелая. Даже как-то уж так сел, чтоб не расслабляться. Разуваево было в десяти километрах от Марусина – несколько старых домов. Вызовы туда редки.
Нас не встречали. Прошли в висевшую на одной петле калитку, потом по скрипучим доскам на сгнившее крыльцо. В сенцах было темно.
– Куда дальше? – громко спросил я.
– Сюда, милый, – раздался откуда-то издалека слабый голос.
Открыл обитую какой-то рванью дверь – в полутьме разглядел сидевшую на кровати старуху в белом, сползшем на глаза платке. Старуха задыхалась.
И тут не было сомнения – тяжелая сердечная астма. И я невольно засуетился – это у меня неизбежно.
Торопливые расспросы. Когда появилась боль? Или ее не было? Куда отдает? Бывали боли прежде? Нет ли теплой воды в доме? Нет, печь второй день не топлена.
А вода была необходима – чтоб опустить в таз ноги старушки. И только тут я догадался спросить, сколько ей лет и как ее звать. Анна Ивановна. И семьдесят два года. А по виду ей было восемьдесят. Ходовое у нас выражение в таких случаях – божий одуванчик. То есть когда человеку нет места в больнице. Худое бессильное тело. Мышц нет, ребра и дряблая кожа.
– Несите кислород, Таня. И гоните через спирт. И зажгите весь свет, какой есть.
Хотя под потолком вспыхнула лампочка в сорок свечей, все было тускло.
Слушал Анну Ивановну, измерял давление.
Покуда Таня давала кислород, наполнял лекарствами шприцы.
– Вены гляньте.
– Вроде ничего. Хрупкие, конечно.
– Поехали. Этот шприц медленно – дроперидол с фентанилом. Еще давление упадет. Седуксен в ягодицу. Остальное в вену.
– Может, и седуксен в вену?
– Еще заснет на игле. А нам кардиограмму делать.
Вены были неплохие – не рвались. Однако хоть Таня ввела все, что было сказано, Анна Ивановна задыхалась. И давление не падало.
– Нате-ка морфий в вену. Да стекляшку не потеряйте – голову открутят.
Мы сработались, она понимает с полуслова, и действуем мы именно в четыре руки.
– Ну, легче, Анна Ивановна? Боли нет?
– Ты знаешь, легче. И боли нет, – с удивлением сказала старушка.
– Вижу. Дышите получше. Кардиограмму! – это я уже Тане. – Что, хотите спать? Но потерпите – еще десять минут не засыпайте.
Таня поняла меня и ускорилась – быстро приладила аппарат, шла лента, а я ее сразу смотрел. Инфаркт сомнения не вызывал.
– А как же я здесь одна буду? Слушай, возьми меня в больницу. Ну, ведь еще охота пожить. Ночью испугалась – помру, а неохота. Это только говорят – вот бы помереть. Неохота. Дочь-то в городе. Это для нее как дача. Когда она приедет? До весны-то далеко. Возьми, а? У меня еще яблоки есть. И несколько мешков картошки.
– Хорошо, Анна Ивановна, мы вас возьмем без картошки. И даже без яблок. Носилки, – это я Тане.
Осторожно опустили Анну Ивановну на носилки. И прежде чем взяться за ручки, я глянул на часы – мать честная, полтора часа здесь отвертелись. Даже не заметил, как время пролетело. Делаем вывод (скорее в назидание Павлику) – время медленно тянется у бездельников.
– Понесли, Петр Васильевич. Не забудьте стекляшку от морфия, – еще раз напомнил я Тане.
– Все собрала, Всеволод Сергеевич.
Поставили носилки в машину, я сел у изголовья, у окошка салона, а Таня – на боковую скамейку.
– Петр Васильевич, вызовите Зину, пусть скажет терапевтам, чтоб приготовили место.
Машину покачивало. Анна Ивановна спокойно спала, я повернулся вперед, смотря через узкое окошко. Вдруг я увидел, что на обочине, перед самым выездом на шоссе на земле сидит человек и левую ногу он поднял на манер дула. Да, оперся на руки, а ногу тянет кверху – так сигналит нам.
– Остановитесь, Петр Васильевич. Чего это он?
Тот остановил машину, подошел к человеку.
– Два часа загорает, – крикнул. – Перелом, говорит.
Я вышел. Мужчина от радости прямо зашелся:
– Ну, повезло так повезло. Я за корягу зацепился. И вот загораю. До шоссе-то не дойти. А тут – бам! – и сам Всеволод Сергеевич.
– То-то и я смотрю – знакомое лицо.
– Точно. Пять лет назад возили меня к хирургу. Аппендицит тогда был. Да Зотов я.
У него был перелом наружной лодыжки, и я наложил шину.
– Сейчас сделаю укол.
– Да какой укол, – даже возмутился он. – Так доедем. Душа уколов не принимает. Вернее, задница. – В телогрейке, умеренно небрит, неумеренно весел – это, конечно, от удачи, мог здесь сидеть весь день, а тут сразу – нате вам – «скорая».
Я усадил его на скамейку рядом с Таней, ногу он выставил в проход. И что-то все безудержно лепетал – ну, повезло, и вот спасибо, надо же как повезло. Я просил его помолчать – больная спит, но это было бесполезно, он все удивлялся подвалившей удаче.
Так под восторги Зотова мы и приехали.
А что ж мне с ним делать, подумал я. Так-то, днем, есть указание, с травмой больного в поликлинику, к хирургу. А тот уже решит, что делать. Я в данном случае извозчик. И если бы перелом руки, дело ясное, отвел бы, да и все тут. Но лодыжка. Тут маленькая подробность: поликлинику построили десять лет назад, хирургов загнали, согласно проекту, на третий этаж, а рентгенологов на четвертый. Согласно проекту же, больные должны были подниматься на лифте. Но истина всегда конкретна, не так ли? Эта конкретность такова, что лифт не работал ни одной минуты. Его даже не пускали. И Зотов, стокилограммовый мужик, должен прыгать на одной ноге, словно кузнечик. Потому что проектировщики, имея в виду лифт, лестницы сделали такими узкими, что носилки никак не развернуть.
А отволоку больного прямо в отделение, хирурги ко мне неплохо относятся – простят. Новенькому фельдшеру они дали бы! И так мест нет, а он возит без согласования.
Но сперва надо было сдать больную с инфарктом, и мы подъехали к терапевтическому отделению.
– Петр Васильевич, вы пока выгружайте, а я посмотрю, готово ли место.
Он должен кликнуть на помощь шоферов – это их работа, носилочные платят. Уж здесь у каждого свой маневр. Еще на вызове я могу носить больного, но здесь – каждому свое.
А в терапии все было занято – торчал топчан у женских палат, топчан у мужских, и еще раскладушечка со свежим бельем (это уже для моей больной – ждут, что приятно) воткнута в закуток у мужских палат (но это не беда, что мужские палаты, на то есть ширмочка).
Я вошел в ординаторскую. Все врачи были в сборе. Тут же и начмед (заместитель главного врача по лечебной части). Старшая сестра что-то громко и торжественно читала.
– Что происходит? – тихо спросил я у Людмилы Владимировны, заведующей отделением, полной голубоглазой женщины.
– Весенние подарки, – ответила она. – Спешно?
– Терпимо.
– Тогда посидите, пока больную выгрузят.
Тут я понял, что Людмила Владимировна имела в виду под словом подарки – старшая сестра читает врачам указание больничной аптеки, какие лекарства не следует назначать, поскольку их в аптеке нет.
То есть я так понимаю, что назначать можно все, но это будет полнейший понт. Для начальства, если оно вздумает проверять листки назначений в случае смерти больного. Причем начальства областного. Свое и так знает, что это понт.
– А зачем листки? – спросил я в паузе.
– А туда надо писать то, чем хотели бы лечить больного. В идеальном, знаете, случае. Чтоб квалификацию не потерять, – насмешливо ответила мне начмед, ироничная и красивая предпенсионная женщина. Сейчас она не начальник, а рядовой врач – совмещает здесь на четвертинку, ведет одну палату – потому может позволить себе иронию.
– Чтоб не забыть, чем все-таки следует лечить. А уж аптека будет по одежке протягивать, знаете ли, ножки.
Ну, этакая джентльменская игра – лечащий врач делает вид, что все есть, а уж сестры философски отделяют желаемое от действительного.
И старшая сестра читает – нет того-то и того-то, а еще того-то и того-то, и в голове у меня включился счетчик профессионала, и я изумился – а чем же они лечить-то будут. Но сходу и с удовлетворением отметил про себя – «Скорой помощи» все-таки дают лучшее. Если и бывают перебои, то временные. На эти случаи как раз и существует загашник. К нам отношение аптеки справедливое: больному в отделении что-то могут достать родственники, а когда я на вызове, это что-то нужно не завтра, но сейчас. Все законно.
– Как же вы выкручиваетесь? – наивно спросил я, зная ответ – а родственники на что.
– А родственники на что? – спросила Людмила Владимировна.
– Но снова прошу вас – без проколов, – сказала начмед – уже как начальство, а не лечащий врач – в голосе строгие нотки. – Делать этого не разрешается. Только давним больным. Пусть родственники достают нужные лекарства. Если же напоремся на замечательного человека, который напишет жалобу – и будет прав, посягаем на святое, на бесплатное лечение, – виноват будет врач.
– Это понятно, – сказал я.
– Что вам понятно, Всеволод Сергеевич? – ехидно спросила начмед. У нас с ней хорошие отношения – любим иной раз поболтать о книгах.
– А понятно, что виновата барышня из регистратуры, и санитарка баба Маня, но никак не любезные нашему сердцу граждане. Хоть бы раз кто-нибудь пожаловался на то, что уровень районной медицины соответствует капиталовложениям.
– Вы не в ту степь, Всеволод Сергеевич, – пресекла меня Людмила Владимировна. – Инфаркт?
– Да, – и я протянул кардиограмму.
Она посмотрела.
– Давление приличное?
– Да.
– Тогда свободны. Но сегодня пощадите нас. У меня плюс три.
И это означало, что вместо положенных шестидесяти коек в отделение воткнули шестьдесят три – вот те как раз, коридорные. Сколько работаю, мест в отделении постоянно нет. Разве только перед праздниками, когда большая выписка. И с каждым годом все большая напряженка. Оно и понятно – население за последние годы вон как выросло, а число коек все то же.








