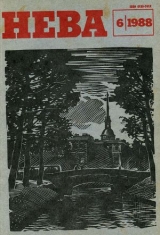
Текст книги "Ноль три"
Автор книги: Дмитрий Притула
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
14
– Еще немного потерпеть, и все, – утешала себя Наташа. – И все. И новая жизнь.
То есть все ее надежды были связаны с получением жилья, и каждый день общежитской жизни был невмоготу, потому что каждый день – отсрочка близкого счастья.
А я прокручивал нехитрое соображение про относительность счастья. Это так просто. Вот, к примеру, в этот же самый момент какой-нибудь жалкий рантье сидит где-нибудь, скажем, на Елисейских полях, и возможно, у него на душе пакостно, ему скучно, одиноко, и он несчастлив, а я в это же самое время лежу в зачуханном общежитии, и только что меня бросило в страх оттого, что в дверь барабанили, и я не смею громко разговаривать, и я не смею вольно ступать, и за нами наблюдала наглая крыса, и я все равно счастлив. Да уж, все на свете относительно.
– Как же все-таки люди десятилетиями живут по коммуналкам? – спросил я.
– Не знаю. Никогда не жила, и поэтому невыносимо.
– Да, изнеженное выросло поколение, – это я так, разумеется, шутил. И чтоб сменить разговор, спросил: – Что нового на работе? Клуб начал работу?
– Да. Вчера было открытие нового сезона. Березин у нас снова староста.
– Это капитан, любящий поэзию?
– Да. Он принес гвоздики. И как он смущался и краснел.
– Да уж, галантные нынче пошли капитаны.
Но она не поддержала мои подтрунивания над старостой клуба, она даже обиделась, что мне очень и очень не понравилось.
Да, август был месяцем удивительно ровной радости, и я даже думал, что есть же счастливчики, что и всю жизнь в такой радости живут.
Но то была лишь вспышка радости перед долгим захлестом тоски.
И к этому самое прямое отношение имел новый доктор Сергей Андреевич. Собственно, потому я так подробно о нем и рассказывал.
Все дело в том, что он оказался больно уж независимым. Он, представьте себе, живет без двойного счета: один – для себя, другой – для других. Он словно бы малый мальчик. И если говорит, что человек не должен излишне приспосабливаться к обстоятельствам, то это означает, что приспосабливаться не должен именно он, Сергей Андреевич, к нашим конкретным обстоятельствам.
Алферов, как и положено заведующему, опекал молодого специалиста, с особым вниманием просматривал его листки, всякий раз спрашивал, а почему вы сделали то-то и то-то, не лучше ли было сделать вот это.
И это все правильно: институтское образование – это одно, наши реалии – это другое. Именно у нас обучение по-настоящему и начинается. Так что опека Алферова была вполне понятна.
Странны были реакции Сергея Андреевича. Положено ведь как: старший товарищ тебе, новичку, дает указания, ты поблагодари и исполни. Сергей же Андреевич, если с указаниями был согласен, благодарил, а если не согласен – доказывал свою правоту. Сухо, нашим привычным халдейским языком, но убедительно, черт побери.
Если бы Алферов поучал его в своем кабинете, наедине – это одно, но поучал на пятиминутках, с понятной целью – на ошибках одного учимся все, и тут довольно быстро выяснилось, что теоретически Сергей Андреевич подготовлен превосходно. Что понятно: только что закончил институт, прошел превосходную интернатуру, где его год накачивали теориями, и в этих теориях он был сильнее и Алферова, и меня, и всех. Умный парнишка, чего там.
Алферову бы смириться с таким положением, как, к примеру, смирился я, но это его почему-то задело. Можно сказать, молокосос, мальчишка, а туда же.
Однажды стал выговаривать – да с легким раздражением, мол, говорю не в первый раз, а вам хоп хны, – зачем вы при бронхиальной астме ввели коргликон, когда достаточно эуфиллина – я этого больного знаю, ему достаточно внутривенного эуфиллина.
– Нет, Олег Петрович, вы неверно ставите вопрос, – спокойно ответил Сергей Андреевич, – если вы говорите об экономии лекарств, о том, что коргликона у нас не хватит до конца месяца – это одно. Если вы скажете экономить, я буду экономить. Но в данном случае именно этому больному коргликон показан, – и он так складно пропел хвалу сердечным гликозидам, что я даже заулыбался от удовольствия, какая у человека грамотная профессиональная речь, четко доказал, неотразимо.
Так, что даже Алферов всплеснул руками и воскликнул:
– Пять баллов! Ну что же – в споре рождается истина.
Однако, не думаю, что это упрямство Сергея Андреевича ему нравилось. Небось, подумал тогда, что у него будут хлопоты с этим пареньком. Он непокладистый, неручной. Он, беда, говорит то, что думает. А мы от этого, благодаря усилиям Алферова, помаленьку отвыкли.
Но это ладно. А только Сергей Андреевич проявил себя самым неожиданным образом: он вдруг выступил на ближайшем собрании. Что удивило всех. Есть неписаный закон: ты молодой, твой номер дальний, ты, знай, слушай старших и помалкивай. В медицине послушание в период твоей выучки – штука обязательная.
А этот паренек взял слово на общем собрании. Ну, извинился: ему надо не говорить, а внимать, но у него есть оправдание – свежий взгляд, вот этим взглядом он и хочет поделиться.
– Первое: почему диспетчер грубит больным? Ночью и особенно к концу смены с больными разговаривают недопустимо. Несколько раз на вызове, вместо того, чтоб лечить, я долго успокаивал больных. Так они были накалены.
Наша бедная Зина пошла пятнами – так неожиданно было нападение Сергея Андреевича. Она ему как раз симпатизировала, даже щадила, а он налетел на нее.
И это была смелость с его стороны. Диспетчеров мы все побаиваемся, стараемся с ними не ссориться. Многие даже и заискивают. Что и понятно: от диспетчера зависит – послать тебя ночью на соседнюю улицу или в район за тридцать километров. И тут не нужно излишне геройствовать: как ни относись к работе, а все же ночью каждому больше нравится сделать ближний и легкий вызов, а не дальний и трудный. Все понятно.
Спорить с диспетчером – плевать против ветра. У нее так много маленьких хитростей, что ты всегда будешь стороной проигравшей. Если диспетчер тебя не взлюбит, тебе придется плохо. Твоя очередь ехать, вызов легкий и близкий, так она его чуть придержит до следующего вызова, и если он будет дальним, непременно всучит тебе, немилому, а на ближний пошлет того, кто ей симпатичен.
Вот так впрямую ругать диспетчера – отвага немалая. Ну, начальство ругает постоянно, это и понятно, грубость – бич повсеместный, диспетчер – зеркало «Скорой помощи», все так, но чтоб ругали свои же – это бывает редко.
К тому же все понимают, что работа диспетчера очень трудна. Тут и бесконечные розыгрыши по телефону, и ложные вызовы, и заигрывание молодых ребят с помощью матерных анекдотов, и немотивированная грубость, и пьяные – всего хватает.
Алферов похвалил Сергея Андреевича:
– Все верно. Сергей Андреевич говорит правильно: у нас диспетчера сильные, но грубоватые.
Но, оказывается, Сергей Андреевич только брал разгон.
– Второе: у нас плохие отношения между сменами. Дважды я сталкивался с тем, что один врач оговаривал другого в глазах больного. А меня учили уважать монолитность нашего клана. И, наконец, главное: что у нас происходит с лекарствами, Олег Петрович?
– Конец месяца. Лимиты. Все же сами знаете, – сердито ответил Алферов.
– А я как раз не хочу этого знать. Мое дело – лечить. А уж обеспечить меня необходимым – ваше дело. Сегодня ночью поехал на сердечную астму. Кислорода нет. Морфия нет. Лазикса нет. Чем лечить?
– А вы, Сергей Андреевич, должны были вызвать бригаду. И у бригады должно быть все.
– Я был далеко в районе. Да и бригада не любит и боится ездить на сложные вызовы. Вот Всеволода Сергеевича я бы вызвал.
Это было уже вовсе неожиданно. Главное – тон Сергея Андреевича – требовательный, настырный. В последнее время все привыкли, чуть лебезя, просить, а тут нате вам – напор, а тут – обвинение.
– Но вы справились? Выкрутились? – чуть смешавшись, спросил Алферов.
– Я выкрутился, но в следующий раз могу и не выкрутиться.
– Но вы и сами виноваты. Уж кислород-то – ваша забота, Сергей Андреевич. Вы обязаны, я подчеркиваю это, обязаны проверить укомплектованность машины.
– Погодите, Олег Петрович, – не смог удержаться я, – как можно отвечать за машины, если у нас часто не бывает постоянных машин. Выездных единиц пять, а сегодня было только три машины. Вы посмотрите по журналу: на платформе пятнадцать минут лежала женщина без сознания, я сидел в этой вот комнате, знал, что она лежит в темноте и без сознания, и не мог к ней выехать – не на чем.
И вот тут случилось непредвиденное: вступила сухая, надменная наша Елена Васильевна.
– Нет, правда, Олег Петрович, машины меняются, так неужели нельзя, чтоб за аппаратуру отвечал кто-то один. Вот хоть старший фельдшер. Все равно ведь здесь сидит. Вот пусть и проверит, всюду ли есть кислород, – она явно нервничала и потому захлебывалась словами.
Как-то уж собрание докатило до конца, что-то там повнушал нам Алферов, но он был явно растерян, потому что все это было слишком уж неожиданно. То все привычная тишь да гладь, и вот тебе мальчик полез в бой, ну, с него что возьмешь – петух еще жареный не клевал тебя, но клюнет, клюнет, когда ты попросишь специализацию ли, летний отпуск или напомнишь про положенное тебе жилье. Но с него какой спрос? Нет спроса и с Всеволода Сергеевича, этот, известно, в каждой бочке затычка, да и обижен, что он теперь не первая скрипка в складном нашем оркестре, с ним тоже все ясно. Непонятно лишь поведение тишайшей предпенсионной Елены Васильевны. Ну, вот ей-то с чего возникать? Ох, аукнется, еще и как аукнется.
– Нехорошо, Всеволод Сергеевич, нехорошо, – с досадой сказал Алферов, когда мы с ним выходили из общей комнаты.
– Что – нехорошо? – удивился я.
– Нехорошо настраивать молодежь против меня, – как-то уж очень горько сказал он.
– Клянусь вам, я ни слова не говорил Сергею Андреевичу, – почему-то стал оправдываться я. Слишком уж много горечи было в его словах.
Главное – чистая правда, мы с Сергеем Андреевичем ни разу не говорили о своем заведующем (как-то мне и в голову не могло прийти жаловаться юному доктору на начальство).
– Я всячески поднимаю ваш авторитет, а вы мой роняете, – сказал Алферов.
– Да оставьте вы это. Не говорил, значит, не говорил. Он и сам, знаете, не глупый и не слепой.
– А я ведь хотел вас снова в бригаду поставить. Нехорошо! – с прежней горечью сказал он и ушел к себе.
Мимо проходила Елена Васильевна, голова ее была гордо вскинута – ну, победительница.
– Ну, вы даете! – восхищенно сказал я.
Она чуть повернула ко мне голову.
– А надоело. Стала противна сама себе. На старости лет суетиться из-за десятки к пенсии – надоело.
– Уважаю! – и я вскинул руки кверху.
Не скрою: несколько дней не покидала меня радость. А потому что, как я и предполагал всегда, есть на белом свете неизменные какие-то вещи – честь, там, достоинство, и когда они на твоих глазах берут в ком-то верх над трезвым расчетом, привычной покорностью, это не может не радовать.
Вот эта вдруг выпрямившаяся спина, вот этот чуть насмешливый, не без трагизма ожидания взор – а довольно, не принимаю этих правил и в дальнейшем играйте без меня. А я проживу по своим правилам, где чести и достоинству есть кое-какое место.
Но то были последние радостные дни. Потому что вслед за ними случился какой-то обвал, и чуть было не рухнуло все здание, которое я сам возводил много лет.
Потому что сразу после собрания Алферов взял курс на мое удушение. Другого слова я не подберу – именно удушение.
15
Тут я должен подробно описать все последующее дежурство. Вся штука именно в подробностях, в малостях наших профессиональных установок, вернее, в их вывертах.
Было первое воскресенье сентября. Теплый солнечный день, все светилось, все было прозрачно. Правда, я видел этот день не из кабинета, а из зарешеченного окошка салона.
– На вызов! – крикнула мне диспетчер в десять часов утра.
– Что там?
– Девочка загорелась и выбросилась с пятого этажа.
Мы помчались.
Толпа, собравшаяся у подъезда пятиэтажного дома, расступилась перед машиной, и я выбежал.
В цветнике на спине лежала девочка лет тринадцати. Волосы ее были подпалены, сгоревшие колготки скрутились в черные жгуты, вместо платья – горелые клочья. Девочка была жива, но без сознания.
– Носилки! – крикнул я шоферу.
Из отрывочных возбужденных возгласов я собрал нечто внятное: девочка вместе с братом была на кухне, когда по какой-то причине вспыхнул газ. Мальчик успел проскочить сквозь огонь, а девочка замешкалась и, пробиваясь к двери, вспыхнула. Обезумев от страха, бросилась в окно. Кто-то даже сказал, что она схватила зонтик и раскрыла его и спустилась. Но это, конечно, была выдумка толпы. Люди видели, что из пятого этажа летит полыхающий факел.
Мы понесли носилки, втолкнули в машину.
– Постойте секунду, Петр Васильевич, – сказал я шоферу, вводя девочке противошоковую смесь.
Потом, высунувшись из машины, узнал фамилию и имя девочки, и мы помчались.
В перевязочной хирургического отделения нас уже ждали дежурный хирург и реаниматолог.
– Значит, так, – сказал реаниматолог, осмотрев девочку. – Ожоги обширные, с пузырями, но без черноты. Мы их сейчас обработаем, наладим капельницу, и вы отвезете девочку в ожоговый центр. И будем считать, что вы нам ее и не привозили.
– Понял! – сказал я.
Да и чего ж тут непонятного в наших несложных хитростях.
Девочку с такими ожогами я должен привезти в ближайшую больницу, то есть как раз к нам. А отделение должно сговариваться с ожоговым центром, и те будут решать, брать девочку или не брать. Могут велеть несколько дней подождать и посоветуют, как лечить девочку, а к себе возьмут уже на восстановление. У меня же обязаны взять сразу.
– Все равно мы будем капать эту вот жидкость. Так пусть льется в машине. На полтора часа хватит.
Я согласился.
– Годится! – удовлетворенно сказал реаниматолог, ловко введя иглу в подключичную вену.
Реаниматолог сух, молод, законно считается хорошим специалистом. К тому же с хорошим профессиональным нюхом (интуиция – половина нашего дела), общее мнение таково, что ему не было бы цены, если бы не маленький недостаток – любит иной раз выпить. Правда, выпивает в свободное от дежурств время, но побаловать себя пивком может и на дежурстве.
Вот и сейчас, по всему судя, ему было тяжело после вчерашнего: погасший взор и красные глаза. Но профессионал – руки проворные и не дрожат.
Год назад у нас с ним была стычка. Я привез больного с тяжелой черепной травмой. Всем было ясно, что больной не жилец: у него помаленьку просачивался мозг. Но порядок есть порядок, не я же устанавливал, что за чужую жизнь следует бороться до последнего, даже когда надежд нет вовсе.
И положено было вызвать нейрохирурга, чтоб тот начал операцию (ну, там, освободить сжатый костными обломками мозг, прочее). Положено так.
А через два часа я снова кого-то привез на травму, а мужчина с битым черепом как лежал в перевязочной, так и лежит. Уже и дыхание захлестывается.
– А вы чего? – спросил я реаниматолога.
– А бесполезно, – и молодой этот человек махнул рукой в сторону больного.
И это было понятно: операция, которая длится часа три, бесполезна, и чего лишнее суетиться, если больной не жилец. Да и кому же это нужна лишняя послеоперационная смертность.
А так больной тихонько помрет до операции, они поставят время смерти таким образом, что вот, мол, не успели вызвать нейрохирурга – и работать лишнее не надо, и показатели отделения улучшаются.
– Вы же не господь бог, чтоб решать, кому жить, кому умирать, – это уж я сказал очень зло.
И он пошел вызывать нейрохирурга. Потому что знал о моем приятельстве с Колей, заведующим отделением, а тот таких штучек не любит.
Больного тогда спасти не удалось, но на всякий пожарный случай этот реаниматолог в дальнейшем был со мной осторожен, то есть не говорил: «Это бесполезно», но всяко обозначал активность.
Но с этой обожженной девочкой он был, конечно, прав: лучше ей с самого начала лечиться не в провинциальной больничке, где то нет того, то этого, а в городском центре, где, будем надеяться, есть все или почти все. И уж во всяком случае, чтоб не туманить голову излишним оптимизмом, лучше, чем у нас, все-таки академия.
И мы помчались. Под мигалку, понятное дело. В машине едко пахло палеными волосами. Девочка в сознание не приходила, но показатели были неплохие – пульс, давление.
Домчали. Поставили носилки на каталку, каталку втолкнули в лифт, промчали по коридору.
Нас ждали. Дежурный врач спросил, что я делал девочке.
– Сами? – спросил он удивленно, кивнул на капельницу, идущую к шее.
– Сами, – взяв грех на душу, скромно сказал я.
– Молодцом!
Это я потом не забыл переадресовать нашему реаниматологу.
А девочку спасли. Это, конечно, редкое чудо – обгореть, упасть с пятого этажа и выжить. Но, значит, чудеса на свете все-таки бывают.
Но это я забежал вперед. Потому что в тот же день мне предстояла более тяжелая работа. И снова гнать в город. Ох, уж этот мистический закон парных случаев. Хочешь не хочешь, а приходится в него верить.
Только я приехал из города, только стал просить диспетчера сбегать домой да поклевать, как она говорит мне:
– Вы поезжайте на температуру и на обратном пути пообедаете.
Я посмотрел на нее удивленно – молодой мужчина с температурой, что за спешка и вообще почему я, а не фельдшер.
– Давно лежит. И вообще что-то там не так.
– А что не так?
– С вечера не просыпается.
– Ой-е-ей! Там же, видать, менингит.
– Поезжайте, Всеволод Сергеевич.
Нет, тридцатидвухлетний мужчина не спал, он был без сознания.
Жена его, госпитальная медсестра, объяснила мне, что муж ее заболел в пятницу: прыгнула вверх температура, но врача не вызывали: в пятницу у больного отгул, думали, пятница, суббота – отлежится, а больничный по какой-то там причине ему не нужен. Жена что-то там давала, думала, пройдет, но вот вчера он как заснул, так и не просыпается. А уже час дня.
Ухоженная новая квартира, милая жена, двое малолетних детей. А он умирал. То есть что высокая, под сорок, температура, это было ладно, но глубокая кома, но затрудненное дыхание и давление, что называется, на нуле.
– И что? – спросила меня жена больного.
– Беда, – ответил я. – Тяжкий менингит.
В молчаливом испуге зажала она рот ладонью. Чтоб, значит, не испугать детей.
– Ах, дура старая! – это она на себя, что запустила болезнь мужа.
Я наколол все, что мог. Чувствуя беду, захватил с собой специальную – от менингита – укладку. Как-то уж нашел вену. Потом к телефону. Все объяснил диспетчеру, попросил заказать место через бюро госпитализации.
– Одевайте мужа. Я за носилками.
Внесли носилки.
– Я с вами, – твердо сказала женщина.
– А дети?
– Мама побудет. Я вам не буду мешать.
Снова позвонил на «Скорую». Диспетчер сказала, что больного надо везти в больницу Боткина.
– Да позвоните им через полчаса. Чтоб реаниматологи были наготове.
– Что, Всеволод Сергеевич, тяжелый?
– Это не то слово.
Пока мы укладывали больного на носилки, да пока по узкой лестнице спускали носилки с третьего этажа (а он крепкий человек, под сто килограммов), я соображал, правильно ли делаю, что хочу везти его.
Нет, неправильно. По существующему положению, если больной тяжел – а этот очень тяжел, – я должен доставить его в реанимацию – так у нас называется маленькая палата на хирургии для тяжелых больных. Но знание наших подробностей подсказало мне ясную картинку: вот я привез больного, а они начинают спорить, куда его класть. Одни толкают каталку от себя – это к вам, а другие тоже от себя – к вам. И долго освобождают нужное место, и долго вдохновляют себя на труд, и это при том счастливом стечении обстоятельств, что и хирург на месте (а он может быть на операции) и главное – на месте реаниматолог. И тут попрошу вас вспомнить про красные после вчерашнего его глаза – мог пойти и пивка попить.
Я же, все наколов, не буду затруднять подробностями, прошу поверить; укладка собрана неплохо, вполне достойный уровень – помчу под мигалку, а через полтора часа буду в том месте, где нас несомненно ждут. У нас ему будут капать то же самое, что и я в машине.
Установил капельницу, велел жене фиксировать руку и следить за капельницей, сам включил кислородный аппарат.
– Ну, Петр Васильевич, – сказал шоферу, – на вас вся надежда.
И как же гнал Петр Васильевич. Обычно спокойный, он подался вперед, и лицо его заострилось от напряжения. Он шел не только с мигалкой (ее я видеть не мог), но и с сиреной и под красный свет.
Я понимал, что больной умирает, но все же тлела надежда на чудо.
Но чуда на этот раз не произошло. Больной перестал дышать как раз на середине пути.
Не раз при мне умирали больные, и что всего больше меня потрясало, а вот это – ничто, оказывается, в окружающем мире не меняется. Светит осеннее солнце, спешат по улицам люди, кто-то жует и выпивает, кто-то влюбляется – все по-прежнему. А человек умер. Нить ли перерезали, душа ли отлетела, и ничего не произошло. Лишь в одно неуловимое мгновение жена стала вдовой, а дети сиротами.
– Все, – сказал я, отнимая кислородную маску.
– Что – все? – испуганно спросила женщина.
– Кончился кислород, надо дышать в рот, – не отважился я сказать правду. Ничего не мог с собой поделать: ее было очень жалко. Еще дома обвиняла себя, медики в этот раз не виноваты – их не звали. Двое малых детей. И теперь будет казнить себя всю оставшуюся жизнь.
Я достал бинт и сложил его в несколько слоев.
– Я сама!
И как же она дышала, припав губами к губам мужа. Меня бы и на десять минут не хватило, она же дышала весь оставшийся путь.
У приемного покоя я выскочил из машины.
– Куда? – крикнул стайке юных медиков.
Назвали номер.
– За мной! – приказал я молоденькому фельдшеру, и он сразу побежал следом.
– В кабину. И указывайте шоферу дорогу.
Носилки на каталку. Каталку в лифт. И по коридору бегом. Я толкал каталку, а жена семенила рядом и натужно все дышала и дышала в рот мужа.
А в реанимационной уже стояли люди в синих халатах, и они держали перед грудью готовые к работе руки.
Потом – уже в ординаторской – отдал направление пожилой женщине, заведующей отделением. Рассказал все, что знал о больном. Она просмотрела мою запись.
– Нормально, – с тихим удовлетворением сказала она.
– Есть к нам претензии?
– Да какие же тут претензии? У него же клиническая смерть. Конечно, больной нетранспортабелен. И безнадежен. А оставь вы его у себя, надежд было бы больше? Все вводили правильно.
Спускаясь по лестнице, я подсчитывал, что вот клиническая смерть наступила на полпути сюда, и в нашей больнице это время ушло бы как раз на подготовку места, да на тырканье каталки по коридорам, да на вопли – свистать всех наверх! – да на разгон к долгой работе, так что к самой работе как раз бы и не поспели.
– Все, Петр Васильевич. Поехали.
Мы чуть отъехали от больницы, свернули за угол, и Петр Васильевич остановил машину.
– Пять минут постоим. Одну папиросу выкурил, но мало. Сейчас еще одну.
Нам надо было отойти от недавней гонки, и я закрыл глаза, запрокинул голову, чтоб вовсе расслабиться.
Петр Васильевич бросил окурок, сплюнул на мостовую.
– Вот теперь не торопясь можно и ехать, – сказал.
Вечером я позвонил, чтоб узнать, не случилось ли чуда. Но чуда не случилось – через сорок минут после нашего отъезда больной умер.
В понедельник на пятиминутке я рассказал об этом случае.
Алферов сразу после пятиминутки позвонил из своего кабинета в больницу Боткина. Разговаривал с заведующей отделением, то есть с той самой женщиной, которой я вчера сдал больного.
Звонил Алферов при старшем фельдшере. И делал он это для того, чтоб она рассказала мне об этом звонке. Разумеется, она сделала это сразу и охотно. Простой расчет: я должен знать, что он меня спекает, и неприятности идут не из пустого места, но целенаправленно.
Он спросил, правильно ли все сделано. Она, видно, ответила, что вообще-то, по инструкции, везти следовало в ближайшую больницу, но случай-то особый.
Тогда Алферов попросил прислать бумагу с указанием дефектов. Та, видать, удивилась, но Алферов заверил, что тогда появится возможность поговорить о тактике врача в подобных случаях. Разумеется, какие тут оргвыводы, но на ошибках ведь учимся, не так ли?
Ну, бумага пришла.
Через пять дней в кабинете главврача собрался медсовет: заведующие отделениями, больничное начальство. Да, а главврач был в отпуске. Так-то он, относясь ко мне неплохо, может, оставил бы бумагу без внимания. Поговорил бы со мной да и ответил, что беседа проведена, да и делу конец.
Но заседание проводила начмед, хотя ко мне и хорошо относящаяся, но буквоедистая, особенно когда замещает главврача. Бумага пришла – надо на нее реагировать. Случай был всем понятен – я думал не о себе, а о больном, хотя, конечно, по инструкции, везти не следовало. Все понимали, что другого выхода у меня не было, больной погиб бы у нас в коридоре.
– Вам нужно было думать не о себе и не о больном, а о прокуроре, – сухо пошутила начмед – это распространенная среди медиков шутка.
– Согласен. Это неуязвимая позиция. Но для уголовника, а не для врача, – не удержался я.
Своим ответом я, конечно же, рассердил начмеда – ему бы смиренно каяться, что больше не буду, а он еще и дергается.
Заведующие отделениями поохали бы, повздыхали, мол, это уж наша судьба такая, инструкции инструкциями, но надо и голову на плечах иметь, да и разошлись бы.
Но тут вмешался Алферов.
– У меня молодой коллектив. Если мы разойдемся без оргвыводов, моя молодежь подумает, что им тоже можно вольно толковать тактику врача. Погиб молодой мужчина, а тактика Лобанова была неверной. Как же так: нарушения есть, а наказания нет. Нас не поймут.
И мне объявили выговор.
Выходили мы из кабинета вместе с Колей.
– Ты хорош, – сказал я ему сердито. – Мог бы и защитить меня.
Он посмотрел удивленно.
– То есть ты хочешь сказать, что принял все это всерьез?
– Первый выговор за двадцать лет.
– Всегда считалось, что ты человек с юмором. Зачем же ты разрушаешь свое прежнее реноме? У меня выговоров было навалом. И жив, как видишь. К празднику тебе объявят благодарность. Вот плюс на минус и выйдет. А не объявят благодарность, так выговор автоматом через полгода отмирает. Все это тебе должно быть – слону дробина.
– Неужели ты не понимаешь, что Алферов меня спекает?
– Перестань, Сева. Ты просто устал. И потому мнительный. Нас с тобой спечь невозможно – мы ломовые лошади нашей больницы. А вот твой заведующий сгорит – запомни мои слова. Если человек не защищает коллег, он непременно сгорает – железный закон.
– Твоими бы устами…








