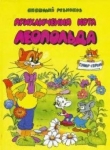Текст книги "Бурный поток"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
III.
В доме Доганских Покатилов сделался своим человеком с поразительною быстротой. – Ну, брат, ты того...– добродушно заметил однажды oncle Покатилову, как-то пряча глаза.– Браво, того... – Чего? – Помнишь турецкую пословицу: "прежде, чем войти, подумай о выходе"? Покатилов засмеялся и тихо проговорил: – Oncle, голубчик, мне отсюда никогда не выйти... Понимаешь, никогда! – Да ведь это ни к чему не поведет, глупый человек. Ты не знаешь их хорошенько... да и она совсем не такой человек, какою ты ее представляешь себе: это мраморная статуя. Ах, молодость, молодость! Схвативши себя за голову и не слушая дяди, Покатилов повторил: – Я не знаю ничего! Я не знаю ничего! Сближение произошло с такою быстротой, что сама Доганская несколько раз спрашивала себя, как это могло случиться, тем более, что при ближайшем знакомстве Покатилов ей понравился гораздо меньше, чем вначале, когда она расплакалась перед ним, как девчонка. Покатилов был не так умен и проницателен, каким он показался ей в первый раз, притом в нем было что-то такое тяжелое и неискреннее, как и в остальных. По наружности он тоже не нравился Доганской, как человек, уже поживший в свою долю. Но, вместе с этим, она скучала, когда Покатилов не показывался несколько дней, и сердилась на него за всякие пустяки. У него было одно незаменимое качество: он всегда чутьем понимал всякое настроение Доганской и умел попасть ему в тон. Изучив ея вкусы, привычки и слабости, Покатилов сумел окружить свою богиню настоящею атмосферой тех ничтожных услуг, какия не забываются избалованными женщинами, хотя в то же время он часто выводил ее из терпения и даже в глаза говорил очень смелыя дерзости. Но, что бы ни говорил и что бы ни делал Покатилов, он помнил всегда одно золотое правило, что женщины не прощают только одного, скуки. Доганская не могла теперь сделать шага, чтобы не посоветоваться с Покатиловым, который, кажется, знал решительно все на свете, начиная от духов ylang-ylang и кончая модными чайными передниками по английской моде. Главное, у Покатилова был замечательно развитой вкус по части дамских нарядов и всевозможных обстановок, так что Доганская не шутя советовалась с ним во многих случаях. Покатилов выбирал ей кружева для утренних костюмов, покупал меховую болгарскую шапочку, самовар из полированной меди с серебряными выкладками, английские башмаки для гулянья пешком и т. д.; он знал толк в турецких коврах, в кружевах, в разных стилях домашней обстановки и мог указать решительно все, где и что найти, так что даже сам oncle, порядочно знавший Петербург, должен был спасовать. Покатилов умел приходить и уходить во-время и всегда приносил с собой запас самых свежих новостей. – Вы для нас, Роман Ипполитыч, настоящий клад,– несколько раз фамильярно говорил Доганский.– Скверно только одно: Сюзи влюбится в вас, и нам, пожалуй, придется стреляться. – Нет, это, кажется, не опасно,– ответила Доганская в том же шутливом тоне: – Роман Ипполитыч не знает самой простой истины, что женщина никогда не полюбит человека, который слишком угождает ей во всем... Тебе, Юрий, это хорошо известно, потому что в свое время ты, кажется, пользовался большим успехом у женщин. – Да, да, совершенно верно, Сюзи... Вот, молодой человек, учитесь, как жить на свете. Женщина – это вечная загадка. – Вам, кажется, не приходится учить друг друга,– заметила Доганская. Доганский улыбнулся, посмотрел на жену и на Покатилова и с разстановкой проговорил: – Знаете, что мне иногда кажется?.. Одним словом, когда я возвращаюсь домой слишком поздно, я начинаю громко разговаривать сам с собою и стучать ногами с самой передней. Доганский иногда позволял себе подобныя грубыя шутки, и его лицо принимало неприятное, фальшивое выражение, как у лошади, которая прижимает уши. Подобныя плоскости коробили Покатилова каждый раз, но Доганская относилась к ним с тем равнодушием, с каким выслушивают на улице непечатныя слова. Это удивляло Покатилова, и он раз откровенно спросил Доганскую: – Неужели вас не возмущают подобныя остроты, Сусанна Антоновна? – Меня?.. Да ведь Юрий такой человек... Одним словом, мне как-то все равно, что бы он ни говорил, да мы и не поймем никогда друг друга. Собственно такое равнодушие нравилось Покатилову, как самый верный признак того, что Сусанна Антоновна совсем не любит мужа, но вместе с тем ему иногда казалось совсем другое, и он начинал переживать муки и терзания всех безнадежных любовников. Вообще, многое в поведении Доганской для Покатилова представляло загадку: то она относилась к нему, как к своему человеку, и часто, когда они разсматривали кружева или материи в магазинах, их руки встречались и лица были так близко, что Покатилов чувствовал теплоту дыхания Сусанны, то она начинала вдруг сторониться от него и точно боялась подать руку без перчатки. Ревновать Доганскаго к его жене, пожалуй, не было причины, потому что дома он являлся гораздо больше гостем, чем oncle или Теплоухов, которые располагались в квартире Доганских совсем по-домашнему. Как сам Теплоухов, так особенно его поведение для Покатилова являлись какою-то необяснимою нелепостью, не укладывавшеюся ни в какия рамки. Он являлся к Доганским аккуратно каждый день к завтраку и оставался до вечера, а иногда проводил и весь вечер. Это был замечательно молчаливый и скромный субект, на котораго как-то никто не обращал внимания, а всех меньше сама хозяйка. Случалось иногда так, что в течение целаго дня Теплоухов не произносил ни одного слова: молча здоровался, когда приезжал, молча завтракал, молча сидел где-нибудь на диване, прикрывшись газетой или книгой, и молча уезжал домой. Доганская так привыкла к его молчаливому присутствию, что совсем не замечала его, делая свое ежедневное дело: принимала гостей, ездила за покупками, играла на рояле, ссорилась с прислугой, капризничала, работала какую-нибудь глупую дамскую работу и т. д. Покатилов тоже скоро привык к нему, хотя заметил с перваго раза, что Теплоухов все время следит за каждым шагом Доганской с настойчивостью сумасшедшаго. – Этот Евстафий Платоныч для меня как бельмо на глазу,– вырвалось однажды у Доганской в присутствии Покатилова.– Если бы вы знали, как я иногда ненавижу этого идиота и, вместе, как я его боюсь! – Неужели он был всегда таким?– спрашивал Покатилов. – С перваго дня нашаго знакомства... Это просто ужасный человек!.. А между тем, что говорят о моих отношениях к Теплоухову... Вот можете передать папе и Калерии Ипполитовне, в качестве очевидца, какия наши отношения. Покатилов не верил в этом случае Доганской, и его грызли самыя тяжелыя сомнения относительно той роли, какую «ужасный человекь» играл в загадочной жизни Доганских. Достаточно сказать только то, что этот владелец банкротившихся Заозерских заводов получал около трехсот тысяч ежегоднаго дохода и жил как скряга: не держал даже повара и торговался с извозчиками из-за каждаго пятачка. Вместе с тем, этот же самый Теплоухов кончил университет, потом учился где-то за границей и вообще был очень образованный человек, постоянно следивший за всеми выдающимися новостями науки и литературы. Его домашняя библиотека, составленная из самых ценных и редких изданий, стоила несколько десятков тысяч. Однажды, когда Покатилов по своей фельетонной привычке начал вкривь и вкось толковать о каком-то экономическом вопросе, Теплоухов неожиданно заговорил и очень основательно разбил огорошеннаго фельетониста по всем пунктам; Доганская посмотрела на своего огорченнаго поклонника с тонкою улыбкой, чем Покатилов был окончательно сконфужен и неловко замолчал, а «ужасный человек» опять погрузился в свою дремоту. Интимныя собрания в квартире Доганских, о которых говорил еще Брикабрак, очень интересовали Покатилова, но он не получал приглашения принять участие в них, между тем oncle и Нилушка Чвоков были давно в числе избранных. Однажды Покатилов, желая выведать кое-что от oncl'я, стороной завел речь об этих собраниях, но oncle расхохотался, как сумасшедший. – Государственными делами, батенька, занимаемся... да!– разсказывал oncle, продолжая хохотать.– Как же... Все ведь толкуют о наших собраниях. Ну, угадай, чем мы занимаемся?.. Ха-ха... Столы, голубчик, вертим и насчет животнаго магнитизма сеансы устраиваем, хотя это величайший секрет, но я вполне надеюсь на твою скромность. Это все Теплоухов колобродит... Богомолов и Нилушка Чвоков бывали у Доганских не особенно часто: у каждаго дела было по горло. Нилушка гремел по ученым обществам, писал газетныя статьи в защиту протекционизма и вообще распинался, как говорил про него oncle; Богомолов был занят мансуровскою опекой, которую взял на себя. Мансуровские заводы находились в неоплатном долгу у казны, и все это вопиющее дело точно заблудилось в дебрях всевозможной канцелярщины, так что распутать его являлось героическою задачей. Нужно было спасти хотя что-нибудь от грозившаго заводам краха, и Богомолов лез из кожи, чтобы пробиться сквозь опутавшую его канцелярскую паутину. Сам Мансуров, неглупый и очень добродушный человек, относился к своим делам с каким-то непонятным равнодушием, что постоянно выводило Богомолова из терпения. Мансуров получил в наследство после отца целых пять отлично устроенных заводов, но, пока он достигал совершеннолетия, заводы не только потеряли всякую производительность, но при помощи разных опекунов и попечителей обросли долгом в пять миллионов. Как это случилось, где виноватые,– теперь трудно было разобрать, а Мансуров пользовался опель маленькими средствами, едва достававшими ему на самое скромное существование в меблированных комнатах Квасовой. Богомолов задыхался в этом деле, где счет шел на миллионы. Доганская интересовалась деятельностью Чвокова и Богомолова, внимательно следила за газетами и даже раза два, в сопровождении Покатилова, посещала техническое общество, в котором шли оживленные дебаты по вопросам протекционизма и Нилушка Чвоков являлся настоящим героем дня. Раз она читала вместе с Покатиловым одну хлесткую статью, написанную Чвоковым, и статья, видимо, ей очень понравилась. – А вы как находите?– спросила Доганская Покатилова. – Эта статья сама но себе написана образцово, но Нилушка пересолил,– ответил Покатилов, откладывая газету. – Именно? – По-моему, он не понял своей задачи и слишком откровенно выложил все, что у него лежало на душе, а это, по меньшей мере, не тактично. Все равно, если бы человек, котораго вы видите в первый раз, подробно начал разсказывать свою биографию... Да и самая исходная точка у Нилушки не верна: с противниками нужно сражаться их собственным оружием. – А как вы поступили бы на его месте? – Да как обыкновенно поступают в таких случаях... Прежде всего, я напечатал бы целый ряд статей в защиту свободной торговли, но эта защита стоила бы поражения: во-первых, вы выбиваете противника из его позиции уже одним тем, что по внешней форме защищаете его дело, а во-вторых, в вашей власти та специальная аргументация, которая затушевывает самые слабые пункты... Одним словом, тут очень много ходов и выходов. – Отчего же вы сейчас не приведете в исполнение этого плана? – Очень просто: такая уличная газета, как «Искорки», сама по себе не может иметь значения, а потом, если бы я и повел это дело, то повел бы его от своего имени, как самостоятельное и ответственное лицо. Доганская молчала. Они сидели вдвоем в ея заново отделанном будуаре, где все, до мельчайших подробностей, было устроено по указаниям Покатилова. Короткий осенний день был на исходе, и в окно глядела наливавшаяся в воздухе сероватая мгла. – Хотите, я устрою вам это дело с газетой?– тихо проговорила Доганская после длинной паузы.– Т.-е., я хочу сказать, что мы затянем в это дело Теплоухова... Ведь все это в его интересах, следовательно он должен и платить, а потом разсчитаетесь с ним как-нибудь. Вот вам и случай, о котором вы как-то говорили... Как видите, у меня память недурная. Покатилов поцеловал у Доганской руку и, не выпуская этой руки, проговорил: – Мне остается только поблагодарить вас, Сусанна Антоновна... и отказаться. – Я не понимаю вас... – Дело очень просто: какими глазами вы посмотрели бы на человека, который сделал свою карьеру женскими руками? – А, так вы вот как,– протянула Доганская и вся вспыхнула. – Да, это мой принцип, хотя я совсем не желал обидеть вас. – Я понимаю вас... да!.. Вы стыдитесь в этом деле именно моей помощи... кажется, так? – О, нет, Сусанна Антоновна... Я говорю вообще, и вы меня поймете, без сомнения. Мужчина жалок, когда он пользуется помощью женщины, и я не хочу потерять в ваших глазах всякое уважение. – Совершенно напрасно... Вы просто добиваетесь только того, чтобы я вас упрашивала, да?.. С женщинами часто так делают, не правда ли? – Нет, я до этого еще не дошел и надеюсь, что не дойду никогда, потому что из принципа я уважаю женщину. – Ваши рыцарския чувства делают вам честь,– сухо ответила Доганская и тяжело замолчала. По ея неровному дыханию Покатилов чувствовал, что она разсердилась на него. – Вы не хотите меня понять, Сусанна Антоновна. – Ах, оставьте, пожалуйста... Скажите, чтобы подавали огня. Тон, которым была сказана последняя фраза, совершенно успокоил Покатилова: они понимали друг друга, и он поступил как нельзя лучше.
IV.
Предложение Доганской окончательно лишило Покатилова того душевнаго равновесия, которым он отличался обыкновенно; пронять его чем-нибудь было вообще довольно трудно. Началось с того, что Покатилов написал скверный фельетон для "Искорок". Это было тем более обидно, что Покатилов старался и, против обыкновения, переделывал статью раза два, пока не плюнул на неклеившуюся работу. Брикабрак только поморщился, когда пробежал напечатанный покатиловский фельетон: фельетонист видимо выдыхался, и, пожалуй, приходилось подумать о другом, поважнее. А Покатилов был тут же, в кабинете редакции, видел постное выражение своего патрона и, по логике всех неправых людей, разсердился на Брикабрака. Произошла красноречивая немая сцена. "Да, выдохся,– думал Брикабрак, с тяжелым вздохом откладывая несчастный номер в сторону.– Очень уж нос стал задирать, а силенки и не хватает". Покатилову это жирное редакторское лицо Брикабрака с его косым глазом было просто отвратительно, и он едва сдержался, чтобы не наговорить дерзостей. Да, он написал скверный фельетон, но он просто не может работать в этом кабаке; Покатилов с презрением оглянул весь кабинет, письменный стол, голыя стены, часть приемной, видную в двери. Нет, он задыхается в этой кабацкой обстановке, где его мысль билась, как осенняя муха о стекло. "Именно кабак,– с ожесточением повторял про себя Покатилов, и это слово оправдывало его в собственных глазах.– Любая парикмахерская лучше обставлена... да. Убожество, грязь... А тут еще изволь потешать кабацких завсегдатаев! " Как-никак, а Покатилов считал себя служителем слова, артистом. Чтобы мысль воплотилась в известныя формы, чтобы в голове создались счастливыя комбинации, остроумныя сближения и вообще вся сложная мозговая работа, для этого, прежде всего, нужна известная обстановка, именно то, что англичане называют комфортом. А то вечно перед глазами торчит одно и то же кабацкое безобразие; понятно, что мысль, не получая никакого внешняго импульса, отказывается работать, даже больше: это покатиловская мысль не может работать. Сознание собственнаго безсилия как-то испугало Покатилова: может-быть, он и в самом деле выдохся, как думает сейчас про него Брикабрак. Выдохся – это самое страшное слово для каждаго автора, как паралич для здороваго человека. Ведь это все равно, если балерина вывихнет ногу, музыкант потеряет слух, красавица свою молодость, одним словом, мы вежливо говорим про таких людей, что они "пережили себя". – Нет, чорт возьми, все это вздор!– громко проговорил Покатилов, начиная бегать по кабинету. – Что вздор?– спросил Брикабрак, не поднимая головы от какой-то корректуры. – Да так... я про себя... Одна мысль пришла в голову. – Ты... Хорошее дело; для нас, журналистов, каждая новая мысль капитал... А слышали новость? Брикабрак принялся разсказывать последнюю, поднятую на улице сплетню, но Покатилов его совсем не слушал: ему грезилась своя газета. От последней мысли он никак не мог отделаться и ходил, как пьяный. Да, ему стоит захотеть, и у него будет своя газета, настоящая большая газета, в роде котлецовскаго "Прогресса". Счастье само лезло к нему в руки, и он должен был отказываться от него, точно искушаемый пустынник. И нужно же было случиться так, что предложила газету Сусанна? Предложи это же самое Теплоухов или даже Доганский, Покатилов ухватился бы за дело обеими руками, но тут замешалась Сусанна, и о газете нечего было думать. В Покатилове поднимались остатки той хорошей гордости, которая составляет основание хороших натур, хотя эта покатиловская гордость имела слишком специальное приложение: не брать ничего от женщины, не быть обязанным женщине ничем, не чувствовать над своею головой этого последняго клейма совсем павших людей. Притом Покатилов любил Сусанну, а принять из ея рук газету значило поставить себя в зависимое и жалкое положение. В крайнем случае приходилось выбирать между газетой и Сусанной, и Покатилов выбрал последнее. Да, теперь он может смело смотреть ей в глаза, он свободный человек, а тогда Покатилов чувствовал бы на себе ошейник. – Сусанна, Сусанна,– шептал Покатилов, хватаясь в отчаянии за голову.– Но ты будешь моя!.. И я хочу быть твоим господином, хочу, чтобы ты смотрела мне в глаза с ласковою покорностью, а это будет только тогда, если я буду свободен... Вообще положение Покатилова было не из красивых, и он шлялся по улицам без всякой цели, точно отыскивал необходимое решение. Раз он как-то совсем машинально забрел в номера Квасовой и только тут вспомнил, что еще не был на новоселье у сестры. Калерия Ипполитовна была дома и встретила его с приличною важностью. – Благодарю, что не забыл, милый братец. – А что?– разсеянно спрашивал Покатилов.– Ах, да, ты благодаришь... Вероятно, чем-нибудь недовольна? Калерия Ипполитовна только хотела отпеть братцу за рекомендованные номера, но Покатилов сидел в углу дивана с таким убитым видом, что, вместо вертевшейся на языке колкости, она проговорила: – Уж ты здоров ли?.. На тебе лица нет, Роман. – А все равно... Этакая забота припала!.. – Однако... Maman спрашивала о тебе. – Ну, и можешь сказать maman, что я в лучшем виде. – Да что у тебя такое случилось, в самом деле? – Э, вздор... все пустяки. – Послушай, наконец это невежливо,– уже по-французски заговорила Калерия Ипполитовна.– Я к нему с участием, а он свое; "а" да э"! – Могу и я показать тебе свое участие... Где твоя Юленька? – У maman. – Напрасно... Maman, хотя и maman, но она испортит девочку. Необходимо позаботиться... да... И если хочешь, я могу рекомендовать одну англичанку, которая сделает из твоей Юленьки человека, а не куклу. – Хорошо, я подумаю. – Да тут не о чем думать. Она занимается у Зоста, известный заводчик... Вообще будешь довольна. Калерия Ипполитовна сразу догадалась, о какой англичанке говорил милый братец, и сейчас же изявила согласие познакомиться с мистрис Кэй. "Выгнать-то ее я всегда могу,– разсуждала про себя Калерия Ипполитовна, проводив брата.– А она, говорят, действительно хорошая женщина". Вечер Покатилов проводил у Доминика или где-нибудь в cabinet particulier одного из модных кабачков, где обыкновенно встречался с Нилушкой Чвоковым, заезжавшим сюда чего-нибудь перекусить, а главное, повидать нужнаго человечка. У Нилушки всегда в запасе был такой человечек. – Ты это что, брат, как будто не в своей тарелке?– раза два спрашивал Чвоков Покатилова. – Отстань...– грубил Покатилов.– Не всем же бегать по Петербургу, высунув язык. – Нельзя, братику, волка ноги кормят. – Какой волк и какия ноги. Другой волк не стоит прокорма. Впрочем, я не про тебя. – Что же, и мы знаем себе цену. Но, прежде всего, человек продукт известнаго времени, а нынче известно, какие фрукты произрастают. Что касается меня, так я предпочитаю сильный порок безсильной добродетели, потому что первому открыт путь к раскаянию, а вторая может только проливать безсильныя слезы. Поэтому и Господу всегда приятнее один раскаявшийся грешник, чем десять никогда не согрешивших праведников. – Отлично,– поддакивал Покатилов с легкою улыбочкой, задевавшей Нилушку за живое.– Это даже от философии оправдывается: все разумно, что существует. Жаль мне тебя, Нилушка, теряешь ты всякий образ и подобие Божие за чечевичную похлебку. И для кого на мелкую монету размениваешь себя? – Что же мне делать... а?– спрашивал Нилушка, любивший иногда "сотворить некоторое душевное излияние".– Я живой человек, прежде всего – человек живого дела, ну, и приходится служить подлецам, потому что настоящаго честнаго дела у нас нет. Книжки ученыя переводить, лекции читать, благочестивыя передовицы измышлять... хе-хе!.. Нет, братику, все это вздор: книжками да хорошими словами никого не выучишь. Жизнь идет мимо. Нужно дело, а его нет, вот и путаешься с подлецами. Конечно, служить Баалу нехорошо, но ведь не я, так найдутся другие... десятки, целыя сотни найдутся. Положим, что это плохое оправдание и даже очень гнусное, но только сколочу себе некоторый куш, и тогда шабаш. Будем грехи замаливать. Да и то сказать, что я получаю? Гроши... Посмотри, как другие-то рвут. Ведь смотреть не на кого, а что делают! – Все это великое свинство, как говорит капитан Пухов,– замечал Покатилов в раздумье.– Музыка без слов. – Что же, я и не думаю оправдывать себя: mea culpa, mea maxima culpa. Но, голубчик мой, ведь деваться-то некуда умному человеку. Много нас таких ученых подлецов развелось. Время такое, братику. Пока умные да честные люди хорошия слова разговаривали, подлецы да дураки успели все дела переделать. Каюсь: повинен свинству, но заслуживаю снисхождения, поелику проделываю оное великое свинство не один, а в самом благовоспитанном обществе. Ей-Богу, иногда кажется, что какая-то фантасмагория происходит, и сам удивляешься себе... Эти откровенные разговоры вполпьяна происходили под шумок ресторанной жизни, закипавшей с двенадцати часов. Покатилов, слушая Нилушку, жадно прислушивался к смутному гулу, доносившемуся из всех углов, точно разыгрывалась какая-нибудь сложная музыкальная пьеса. Вот эта молчаливо-почтительная прислуга, понимающая гостей по одному движению, эта приличная madame, которая так важно возседает за своею конторкой в прихожей, этот торопливый гул шагов, сдержанный смех, обрывки французских фраз, самый воздух, вечно пропитанный одним и тем же куревом,– вся эта кабацкая обстановка действовала на Покатилова самым, заражающим образом, без чего он не мог жить и работать. Ему необходимо было прислушиваться к этому лихорадочному пульсу столичной улицы, где жизнь развертывалась при газовом освещении за мраморными столиками и в подозрительной тиши отдельных кабинетов. Тут пестрою толпой проходило все, что было интереснаго: дельцы высшей пробы, просто дельцы, редкие представители вырождавшихся аристократических фамилий, военные, сомнительные иностранцы, прилично одетые жулики, просто ресторанные завсегдатаи и те специальныя женщины, которыя, как летучия мыши, могут жить только по темным углам. Стеариновыя свечи в этой специальной атмосфере горят каким-то мутным, белесоватым огоньком, который нагоняет чисто-кабацкую блаженную дремоту. А тут еще покаянныя излияния Нилушки, который за полубутылкой вина мог просидеть целую ночь. – Ну что, как ваши заводчики?– спрашивает Покатилов, чтобы прекратить Нилушкины слезы. – А чорт с ними... Себя тешат: облюбуем, дескать, самаго ученаго человека, пусть распинается. А самим решительно все равно, хоть трава не расти... Меня просто поражает эта апатия. Кроме того, никто из них даже не верит в свое дело, сами же смеются, а тут заговаривай зубы разным дуракам. – Ну, а как Богомолов? – Да что Богомолов... сибирский фрукт. Нилушка засмеялся. Последнее время Богомолов начинал забирать большую силу, а это было уже шагом к разрыву двух друзей, столкнувшихся на одном деле. Конечно, у Нилушки не было зависти или страха к сопернику, но все-таки он начинал ежиться, когда Покатилов пробовал вышучивать его на эту тему. – Умный человек этот Богомолов,– задумчиво говорил Покатилов, прихлебывая вино из своего стакана. – Т.-е. что ты хочешь этим сказать? – А то, что вот этот самый Богомолов в одно прекрасное утро спустит тебя ко дну со всеми гегелевскими триадами и тому подобною ученою конопаткой. – Ну, уж это дудки!– разсердился Нилушка и посмотрел на своего собеседника злыми глазами.– Пожалуй, если хочешь, то Богомолов и умный... да. Только весь ум у него заключается в том, что он буквально из ничего возник, да и теперь у него гроша расколотаго нет за душой... Впрочем, это уже область искусства. Но это все вздор: у Богомолова, кроме нахальства, ничего нет... – Однако ты начинаешь сердиться. – Вздор!.. Если ты хочешь знать, так Богомолов глуп, как киргизский баран. – Именно? – Самая простая вещь: у него нет никакой ширины взгляда, нет размаха, этой поэзии. Одним словом, в нем нет того, что в породистых животных называется кровью. Например, установилось ходячее мнение, что деньги наживали только в шестидесятых годах, когда шел настоящий пир горой с разными концессиями, акционерными банками, подрядами и тому подобным гешефтмахерством,– и Богомолов повторяет эту же нелепость. Да... Поэтому он и примазывается вплотную к русским заводчикам, а это ошибка. Дела еще только начинаются, поверь мне, и умные люди возсияют почище старых дельцов. Конечно, и я путаюсь с заводчиками, пока не подвертывается ничего лучше, а потом плюну на них. По-моему, настоящий делец не тот, кто идет на все готовое подбирать крохи, а тот, кто сам создает новое свое дело,– вот это я понимаю. – Да где же эти твои новыя дела? – Сколько угодно: нефть, каменный уголь, соль, сахар; ешь – не хочу. Ведь это нужно дураком круглым быть, чтобы ничего не видеть. Работы по горло. Вот где будут настоящие промышленные короли, если пристегнуть иностранные капиталы. И будет все, как я тебе говорю. Да, кстати, ну что твоя газета? – Какая газета? – Твоя газета... "наша" газета. Мне говорила Сусанна Антоновна о твоем великодушии: отказался... Ах, ты, чудак! Вот уж этого я никак не пойму. Не ты, так другой обделает Теплоухова, не все ли равно? Покатилов был неприятно удивлен этою новостью: значит, Нилушка все знал от Сусанны. А это значило, что слух о газете пойдет гулять. Зачем это Сусанна болтает о газете? – Был, кажется, разговор о газете, но так... шутя,– уклончиво отвечал Покатилов, не желая выдавать себя головой.– Во всяком случае, я не придаю ему особеннаго значения. – Ну, уж ты это врешь, братику!– захохотал Нилушка, довольный, что попал в больное место друга.– Что-нибудь да не так... А я на твоем месте взял бы это дело и такую бы машину устроил... ха-ха!.. И время теперь самое подходящее... вот войну обещают в Турции... газетчикам деньги посыплются. Поработали бы и кроме войны. Если ты смущаешься, что тебе газету предложила Сусанна Антоновна, то можно устроить так, что его сделает сам Теплоухов: это все единственно. – Оставим, пожалуйста, этот разговор.
V.
Устройство приличной обстановки в новой квартире на некоторое время отвлекло внимание Калерии Ипполитовны от постоянной мысли о собственном фальшивом положении. Нужно было сделать кое-какия прибавки к мебели, купить ковры, приобрести два сервиза, рояль на прокат для Юленьки и многое другое, что требуется в ежедневном обиходе. В случае затруднения Калерия Ипполитовна обращалась к oncl'ю и таскала старика с собой по всем магазинам; Симон Денисыч не годился даже для этой цели и проводил время дома в обществе старой Улитушки или бродил по петербургским улицам решительно без всякой цели. – Ты устрой временную обстановку,– советовал oncle, покорно следуя за племянницей.– И дешево и сердито будет. В этом преимущество столичной жизни для вашего брата, провинциалов. Вот серебро, кажется, необходимо подновить, потом экран к камину. – Да у нас и камина совсем нет. – Ну, все равно, купи хорошенькую жардиньерку. Это оживляет обстановку. Oncle и без того подтолкнул Калерию Ипполитовну сделать несколько глупых покупок, поэтому на его советы она особеннаго внимания не обращала; совершенно достаточно было и того, что oncle в совершенстве мог изображать из себя то специфическое вьючное животное, которое создано носить дамския "поноски", в форме безчисленных картонок, коробочек, свертков и просто бумажных мешков. Между прочим, Калерия Ипполитовна сочла своем родственным долгом посоветоваться с дядей относительно рекомендованной Романом мистрис Кэй. – Мне нет дела до ея интимной жизни,– предупредила она, давая понять, что ей известно, что за птица эта гувернантка.– Притом ведь она занимается у Зоста, а это самая лучшая рекомендация. – Гм... да...– неопределенно мычал oncle.– Должно-быть, очень приличная особа... хотя, конечно, судить с перваго раза довольно трудно. – А ты разве тоже ее знаешь? – Да... я случайно встретился с ней у Сусанны. Она там занимается английским языком. – С кем это? – Сусанна учится... Так, прихоть. – Это интересно... очень интересно,– в раздумье повторяла Калерия Ипполитовна, соображая во мгновение ока, чем она может воспользоваться из этого неожиданнаго открытия: чрез мистрис Кэй она может знать решительно все о Сусанне, и притом знать из первых рук. Это известие сразу подняло в глазах Калерии Ипполитовны авторитет англичанки, которая, как женщина, в тысячу раз наблюдательнее oncl'я или Романа и может быть ей очень полезна. Да, решено, Юленька будет учиться английскому языку. Знакомство с Бэтси было ускорено. Эта неловкая и застенчивая англичанка произвела на Калерию Ипполитовну самое выгодное впечатление, хотя опытная дама и заподозрела, что будущая наставница, Юленьки в достаточной степени глупа. "Впрочем, это даже хорошо для перваго раза,– решила про себя Калерия Ипполитовна.– Только сначала нужно будет ее приручить". Юленька отнеслась к своей наставнице совершенно равнодушно, точно эти уроки, совсем ея не касались. Но Калерия Ипполитовна после каждаго урока обязательно оставляла Бэтси пить кофе и, отослав Юленьку под конвоем Улитушки к maman, с самою светскою непринужденностью посвящала ее в мелочи своей домашней обстановки, даже пускалась в ту специальную откровенность, которая так сближает женщин. Эта тактика ставила Бэтси в самое неловкое положение, потому что застенчивая англичанка совсем не желала "красть" чужого доверия и краснела с самым смущенным видом, принимая знаки доверия Калерии Ипполитовны. Дело кончилось откровенным обяснением. – Я сделала большую ошибку, что согласилась заниматься в вашем доме,– заговорила Бэтси после одного из своих уроков.– Мне не хочется, чтобы вы ошибались на мой счет. Бэтси проговорила это с легкою краской на лице и с опущенными глазами, что к ней так шло: она все умела делать необыкновенно просто, как все чистыя натуры. – Ах, да, вы вот о чем...– догадалась Калерия Ипполитовна и в порыве чувства даже расцеловала Бэтси: бедная англичаночка была так жалка и, вместе, так хороша, что даже Калерия Ипполитовна смутилась за свою политику.– Послушайте, Бэтси... Вы позволите мне вас называть так?.. Мое правило, мой друг, никогда не вмешиваться в чужую жизнь. О ваших отношениях к Роману я слышала и только от души могу пожалеть вас. Роман мой брат, но я только лучше других знаю его недостатки: это совсем завертевшийся в петербургском омуте человек, который, вероятно, приносит не много счастия домой. Да? О, я это подозревала... Еще раз повторяю: до нашей интимной жизни никому нет дела. По крайней мере, я так понимаю вещи. Мужчины так много позволяют себе, что обвинять женщину за ошибку или за увлечение было бы слишком несправедливо. – А Julie?.. Учительница всегда должна служить примером. – И это пустяки. Юленьке еще рано думать об интимных отношениях, да и нынче не такое время, чтобы девушек воспитывать на институтский манер. Кругом и без того так много дурных примеров: в романах, на сцене, в костюмах, в картинах, даже в музыке. По-моему, образованной девушке не лишнее знать кое-что из того, что знают все большие, потому что такое знание предупредит лишния глупости и ошибки. Бэтси слушала Калерию Ипполитовну со слезами на глазах, но внутренно не могла с ней согласиться: ей казалось, что она уже одним своим дыханием заражает святыню домашняго очага. – Нет, это не так,– повторяла Бэтси, отрицательно качая головой.– Девочка будет большая и может упрекнуть вас. – Но ведь я мать Юленьки и могу взять все на свою ответственность,– не унималась Калерия Ипполитовна.– Наконец вы занимаетесь в других домах. – У Зоста я занимаюсь с мальчиками; это совсем другое дело. Потом я занимаюсь с одною дамой, которую вы, кажется, знаете: m-me Доганская. – Ах, да... я действительно хорошо знала Сусанну Антоновну,– равнодушно проговорила Калерия Ипполитовна и прибавила:– откровенность за откровенность, милая Бэтси: Сусанна моя бывшая воспитанница, но мы разошлись с ней. Это длинная семейная история, и я когда-нибудь разскажу ее вам, а пока могу сказать одно: я не сержусь на Сусанну... да. В подтверждение своих слов Калерия Ипполитовна разсказала в коротких чертах историю Сусанны и всю вину своего разрыва с ней свалила на Теплоухова и Богомолова, которые и теперь продолжают в своих собственных видах вооружать Сусанну против нея. – Вообще Сусанна сделала большую ошибку своим замужеством,– закончила Калерия Ипполитовна свой разсказ.– Ведь она не любит мужа... да? – Право, я ничего не знаю об их отношениях. – Да, конечно, судить мужа и жену со стороны слишком трудно, и все-таки есть известные признаки... мелочи, пустяки, которые достаточно говорят сами за себя. Впрочем, говоря откровенно, я не особенно интересуюсь; этим предметом... Бэтси, может-быть, и не вдруг поддалась бы на ласковыя речи Калерии Ипполитовны, но ей было так тяжело. Роман видимо увлекался Доганской и был счастлив только в ея обществе. Конечно, это был не первый случай в длинной истории увлечений Романа, но это не мешало Бэтси чувствовать себя глубоко несчастной, и она призывала на помощь всю свою энергию, чтобы сдержать подступавшия к горлу слезы. От зоркаго глаза Калерии Ипполитовны не ускользнуло душевное состояние ея жертвы, и на этот раз она прекратила разговор. – У этого Романа решительно нет никаких родственных чувств,– говорила Калерия Ипполитовна за следующим кофе.– Был у нас всего два раза, как мы в Петербурге. Где это он пропадает, Бэтси? – Собирает материалы. – Около Сусанны? – Да. – Скажите?!– пришла в ужас Калерия Ипполитовна.– Впрочем, этого следовало ожидать. Сусанна такая женщина, которая не остановится ни перед чем. Я не хочу сказать про нее что-нибудь дурное и за себя лично даже совсем не сержусь, но зачем она завлекает этого несчастнаго Романа, который готов бежать за первою попавшеюся на глаза юбкой? Ну, скажите на милость, что такое может представлять своей особой Роман для Сусанны? Ни выдающейся красоты, ни молодости, ни богатства, ни таланта,– решительно ничего, что могло бы иметь значение для такой женщины. – Вы в этом случае несправедливы к m-me Доганской,– вступилась прямодушная Бэтси.– Если кто-нибудь виноват, так это один Роман. У него совершенно неорганизованный характер. – Ах, нет и нет... тысячу раз нет!– горячо сказала Калерия Ипполитовна.– Уж если в чем можно, действительно, винить нас, женщин, так именно в этой несчастной слабости завлекать мужчин. И я никогда не поверю, чтобы порядочная женщина не сумела предупредить известную крайность, когда мужчина теряет голову. Поверьте, Бэтси, я сама была молода и знаю, что говорю. У каждой женщины в полном распоряжении тысячи средств, чтобы отделаться от слишком усердных поклонников. Все это можно сделать почти незаметно, под рядом самых благовидных предлогов. Я совсем не думаю оправдывать Романа, но и Сусанна не права. – Она не может быть ни правой ни неправой, потому что ничего не знает о моих отношениях к Роману,– признавалась Бэтси.– Даже и Роман не знает, что я занимаюсь с Доганской. Я сделала эту маленькую ложь, т.-е. не предупредила их, но ведь Роман так часто меня обманывал. – И не говорите, голубчик... С мужчинами всегда нужно держаться очень осторожно, как с нашим вечным и непримиримым врагом. Мужчины истинное несчастие нашей жизни, и мы приносим постоянно тысячи жертв стам безсердечным .гоистам. "О, Бэтси ревнует Романа, и остается только воспользоваться этим случаемь,– думала про себя Калерия Ипполитовна, довольная всею этою историей.– Теперь мы будем знать каждый шаг Сусанны Антоновны... Погодите, m-me Доганская, теперь вы сильны, потому что можете делить свою молодость и красоту между мужем и любовником, но наступит час, котораго женщине не прощают. Да... Нельзя изжить век, не любя!" Калерия Ипполитовна имела полное основание именно так думать, потому что сама слишком дорого заплатила за свой чиновничий брак. Она никогда не любила мужа и отдалась Доганскому в порыве неудовлетвореннаго чувства. Да, Доганский... Этот невозможный человек продолжал ездить к Мостовым, хотя Калерия Ипполитовна отдала Улитушке строгий приказ не принимать его ни под каким видом. Калерия Ишшлитовна просто не могла его видеть, да у нея и своих дел было по горло с разными хлопотами у влиятельных лиц. В течение двух месяцев своего петербургскаго существования Калерия Ипполитовна успела побывать у всех своих знакомых; кроме того, успела побывать везде, куда только представлялась какая-нибудь возможность попасть; и все это было проделано без всякой пользы. В счастливых случаях получались одни обещания, не стоившия выеденнаго яйца по петербургской цене. Оставалось последнее решительное средство – это старые друзья maman. Князь Юклевский,– кстати, Улитушка уверяла, что Роман вылитый князь!– принял ее внимательно, но это была такая развалина, и притом эта развалина обременена была такою коллекцией необыкновенно сложных болезней, что ничего не оставалось, как только бежать без оглядки. – У вас там в Сибири, говорят, есть такая ягода облепиха...– шамкал князь, полулёжа в американском кресле со всеми приспособлениями для умирающих. – Да, князь, есть. Из нея делают наливки,– обясняла Калерия Ипполитовна больше при помощи знаков, потому что князь до обеда был глух, а после обеда слеп. – А мне говорили, что это что-то в роде китайскаго жень-шеня... Барон Шебек был совсем еще бодрый старичок из остзейских ландлордов, но его звезда уже закатилась, о чем предупреждали Калерию Ипполитовну, но она все-таки поехала к барону, чтобы убедиться своими глазами в печальной истине. Барон понимал положение своей гостьи и долго качал сочувственно остзейской головой. – Как здоровье Annette... т.-е. Анны Григорьевны?– справлялся барон, прищуривая глаза. – Благодарю вас, барон, maman пользуется хорошим здоровьем для своих лет. Старичок как-то весь сежился, оглядел свой кабинет и шопотом проговорил: – Я должен вас предупредить: для всех нас одно спасение, это – нефть. – Как нефть, барон? – Да, да, нефть... Передайте это Annette, она обяснить вам все. Помните только одно: нефть. Этот барон Шебек через два дня помешался: нефть сделалась его idée fixe. Оставался один Андрей Евгеньич. Калерия Ипполитовна отправилась к нему не без некотораго трепета, и Улитушка даже благословила ее вслед: ведь Леренька не чужая была этому Андрею Евгеньичу, что она и сама слыхала от maman, хотя не верила ей, потому что у maman было так много разных приключений в ея тревожной молодости, а человеческая память ограничена. Андрей Евгеньич жил на Английской набережной. Это был худенький, маленький, живой старичок с ласковыми глазами; он сильно бодрился, хотя одна тоненькая ножка Андрея Евгеньича уже не действовала. Пока Калория Ипполитовна передавала ему обстоятельства своего настоящаго положения, Андрей Евгеньич внимательно поднимал и опускал свои крошечныя брови и наконец в утешение своей гостьи проговорил: – Я вполне сочувствую вам, моя крошка... Ведь я вас помню еще ребенком, когда носил на руках! Да... Я понимаю вас и сочувствую, потому что у меня у самого большое горе: вы знали, конечно, эту маленькую Фанни, которая танцовала пятнадцать лет у воды,– эта неблагодарная маленькая особа покинула меня. Положим, это в порядке вещей, но обидно то, что она переменила меня на редактора какой-то грязной, уличной газетки. Да, вот в какое ужасное время мы живем. События и лица немножко путались в лысой голове Андрея Евгеньича, и он говорил о своем горе, как о деле известном, хотя Калерия Ипполитовна совсем и не подозревала о существовании неблагодарной Фанни. Во время разговора старичок несколько раз принимался очень внимательно разсматривать свою гостью и, как чувствовала Калерия Ипполитовна, находил ея состарившейся. Когда-то Андрей Евгеньич очень ухаживал за Леренькой, когда она еще не была замужем и когда у нея был такой свежий бюст. Чтобы попасть в тон лакомому старичку, Калерия Ипполитовна разсказала не без остроумия свою историю с Сусанной, хотя и не назвала ея фамилии. – Слышал... да, слышал что-то такое,– задумчиво повторял Андрей Евгеньич.– Это вы про Мороз-Доганскую?.. Мне тут разсказывал эту историю один господин, он тоже из Сибири... позвольте, как его фамилия? – Богомолов? – Да, да. И, говорят, красавица эта Доганская. Что-то необыкновенное, в восточном вкусе... Богомолов успел предупредить Калерию Ипполитовну, и она уехала с пустыми руками. "Господи, что же это такое будет, наконец?– думала она, возвращаясь на свое пепелище.– Ведь живут же другие люди?.. Облепиха... нефть... Фанни... Нет, это решительно невозможно!"