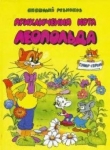Текст книги "Бурный поток"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
I.
Меблированныя комнаты Зинаиды Тихоновны Квасовой находились на Вознесенском проспекте, между Казанской и Офицерской улицами. Место было хотя и удаленное от главнаго центра, но достаточно бойкое, и Зинаида Тихоновна всем новым жильцам считала своим долгом обяснить, что "это только кажется, что будто далеко, а на самом деле совсем рукой подать хоть до чего угодно". – По Казанской прошел – сейчас Невский,– говорила Зинаида Тихоновна, делая соответствующий случаю жест своею полною белою рукою.– А главное, тиятры близехонько: завернулся по Офицерской – и в тиятре. Все господа даже очень довольны остаются, потому что здесь и пешком можно дойти; глядишь, полтина и в кармане. Да-с... Впрочем, Зинаида Тихоновна была настолько обстоятельная и приличная женщина, что нисколько не навязывалась со своими номерами, как, но ея убеждению, делали другия содержательницы chambres garnies. Главное, чтобы все было по-благородному; это было величайшею слабостью почтенной Зинаиды Тихоновны, потому что она и себя считала благородной, хотя в паспорте прописана была просто кронштадтскою девицей мещанскаго звания. Высокая, полная, с красивым русским лицом, Квасова была еще женщина "совсем в поре", как говорят свахи, хотя в отяжелевшей, развалистой походке и общем ожирении сказывалась уже пожившая женщина. Одевалась она по моде и притом в темные цвета, умела держать себя, но переделать свое мещанское произношение была не в силах и говорила "тиятр", "ушедчи", "пришпехт" и т. д. В ранней юности Квасова попала в Петербург цветочницей, где и прошла очень тяжелую школу в одном "заведении искусственных цветов" на Большой Садовой. Репутация этой профессии хорошо известна, и Зинаида Тихоновна еще худенькою, не сложившеюся девочкой-подростком уже познакомилась со всеми тонкостями грошовых танцклассов, маскарадов и разных шато де-флер, где, между прочим, сошлась с одним ласковым старичком, который окончательно устроил ея судьбу. Живя с этим обожателем, Квасова выровнялась, пополнела и понемногу забрала лакомаго греховодника в свои мягкия руки. Эта связь с ним кончилась тем, что после смерти старичка Зинаида Тихоновна открыла свои меблированныя комнаты и зажила уже вполне честно и благородно, настоящею дамой, и не любила распространяться о своем прошлом. Но, несмотря на все желание быть настоящею дамой, у Зинаиды Тихоновны сохранилось много мещанскаго и кроме произношения. Так, она не пропускала ни одного аукциона и вообще продажи по случаю, где накупала всякой дряни, любила иногда побаловаться простою мещанскою пищею – щами с кашей из толстой крупы с конопляным маслом, редькой и т. д., не прочь была напиться кофе с какою-нибудь забвенною старушкой прямо в кухне, любила слушать сплетни своих клиенток и вообще знала подноготную своего околотка вполне основательно. Особенно проявлялась мещанская складка в характере Зинаиды Тихоновны, когда вопрос заходил о нарядах и чисто-женском превосходстве. Быть лучше одетой, чем другие, пользоваться известным почетом – это, впрочем, недостатки слишком общие, и Зинаиде Тихоновне часто приходилось расплачиваться за них, потому что разные льстивые и покладистые люди постоянно эксплоатировали ее. – И знаю, что в глаза мне врут, а уж сердце у меня такое,– обясняла она, когда ей за ея добро платили самою черною неблагодарностью.– Что же, миленький, делать, за нами бы чужое не пропадало... Кривдой-то немного проживешь! За всем тем, Зинаида Тихоновна была очень добрая и даже чувствительная женщина, говорившая всем, что надо жить по совести и по человечеству. Особенно хорошо умела говорить она слова: "миленький" и "голубчик", причем даже закатывала свои карие ласковые глазки. В своих меблированных комнатах Зинаида Тихоновна ютила всякую родню, благо работы было на всех, начиная от швейцара Артемия и кончая распоследним кухонным мужиком, или, как говорила Зинаида Тихоновна, кухольный. Горничная Людмила приходилась ей троюродною племянницей, лакей Иван, пьяница и грубиян, внучатным племянником, упомянутый швейцар Артемий, человек гордый и завистливый,– каким-то очень мудреным родственником и т. д. От этой родни Зинаиде Тихоновне доставалось особенно горько, потому что для кого же больше и сделать, как не для своей родни, а между тем эта самая родня поголовно оказывалась самою неблагодарной. Возьмет Зинаида Тихоновна какого-нибудь родственника прямо с улицы, обует, оденет, накормит, обогреет и к месту пристроит, а родственник в отплату начинает разныя пакости учинять: пьянствует, грабит, разстраивает жильцов и прислугу, распускает самыя невероятныя сплетни про Зинаиду Тихоновну и т. д. Замечательно было то, что через руки Зинаиды Тихоновны прошли целые десятки таких милых родственников, и все-таки она не могла прогнать от себя голоднаго и холоднаго человека и даже надеялась, что вот этот-то и не будет такой, как другие, как тот же швейцар Артемий, котораго она собиралась сменить за грубость и разныя неподобныя дела в течение семи лет чуть не каждый день, или этот горький пьяница лакей Иван, или неблагодарная горничная Людмила. Случалось так, что Зинаида Тихоновна даже плакала от человеческой несправедливости, но потом опять примирялась со своею судьбой, хотя клялась всеми святыми, что это уж в последний-распоследний раз, и что ежели да она еще возьмет хоть одного родственника или родственницу, то пусть у ней, Зинаиды Тихоновны, отсохнет рука и нога. – А я так полагаю в своих мыслях, Зинаида Тихоновна,– говорила не раз одна разбитная сваха с Васильевскаго острова,– что по вашему золотому сердцу прямо быть бы вам в генеральшах... Да и теперь-то чем ты хуже другой генеральши? Как наденешь соболью шубу да прифрантишься, да как павой пройдешь по улице,– графиня, мать моя!.. Иногда, в минуты душевнаго разслабления, и сама Зинаида Тихоновна начинала думать на тему, отчего в самом деле не сделаться ей генеральшей, но действительность отрезвляла ее, потому что ведь и генералы есть такие прохвосты, что не рад жизни будешь. Зинаида Тихоновна нагляделась-таки довольно на своем веку на всяких господ, и у ней выработалось то скептическое отношение к людям, каким отличаются все столичные обыватели, хотя в ней этот скептицизм уживался рядом с чисто-бабьей простотой, поддававшейся на самую грубую лесть, едва сшитую живыми нитками. Появление Мостовых в меблированных комнатах Квасовой произвело некоторую сенсацию, как рождение ребенка в большой семье. – Уж не очень-то я люблю пускать к себе женатых, да, видно, делать нечего,– откровенно обяснила Зинаида Тихоновна, когда к ней приехал для предварительных переговоров Покатилов.– То ли дело холостой человек... А как заведутся эти дамы и начнут всякий угол обнюхивать, да фыркать, как кошки... Извините уж меня, Роман Ипполитыч, я пряменько вам говорю, потому вы все равно, что свой человек... Для вас только и пущаю, потому как ваша сестрица. – Да ведь у вас живет же эта дама с дочерью? – Урожденная княжна Несмелова-Щурская? А это другой разговор... Конечно, она живет с дочерью и сама настоящая дама, только ведь это какая дама... этаких с огнем поискать! Живет, как в келье: все книжку с дочерью вместе читают или на фортепианах разыгрывают, да когда-когда разве в тиятр соберутся. Явившись осмотреть свой номер, Калерия Ипполитовна держала себя с большим гонором. Во-первых, было всего четыре комнаты, во-вторых, окна выходили на север, в-третьих, по углам отстали обои в некоторых местах, значит, зимой бывает сыро, и т. д. – Но ведь мы только пока,– величественно обяснила Калерия Ипполитовна, ревизуя все тонкости.– Роман, вероятно, предупредил вас об этом? – Да, Роман Ипполитыч разсказывали,– отвечала Зинаида Тихоновна с скромным достоинством.– Конечно, где же вам обзаводиться в столице всем хозяйством, когда вы и всего-то проживете здесь, может-быть, без году неделю? Заводись, а потом все бросай, да и дороговизна нынче на все страшная. – Мы в Петербурге только на время... Муж не совсм здоров, да еще вот дочь необходимо воспитывать,– обясняла Калерия Ипполитовна, машинально повторяя свою стереотипную ложь, которая была придумана для знакомых.– Мы у вас, может-быть, и стол будем брать, если заживемся дольше, чем предполагаем теперь. В цене вышла маленькая размолвка, пока стороны не сошлись на семидесяти рублях за четыре комнаты в месяц, хотя Зинаида Тихоновна клялась, что раньше этот номер всегда ходил по сту рублей. "Прижимистая ты баба, вижу я,– думала про себя Зинаида Тихоновна,– тоже спускать ежели вашему брату, так сама с кошелем находишься". – Так вы уж так и знайте, что мы на время,– еще раз предупредила Калерия Ипполитовна на прощанье.– Конечно, четыре комнаты для нас маловато, но как-нибудь потеснимся пока. Самое большое, если мы проживем до масленицы, чтобы уехать отсюда по последнему зимнему пути. – Хорошо, хорошо, как знаете, я никого не неволю,– соглашалась на все Зинаида Тихоновна, сдерживая вертевшееся на языке ядовитое словечко. – Знаем мы вас, как вы на время сюда приезжаете!– роптала Зинаида Тихоновна, оставшись одна.– Погоди, матушка, лишний-то жир спустишь здесь, так шелковая будешь. Да я бы еще и не пустила вас, если бы не Роман Ипполитыч просил, потому как я их давно и очень хорошо знаю: они настоящий барин и даже очень много добра делают моему-то капитану. Ох, уж этот мне капитан, а куда его денешь?.. Зинаида Тихоновна говорила почти правду, потому что имела в виду угодить Покатилову, который покровительствовал ташкентскому капитану в редакции "Искорок". Высшею похвалой на языке Зинаиды Тихоновны был эпитет: "добрый", и ее всего легче ловили разные родственники и клиенты именно на эту удочку. Положение капитана Пухова в меблированных комнатах Квасовой было обставлено совершенно исключительными условиями; благодаря этим условиям, пред капитаном преклонялся даже сам швейцар Артемий, отчаянный "заедуга" и "злыдня", как его величали все жильцы и сама хозяйка. Капитан явился в меблированныя комнаты как-то совершенно неожиданно, выбрал себе номер и сейчас же сделался своим человеком, точно он здесь всегда жил. Он редко в срок платил за квартиру, грубил хозяйке, усчитывал прислугу и вообще держал себя на правах маленькаго хозяина, и все это ему сходило с рук. Швейцар Артемий, из отставных солдат, весь белый, как яблонный червяк, уважал капитана по старой солдатской замашке, как офицера, а потом – за простоту; сама Зинаида Тихоновна спускала многое капитану, потому что он являлся тем "мужчиной", к которому она могла прибегнуть за покровительством и защитой в критические моменты. – В этаком-то деле без мужчины где же управиться по нашему бабьему положению,– обясняла Квасова,– а теперь только скажу капитану, да он всех вверх дном поставит... Военная косточка, шутить не любит. За капитаном так и установилась эта репутация грозы всего заведения, как-то странно уживавшаяся с капитанскою добротой, и даже прислуга, когда происходили взаимныя недоразумения, всегда последним аргументом выставляла имя капитана: "Ужо вот скажу капитану, так он те задаст... Он ведь не свой брат, капитан-от!". К этой угрозе прибегала даже сама Зинаида Тихоновна, когда хотела привести кого-нибудь из своих жильцов в полное отчаяние. А главное, она могла постоянно обращаться к капитану за советами, это было для нея необходимо, как воздух, потому что "мужчины" и пр. Капитану приходилось решать даже такие запутанные вопросы, как выбор материи на платье, заготовка овощей, разныя тонкости внутренней политики, истолкование снов и даже лечение домашними средствами от разных недугов. Конечно, злые языки из такого исключительнаго положения капитана создавали самыя некрасивыя обяснения. Интимность капитана и Зинаиды Тихоновны трактовалась на тысячи ладов, особенно за пределами меблированных комнат, причем все повторяли, что "ничего, капитан ловко обделывает свою сударушку" и т. д. Эти слухи доходили и до капитана и каждый раз приводили его в бешенство, он клялся всеми богами разорвать на части перваго, кто осмелится сказать что-нибудь "сумлительное" про Зинаиду Тихоновну. Отношения капитана к дочери Сусанне Квасова, конечно, знала из первых рук, и это обстоятельство поднимало в ея глазах капитана на необыкновенную высоту, потому что чего стоило капитану смотреть на дочь, как все другие, и он катался бы, как сыр в масле. Мещанская душа Зинаиды Тихоновны инстинктивно чувствовала, что есть какая-то другая, высшая мера вещей, чем та, которой руководилась в жизни даже она, и что есть люди, которые стоят выше обычных условий мещанскаго счастья. Даже самое слово "свинство", которое капитан любил употреблять в минуты душевных волнений, нагоняло на нее какой-то детский страх, потому что Зинаида Тихоновна чувствовала за собой многое, что подходило под это слово, конечно, глядя с капитанской точки зрения. – Уж и не знаю, как мне и быть: пустить-то я пустила Мостовых, а только не по душе мне эта самая барыня,– жаловалась Зинаида Тихоновна, призвав к себе капитана на стакан кофе.– Теперь у нас, слава Богу, все тихо и мирно, не могу пожаловаться на прочих жильцов, а тут еще неизвестно, что будет. Капитан крутил и дергал свои усы, хмурился и наконец не вытерпел; стукнув по столу кулаком, он, по обыкновению, закричал: – Терпеть не могу этого притворства!.. Ну, пустила и конец делу. Не понравились – прощайте. Кажется, коротко и ясно, так нет, нужно напустить на себя это самое сиротство, нужно стонать да плакать... Тьфу! Мне Калерия Ипполитовна вот где сидит (капитан показал на затылок), а ведь я не жалуюсь... Понимаете, не жалуюсь... Так-то-с, сударыня-с... – Уж пошел, порох!... Да ведь я к тому сказала, что после этакого вольнаго житья этой Калерии Ипполитовне, пожалуй, не понравится у нас; ну, будет прислугу разстраивать, да и других жильцов на сумнение наведет. – Конечно, где же им так жить, как на заводах?– согласился капитан, утишая свой дух.– Нужно пятнадцать тысяч годового дохода... да-с. Министерская квартира, двенадцать человек прислуги... хе-хе!.. Однех горничных у Калерии-то Ипполитовны было целых четыре да пятая нянька-старуха. По-княжески жили, одним словом... А сам-то Мостов ничего, смирнее курицы и очень порядочный человек. – Его-то я мельком видела... Старичком уж выглядит, а так ничего, обходительный человек, видно, что с понятием. Ну, да все это ничего, уладимся как-нибудь, а вот сон нехороший видела, капитан, такой особый сон, будто бегу я на гору, тороплюсь, а гора все растет, все растет, а другие все так меня обгоняют, даже обидно сделалось, а потом Романа Ипполитыча видела, и тоже как будто нехорошо... – Кровь вас душит, сударыня, вот вам горы-то и представляются,– коротко решил капитан.– Это от комплекции случается. – Тьфу ты, окаянный... и скажет только!– отплевывалась Зинаида Тихоновна с благочестивым ужасом.– Да что я, разве какая-нибудь... Обыкновенно, женщина в поре, не перестарок какой... Уж только и скажет! Зинаида Тихоновна даже сочла долгом обидеться, хотя шутки капитана каждый раз заставляли ее приятно волноваться, потому что, стараясь быть настоящею дамой, Зинаида Тихоновна не могла окончательно отрешиться от разных бабьих слабостей. Как у всех одиноких женщин, у Зинаиды Тихоновны была настоящая страсть к чужим делам, особенно к разным семейным историям, а теперь ея вниманию предстояло распутать громадное дело, в котором переплетены были имена Мостовых, Доганских, Теплоухова и капитана. "Из-за чего-нибудь да не даром Сусанна Антоновна смазала Калерию-то Ипполитовну,– соображала Квасова, увлекаясь представившеюся головоломною задачей.– Конечно, мужчины ничего не понимают в этих делах, а уж тут не просто. Да и Калерия Ипполитовна тоже женщина гордая, не попустится, пожалуй. Это даже хоть до кого доведись". Это обстоятельство входило в число хозяйственных соображений, когда Зинаида Тихоновна пускала Мостовых в свои номера.
II.
Когда Мостовы переехали на новую квартиру, "короли в изгнании" отлично знали всю их биографию, конечно, с необходимыми комментариями и поэтическими вставками, какия неизбежно делаются в таких случаях даже самыми добрыми людьми. Разносчиками этих вестей главным образом служила, конечно, прислуга, а потом сама хозяйка. "Снежный генерал" Барчанинов, одолевавший своими проектами о снеговых укреплениях редакции всех газет, журналов и специальных изданий, узнал историю новых жильцов, кажется, первый, когда швейцар Артемий принес ему вычищенные сапоги. Обыкновенно Артемий держал у себя генеральские сапоги по неделям, а тут вычистил их сейчас же, явился в номер к генералу и торжественно поставил их посредине комнаты. Сапоги блестели, как полированные, а генерал, пивший с газетой чай, милостиво кивнул верному слуге, но Артемий оставался на прежнем месте и нерешительно переминался с ноги на ногу. – Ты, любезный, кажется, что-то имеешь сказать?– предупредил его генерал, складывая газету. – Да так-с, ваше превосходительство... жильцы у нас новые,– таинственно доложил Артемий, понижая голос до шопота.– Симон Денисыч Мостов, бывший главный управляющий на Заозерских заводах г. Теплоухова... двенадцать тысяч жалованья получали при готовой квартире, отоплении и освещении, двенадцать человек прислуги держали и прочее в этом роде. Они, значит, с женой и с дочерью и прислуга при них, какая-то старушонка. Очень богатые-с... тысяч пятьдесят одного капиталу имеют, окроме разных других предметов. – Ну, и что же из этого следует?– внушительно спросил генерал, поднимая свои брови. – Да ничего-с, а я только пришел доложить вашему превосходительству,– продолжал Артемий, делая безнадежно-глупое лицо.– Конечно, Зинаида Тихоновна мне родственница, а я, ваше превосходительство, прямо скажу, что эти жильцы не по нас... против шерсти, значит, потому как при этаком капитале где же на них угодить... – Послушай, любезный, ты знаешь, что я не выношу подобных дрязг,– растягивая слова, проговорил генерал,– потому я прошу тебя, любезный, раз и навсегда избавить меня от подобных разговоров. Это не мое дело. – Точно так-с, ваше превосходительство... Виноват... А я только к тому сказал, что Зинаида Тихоновна, хоша она мне и родственница, а... – Убирайся вон!– крикнул генерал настолько громко, что Артемий выпятился в дверь сейчас же. Эта сцена, с небольшими вариациями, повторилась в квартире отставного штык-юнкера Падалко, с которым Артемий разговаривал уже совсем смело и под пьяную руку часто даже грубил. – Говоришь, у них дочь?– спрашивал Падалко, приглаживая свою лысевшую голову.– А большая она? – Да так лет пятнадцать, поди, будет, ваше блаародие,– рапортовал Артемий с тою особенною кривою улыбочкой, с какой говорил о прекрасном поле.– Того гляди заневестится... – И хорошенькая? – Ничего-с... в настоящей комплекции, антик с гвоздикой. Вот бы вашему блаародию самая подходящая статья, потому пятьдесят тысяч не баран чихал. – Ну, братец, мне на деньги наплевать,– задумчиво отвечал Падалко, начиная ходить по комнате.– У меня дело на-днях окончательно вырешится, а тут верных полтораста тысяч... Понял? Я единственный наследник после бабушки. – Уж это на что лучше, ваше блаародие, а все-таки этакой шманкухен не скоро сыщешь. – Ах, ты, шельма этакая... Еще и "шманкухен" знает!.. Ха-ха... Приземистый, сухой, со впалою чахоточною грудью, Падалко вечно ходил по своему номеру и не выпускал изо рта дешевой рижской сигары; за это вечное хождение он был известен у прислуги под названием "маятника". Лицо у него было круглое, желтое, с черными безпокойными глазками и с вытянутыми шильцем черными усиками. Двигался он вообще необыкновенно быстро, сохраняя старую военную выправку. Богатой родни у него было пол-Петербурга, но он жил крайне скромно и почти нигде не бывал. "А чорт возьми, действительно лакомый кусочек!– думал Падалко, обсуждая про себя принесенное Артемием известие.– Ежели к полуторастам тысяч моего наследства прибавить невесту с пятьюдесятью тысячами приданаго, это уж будет целый куш". Все свободное время Падалко тратил на примерныя сметы того, как он распорядится с наследством: сто тысяч в банк, а пятьдесят тысяч на обстановку. Эта обстановка для него заключалась, главным образом, в охоте; коллекция ружей всяких мастеров – Пюрде, Ричардса. Лебеды, Пипера,– потом свора собак, егеря. – Да, чорт возьми, можно было бы лихо поработать: в Малороссии стрелять дроф, на Кавказе фазанов и кабанов, на Урале оленей и медведей, даже в Ташкент можно будет забраться, чтобы устроить охоту на тигра. Пятьдесят тысяч приданаго будущей невесты придали новый блеск этим радужным мечтам, и целую ночь Падалко травил необыкновенно матераго волка где-то в Саратовской губернии. Пьяница Иван, "отвечавший за лакея" в меблированных комнатах Зинаиды Тихоновны, разнес новость остальным жильцам: бывшему заводчику Радлову, двум инженерам без места, комиссионеру Грибелю и ех-певцу Микучевскому. Рослый и горластый Радлов, настоящий помещичий выкормок, держал себя ландлордом в меблированных комнатах; он одевался всегда по последней английской моде, носил длинные, глухие сюртуки, цветные галстуки и английский пробор. У Радлова где-то были какие-то заводы, но они ушли с молотка, а он теперь "вынашивал", как он сам выражался, проект соединения бассейнов Печоры и Оби линией железной дороги. Концессия на эту дорогу должна была обогатить его, и это было только "вопросом времени". Два инженера, занимавшие одну комнату, служили где-то в Восточной Сибири, имели теплыя местечки, лишились их по каким-то интригам, и на этом основании один из них хлопотал об отведении себе участка в "керосиновом раю", где-то в Бакинской области, а другой не знал еще, что выбрать: эксплоатацию сферосидеритов в Новороссии или разработку каменноугольных залежей на Дону. Одевались инженеры чисто, хотя до Радлова им было далеко, как говорил Артемий. Комиссионер Грибель, какой-то безродный немец, мечтал о необыкновенном магазине-monstre, который должен был занять весь четыреугольник, образуемый Невским, Караванною улицей, Манежною площадью и Малою Садовою. Грибель исправно каждый день отправлялся осматривать этот заветный пункт и на месте нынешних домов видел громадный дворец из железа и стекла, с рядами галлерей, с пневматическими элеваторами, с электрическим освещением, с тысячами покупателей. Это чудовище должно было заключать в себе все, начиная с детских игрушек и кончая магазином гробовщика. Певец Микучевский, сухой и желчный южанин, не задавался никакими химерами и не обманывал себя никакими радужными мечтами, кроме того, что никак не мог переварить театральной дирекции, загораживавшей ему путь к несомненному успеху. Эта коллекция "королей в изгнании" заканчивалась каким-то безыменным греком Ляпидусом, который неизвестно для каких целей добивался открыть какую-то театральную газету. Известие о новых жильцах взбудоражило всю эту разношерстную толпу, отразившись в каждом по-своему. Радлов долго разсматривал свою физиономию в зеркало и находил, что он еще не настолько состарился, чтобы не разсчитывать на успех у женщин, а сто тысяч приданаго этой Мостовой (Иван любил эту цифру сто, которая врезалась в его пропитанном водкой мозгу с того времени, как перед самою волей барин закатил ему сто горячих) совсем не лишнее. Микучевский целый вечер вытягивал какое-то неимоверно высокое do, совсем неизвестное в канцелярии театральной дирекции. Инженеры сначала долго поверяли друг другу свои заветныя мечты на самыя лакомыя темы и кончили молчаливою ссорой, как умеют ссориться только люди, слишком долго прожившие с глазу на глаз в одной комнате: каждый подозревал другого в тайном намерении ухватить куш наперед. Эта размолвка инженеров имела своим непременным последствием груды окурков, по которым прислуга всегда знала степень взаимной дружбы инженеров: когда они ссорились, окурки появлялись в ужасающем количестве. Грибель и Ляпидус, как люди пожившие, взглянули на дело трезвее других, хотя проклятая цифра сто тысяч долго не давала им спать. "Только бы мне заполучить концессию",– думал Радлов, особенно тщательно расчесывая свои редевшие волосы. – А вот мы посмотрим, что скажет дирекция, когда у меня будет сто тысяч!– говорил вслух Микучевский, делая перерыв своих неистовых сольфеджий.– Интересно! Конечно, история падения Мостовых в Заозерских заводах, связь этой истории с выходом замуж дочери капитана Пухова за Доганскаго, наконец тайная политика, с какой явилась в Петербург Калерия Ипполитовна,– все это сделалось известным "королям в изгнании" какими-то неведомыми путями, так что они и сами затруднились бы обяснить, откуда могли узнать все эти подробности. Но все меблированныя комнаты устраиваются на одну колодку, а "королям в изгнании" и Бог простит заниматься чужими делами больше, чем своими, Отдельно от других в номерах Квасовой держались двое жильцов: урожденная княжна Несмелова-Щурская с дочерью Инной и "спорный заводчик" Мансуров, известный в номерах под именем Ильи Ильича, или просто барина. Ни Артемий, ни пьяница Иван не решались заявиться к ним с подробным рапортом о случившемся событии, предоставив эту завидную роль разбитной горничной Людмиле. Это была очень бойкая и развязная особа, видевшая, по словам Артемия, на два аршина под землей; она еще была молода. Артемий, в виде особенной любезности, давал ей иногда подзатыльники и постоянно ревновал ее к Илье Ильичу, потому что, по его расчетам, Людмила оставалась в комнате барина дольше, чем было нужно для уборки этой комнаты. Прибирая комнату Ильи Ильича, Людмила, как бы невзначай, проговорила: – А к нам богатая невеста переехала... Илья Ильич в это время сидел в одном халате над каким-то письмом и даже не повернул головы, что Людмилу задело за живое, и, чтобы подзадорить барина, она ему расписала всю подноготную переехавших господ. – Отстань,– коротко заметил Мансуров, припоминая, где он слышал фамилию Мостовых.– Ах, да, о них что-то такое разсказывал мне Богомолов... да, у них еще какая-то вышла история с Мороз-Доганским,– припоминал Илья Ильич. – А как женитесь, барин, так уж меня возьмите в горничныя,– трещала Людмила, обтирая пыль на письменном столе.– Я буду во всем помогать барыне. Урожденная княжна Несмелова-Щурская выслушала болтовню горничной с недовольной миной, но все-таки выслушала и в заключение пожала своими узкими плечами. Это была высокая и костлявая дама, сильно походившая в своем неподвижном величии на замороженную рыбу; узкое, безцветное лицо с такими же безцветными глазами делало ее старее своих лет, хотя она по институтской выправке всегда держалась на стуле прямо, как стрела, и ходила, даже у себя дома, прижав локти к самой талии. Дочь Инна была самая несчастная, замуштрованная девушка; она, в качестве последняго отпрыска выродившейся аристократической семьи, в своем худеньком семнадцатилетнем теле носила целую коллекцию наследственных болезней необыкновенно сложнаго характера. Говорили, что у урожденной княжны есть порядочный капитал, и что она жмется в меблированных комнатах Зинаиды Тихоновны только по своей скупости. – Барин-то Мостов простой,– докладывала Людмила,– а барыня такая карахтерная, говорят... В квартире бывшей княжны Людмила являлась единственным живым человеком, потому что, за исключением нескольких парадных выездов, эта дама нигде не бывала и у ней редко кто появлялся. Поэтому Инна чувствовала особенную симпатию к Людмиле и в тех редких случаях, когда мамаши не было дома, она отводила с ней душу, поверяя свои тайны. – Погодите, барышня, не все же вам кинарейкой жить,– говорила Людмила, всегда готовая на интриги и подговоры.– Вот ужо подвернется женишок, тогда еще поживете в свою волю. – Я боюсь, Людмила, этих мужчин,– задумчиво отвечала Инна, разсматривая свои тонкие пальцы.– Они так громко стучат ногами и так хохочут, что maman каждый раз сердится. Людмила хохотала и шопотом разсказывала барышне про всех жильцов что-то такое, что та начинала краснеть и опускала глаза. В каких-нибудь два дня через эту же самую Людмилу Калерия Ипполитовна знала биографию всех своих соседей до мельчайших подробностей, а также и curriculum vitae самой хозяйки, причем Людмила не поскупилась на краски. – Старика, с которым наша Зинаида жила, она отравила, а деньги стариковы взяла себе да на них эти самыя меблированныя комнаты и открыла,– разсказывала Людмила, задыхаясь от усердия.– А теперь живет с капитаном. – С каким капитаном?– полюбопытствовала Калерия Ипполитовна. – Да тут есть такой заблудящий капитан. Антон Терентьич Пухов... Горькая пьяница этот капитан, Калерия Ипполитовна, а нашей Зинаиде под самую стать пришелся. Людмила разсказывала все это с таким глупым лицом, что никто бы не заподозрел ее в преднамеренной лжи, а между тем Людмила отлично знала отношения Постовых к Мороз-Доганским, и что Сусанна дочь Пухова. Это известие для Калерии Ипполитовны было неприятною неожиданностью, и она едва сдержалась, чтобы сейчас же при горничной не проявить своего гнева. Такое близкое соседство капитана Пухова ее не особенно смущало, хотя она и не имела особеннаго желания встречаться с ним, но ее взбесило поведение милаго братца Романа, который отрекомендовал именно эти проклятые номера. Эта невольная ошибка доставила Симону Денисычу прескверный вечер, один из тех горячих вечеров, после которых Калерия Ипполитовна ложилась в постель, как сделала и теперь. – Это все ты... ты...– шептала Калерия Ипполитовна, обвязав голову двумя пуховыми платками.– И Роман тоже хорош... уж все эти столичные родственники на один покрой! Отлично устроились, нечего сказать... Вот когда попали в настоящую trou, как выражается Юрий Петрович. – Леренька, ради Бога, не волнуйся,– умолял Мостов, чувствуя за собой все вины.– Ведь мы наконец не обязаны жить у Квасовой, а можем всегда переменить квартиру... Притом мы, может-быть, проживем в Петербурге всего какой-нибудь один месяц. У меня есть надежды. – И он еще говорит... он говорит?!– опять стонала Калерия Ипполитовна, воздевая руки к небу.– Ты несчастие всей моей жизни... ты погубил меня... ты... ты... ты... Одна неприятность, как известно, не приходит, и следующим номером для Калерии Ипполитовны явился швейцар Артемий. Да, в жизни слишком много самых нелепых столкновений, которыя просто отравляют существование, хотя в сущности, если разобрать дело серьезно, так и говорить не о чем. Ну что такое мог представлять своей особой для такой дамы, как Калерия Ипполитовна, какой-нибудь швейцар Артемий, а между тем именно этот Артемий сидел у ней в мозгу, как заноза, она его возненавидела с перваго раза, и его дерзкая рожа отравляла ей каждый выход и каждое возвращение в trou. Начать с того, что Артемий совсем не считал нужным кланяться Калерии Ипполитовне, не бежал стремглав отворять перед ней дверей подезда, не помогал садиться на извозчика и тому подобное, что делал для других жильцов. Притом он всегда так дерзко смотрел ей прямо в глаза и даже что-то бормотал вслед, так что Калерия Ипполитовна, не глядя на этого противнаго человека, чувствовала на себе его дерзкий взгляд. Раз она ясно разслышала, как он ворчал: – Наедет всякая шантрапа в Петербург, а сами калош не умеют снять в передней... Вон как наследила по ковру, точно корова! Действительно, Калерия Ипполитовна прямо с извозчика в калошах прошла в свой номер и оставила следы грязи на тропинке, покрывавшей лестницу. Это было уже слишком. Швейцар будет делать ей замечания! Бешенство Калерии Ипполитовны увеличивалось особенно сознанием, что она, в качестве благовоспитанной дамы, уж совсем не должна спускаться до гнева на какого-то швейцара, а между тем этот гнев заставлял ее даже бледнеть. Дело в том, что в нормальном состоянии духа Калерия Ипполитовна конечно, игнорировала бы с высоты своего величия поведение Артемия, но теперь это поведение для нея являлось тою каплей, которая переполняла сосуд: именно собственное фальшивое положение никогда еще не выступало для Калерии Ипполитовны с такою режущею ясностью, вызывая целый ряд воспоминаний о собственной прислуге в Заозерских заводах. Да что прислуга! Там перед Калерией Ипполитовной пресмыкались нижайшими послушниками десятки заводских служащих, она умела везде себя поставить, и вдруг какой-нибудь швейцар Артемий! Как все слишком обиженные люди, она почувствовала жгучее желание сорвать свой барский гнев именно на этом человеке и обратилась с жалобой на Артемия к самой Зинаиде Тихоновне, – Я больше вашаго от него терплю,– обяснила Зинаида Тихоновна, безпомощно разводя руками,– а что поделаешь с ним? Вот в номерах Баранцева, где живет ваш братец, есть тоже швейцар, Григорий, так тот еще хуже нашего... Ей-Богу! Благоприятели с Артемием-то... Сойдутся в праздник, напьются и сейчас драку устроят. Григорий как-то и говорит Артемию: "У тебя, Артюшка, кишки синия, так я тебе их сделаю зелеными"... Едва их тогда водой розлили. Зинаида Тихоновна в подтверждение своих слов принялась разсказывать такую безконечную историю об испорченности и неблагодарности всей вообще петербургской прислуги и своих милых родственников в частности, что Калерии Ипполитовне пришлось только на все махнуть рукой. Зато Симон Денисыч был в восторге от номеров Квасовой и успел перезнакомиться почти со всеми жильцами, а с прислугой был на самой короткой ноге. Когда Калерии Ипполитовны не было дома, он частенько забегал в комнату капитана и там любил покалякать о разных разностях и даже научился курить жуковский табак из капитанской трубки. Эти мудрецы любили пофилософствовать о разных высших материях и часто приходили к таким заключениям, что обоим делалось даже немного страшно. – Я так полагаю про себя, Симон Денисыч,– говорил несколько раз капитан,– что люди делают сами себе все зло, а потом сваливают это на других... да-с. Все от себя-с... – По-моему, это происходит от обмана чувств,– догадывался Мостов с самым глубокомысленным видом.– В точных науках это принимается во внимание, и при астрономических наблюдениях всегда вводится так называемое личное уравнение, т.-е. делаются приблизительныя вычисления возможной ошибки, сообразно физиологическим особенностям каждаго ученаго: у одного сила и скорость ощущений одне, у другого другия и т. д. Если бы такия же личныя уравнения ввести в нашу обыденную жизнь, что бы тогда получилось... а?.. – Над этим нужно подумать, чорт возьми!.. По этим личным уравнениям, Симон Денисыч, пожалуй, нам всем пришлось бы прогуляться в места не столь отдаленныя. – Меня этот вопрос очень занимает, капитан, потому что необходимо придумать какую-нибудь абсолютную меру для взаимных отношений, чтобы устранить всякий повод к недоразумениям и к безсознательному злу.