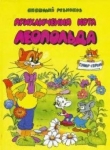Текст книги "Бурный поток"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
IX.
Сейчас после спектакля вся компания отправилась на Сергиевскую улицу, где была квартира Мороз-Доганских. Oncle уехал в карете вместе с Сусанной Антоновной, Чвоков и Богомолов потащились за ними на извозчике, Покатилов ехал один. Квартира Доганских была почти у самаго Таврическаго сада, в двухэтажном старом барском доме. На подезде встретил старый швейцар Ефим, самой внушительной наружности; лестница была убрана мягкими коврами и экзотическою зеленью. – Вы, petit papa, постарайтесь занять гостей,– говорила Доганская помогавшему подняться ей по лестнице oncl'ю, крепко опираясь на его руку. Обстановка всей квартиры Доганских дышала настоящею роскошью, которая не знает счета деньгам. Особенно хороша была небольшая гостиная в стиле Людовика XVI, походившая на бонбоньерку: светло-серая мебель с золотыми полосками была обита розовым шелком необыкновенно нежнаго тона, тяжелыя драпировки, роскошная бронза, картины в резных золоченых рамах, мягкие ковры – все было великолепно этою необыкновенною вычурностью резных украшений, всюду блестевших золотом, гармоническим сочетанием красок и свежестью теней. Кабинет хозяина и библиотека были отделаны под дуб, а будуар хозяйки походил на гнездышко, вытканное целиком из голубого шелка. Мебель из цельнаго чернаго дерева с серебряными инкрустациями выделялась на этом голубом фоне очены эффектно. В громадной зале, отделанной в серый цвет с серебряными полосками, обращал на себя внимание потолок, точно задрапированный какими-то необыкновенно тяжелыми кружевами: так он был залеплен арабесками. В простенках между окнами матовыми пятнами теплились узорчатыя полосы поддельных гобелэнов, сделанных всего в два тона. Палисандровый концертный рояль Шредера стоял у внутренней стены. Рядом с библиотекой помещалась бильярдная, служившая курительною комнатою. – Мы прямо в столовую отправимся, господа,– приглашал oncle на правах хозяина.– Ближе к цели. – Да, я, по крайней мере, очень проголодался,– отозвался Нилушка Чвоков, потирая руки.– Конечно, Жюдик великолепна и несравненна, но она, к сожалению, не может заменить хорошаго ужина. Oncle, при одном имени Жюдик, сладко закрыл глаза и фальшивым голосом запел: О, mon cher amant, je te jure Que je t'aime de tout mon coeur... В дверях показалась хозяйка, успевшая переодеться к ужину в шелковое оливковое платье, особенно удачно оттенявшее смуглый цвет ея кожи. В чем была одета Доганская в театре, Покатилов теперь решительно не мог припомнить. – Извините, господа, что я заставила вас ждать,– проговорила она, занимая место в конце стола.– Роман Ипполитович, вам, как новому гостю, я предложила бы место по правую руку, но petit papa немного ревнив и не любит уступать своих преимуществ. – Да, я согласен все уступить в жизни, кроме своего места за столом,– подтвердил oncle, занимая стул по правую руку хозяйки.– Впрочем, это мое единственное преимущество, за которое иногда, как сегодня, приходится платить очень дорого. – Именно?– спрашивала Доганская, указывая Покатилову стул. – А как же? Сегодня Сусанне Антоновне угодно было быть весь вечер не в духе, и она вымещала на мне свое недовольство, как это умеют делать одне женщины. Гости, за исключением Покатилова, кажется, чувствовали себя в этой столовой как дома и совсем не думали стесняться присутствием хозяйки. Чвоков и Богомолов продолжали еще начатый в театре спор по поводу последних дебатов в техническом обществе, причем Нилушке приходилось вплотную защищаться от нападений юркаго провинциальнаго дельца. – Необходимо было выражаться резче,– ораторствовал Богомолов, начиная горячиться,– потому что положение нападающаго всегда выгоднее положения защищающагося. Это слишком избитая истина, чтобы еще раз доказывать ее, тем более, что наше дело правое и за нас последнее слово науки. – Я, кажется, и то не особенно стеснялся,– говорил Чвоков, начиная краснеть.– Оставалось только вступить в рукопашную. – Нет, позвольте-с...– задорно отчеканивая каждое слово, зудил Богомолов.– Вы просто-напросто струсили этого старика Зоста и Котлецова... да!.. Э, батенька, все это вздор, дайте срок, вот соберем сезд горнопромышленников, тогда нас не так-то легко будет запугать. – Что же, можно будет устроить другой доклад,– виновато бормотал Чвоков,– хоть в том же обществе покровительства русской промышленности и торговле. – Наш Нилушка потерял всякую невинность,– шепнул oncle на ухо Покатилову.– Вот что значит продать себя: изображай из себя последнее слово науки для подобных господ, как вот этот сибирский джентльмен. Доганская сосредоточенно чертила вилкой какие-то узоры у себя на тарелке и, повидимому, совсем забыла о присутствующих. Положение Покатилова, как новаго человека в доме, было не из особенно приятных, и он начинал чувствовать себя лишним в этой роскошной английской столовой. Решительно и в этой странной женщине, и в обстановке дома, и в собравшемся здесь обществе было что-то загадочное и недосказанное. Покатилову припомнился разсказ капитана Пухова о бухарочке Шуре и его откровенное обяснение семейных отношений Доганских. Неужели это правда? Во всяком случае, эта Сусанна Антоновна совсем не то, чем она казалась ему всего какой-нибудь час назад: у ней на душе или слишком сильное горе, или какая-нибудь тяжелая тайна. Покатилов уже хотел прощаться, когда Доганская точно проснулась от своего раздумья и проговорила: – М-г Покатилов, налейте мне, пожалуйста, краснаго вина. Я сегодня просто невыносима, благодаря вот этим господам, которые хоть кого угодно доведут своими умными разговорами до сумасшествия. Вы уж извините меня. Будемте говорить о Жюдик, о чем угодно, я хочу веселиться. – Вот это действительно хорошо,– согласился oncle, тоже наливая себе вина.– Давно бы так, Сусанна Антоновна, а то, в самом деле, оставалось только взять веревку и повеситься. – Уж если кому действительно стоит повеситься, так это мне,– с нервною улыбкой заметила Доганская.– Ну, да это все равно... М-г Покатилов, вы какое вино любите? Послушайте, да вы, кажется, сидите с пустым стаканом. Нет, я решительно не за тем приглашала вас, чтобы заставлять скучать. – Сусанна Антоновна, с вашего позволения, можно закурить папиросу?– спросил Чвоков. – Кажется, есть курильня, и отправляйтесь туда. Oncle ушел в курильню вместе с Нилушкой и Богомоловым, а Покатилов остался в столовой с глазу на глаз с хозяйкой. Он только-что хотел что-то разсказывать из закулисной хроники театра Буфф, но, взглянув на Доганскую, так и остался с раскрытым ртом; она положила свою голову на руки и горько плакала. – Сусанна Антоновна, вам дурно?– суетился Покатилов, второпях проливая стакан с водой. – Ах, ради Бога, тише...– умоляющим голосом просила Доганская, протягивая руку.– Они опять могут прийти сюда... Это со мной случается... Пожалуйста, не обращайте никакого внимания на мои дурацкия слезы. Этим должно было кончиться, потому что с самаго утра меня давила страшная тоска... Покатилов держал в своих руках маленькую смуглую руку Доганской, холодную, как лед, и мокрую от слез. – Господи, как я глупа... и как мне скучно...– шептала Доганская, лихорадочно глотая воду из стакана.– Это даже не скука, а тоска... смертная тоска. Если бы вы только могли испытать хоть частицу... Везде ложь и во всем ложь, а я еще молода... что же это за жизнь? Она с каким-то ужасом обвела глазами столовую и вся вздрогнула. Покатилов слышал, как у ней стучали зубы от начинавшейся лихорадки, а смоченное слезами лицо сделалось еще свежее, и, кажется, никогда это лицо не было так красиво, как сейчас: глаза теплились глубоким влажным огнем, розовыя губы были полураскрыты, все лицо вздрагивало от пробегавших по нем теней. Покатилову страстно захотелось покрыть горячими поцелуями эти заплаканные глаза и эти холодныя маленькия руки. – Знаете, Роман Ипполитыч, я смотрю на вас, как на родного, как на своего старшаго брата,– заговорила Доганская, немного успокоившись.– Когда я была подростком и жила у вашей сестры, часто разговор заходил о вас. Для меня с Юленькой вы являлись каким-то полумиѳическим существом, как литератор, как будущая знаменитость. Я от души вам завидовала тогда, как завидую и теперь, хотя по другим причинам. У меня нет ни родных ни друзей. В самом деле, довольно странная встреча для перваго раза. Кстати, где Юленька? Вот кого я желала бы видеть, хотя сознаю полную невозможность подобнаго желания. Покатилов разсказал все, что знал относительно Юленьки, и прибавил, что в желании Доганской видеть ее нет ничего невозможнаго, и что он даже возьмется переговорить об этом с сестрой. – О, вы не знаете совсем Калерии Ипполитовны,– глухо проговорила Доганская и как-то подозрительно посмотрела на Покатилова.– Наших бабьих счетов сам чорт не разберет. Легче собрать пролитую воду, чем– помирить двух женщин... да. Вы лучше и не вмешивайтесь в эту кашу. – Но я, кажется, уж невольно узнал больше, чем следует постороннему человеку,– заговорил Покатилов и откровенно передал свой последний разговор с капитаном Пуховым.– Я и теперь не знал бы, Сусанна Антоновна, что это ваш отец, если бы он сам не разсказал. Доганская выслушала разсказ Покатилова, не моргнув бровью, и только спросила, когда он кончил: – Что же, вы лично верите тому, что вам разсказывал мой отец? – Нет... То-есть я думаю, что тут есть какое-то недоразумение. – Да, это верно. Во всей этой истории есть много такого, чего не разсказывают отцам, а пока замечу только вот что: отец говорит, что я вышла за Доганскаго только фиктивным образом, чтобы этим фиктивным браком прикрыть свои отношения к Теплоухову; но каким образом это могло случиться, когда Теплоухов увидал меня в первый раз только m-me Мороз-Доганской? Слишком очевидная нелепость, чтобы опровергать ее. Но в обвинениях отца есть известная доля правды: я действительно продала себя, как продаются тысячи других девушек, имевших несчастие родиться красивыми. Только я поступила в этом случае совершенно сознательно и никого не могу обвинять в собственной ошибке, или как хотите назовите мой поступок. Я хотела быть непременно богатой, заметной в обществе, иметь поклонников и еще больше людей, которые будут мне завидовать, и, как видите, не ошиблась в своих расчетах. Ну, а теперь я желаю слышать ваше откровенное мнение лично обо мне. Ваше мнение для меня особенно интересно потому, что вы человек совершенно посторонний. Покатилов был непримиримым врагом всяких сердечных излияний, но в данном случае почувствовал непреодолимую потребность высказаться. – И вы, и я, и Нилушка Чвоков, и m-r Богомолов, и ваш отец, и сама несравненная Жюдик – все мы одинаково жертвы "улицы",– заговорил Покатилов, глядя прямо в лицо своей слушательнице.– Это вот что значит, Сусанна Антоновна: есть известный средний уровень, который давит все и всех. Ученый несет сюда последнее слово науки, артист и художник – плоды своего вдохновения, общественные деятели – свою энергию, женщины – молодость и красоту. Улица всесильна, и у нея есть на все запрос: всякая микроскопическая особенность на этом всеобщем рынке находит себе самый верный сбыт. Певец сюда несет какое-нибудь необыкновенное верхнее do, литературный талантик – последнее создание фантазии, наш брат, газетчик тащит всякий выдающийся факт, даже добродушие oncl'я имеет цену и сбыт, Вы слышали сегодня Жюдик? Вот олицетворение улицы, хотя и более широкой, чем наша петербургская. К особенностям улицы принадлежит, между прочим, и то, что она все, что попадет на нее, переделывает по-своему, т.-е. искажает: есть специально-уличная музыка, какую мы слышали сегодня, есть уличные актеры, уличная наука, уличная литература и т. д. Улица на все дает свою моду, и эта мода безмолвно выполняется всеми, строже всяких уголовных законов. Нужно заметить, что наше несчастное время есть время господства улицы по преимуществу, и нужно обладать настоящим геройством, чтобы не поддаться этому всесильному влиянию. Есть, конечно, истинная и великая наука, есть великие честные деятели, есть красота, поэтическое вдохновение, энергия, таланты, которые остаются не зараженными этою уличною атмосферой, но ведь геройство не обязательно, и мы, обыкновенные люди, платим тяжелую дань своему времени. В этом заключается главный источник душевнаго разлада, борьбы совести, явнаго и тайнаго протеста чувства, мук и настоящих страданий. Бороться с требованиями улицы не всякому по силам, когда маленькая сделка с совестью дает известность, имя, успех, богатство. Улица по преимуществу экеплоатирует дурные инстинкты, наши слабости, животную сторону нашего существования. Ваш покорный слуга, в данном случае, не лучше других и, по возможности, иллюстрирует жизнь улицы – самая благодарная работа, потому что улица любит потешиться сама над собой. – Я, кажется, начинаю понимать вас,– заметила Доганская.– Да, именно улица... это верно. – Есть другой, не менее рельефный пример, Сусанна Антоновна,– продолжал Покатилов.– Нынешния модныя пьесы часто имеют успех только благодаря чудовищной роскоши своей сценической обстановки, а актрисы приобретают известность своими костюмами... Даже парижския сцены не в состоянии назначать такое жалованье актрисам, чтобы его доставало на костюмы, так что эти представительницы искусства принуждены зарабатывать деньги на костюмы другими путями. Сравните шекспировское время, когда пьесы ставились чуть не в сараях и сцена освещалась сальными огарками... Вот до чего доводит улица даже такое, повидимому, свободное искусство, как сцену! Если разобрать, вся наша жизнь – тоже своего рода театральная пьеса, притом очень скучная, и мы тоже обманываем и себя и других нашими костюмами... Извиняюсь вперед, что я и вас поставил в зависимость от требований улицы. – Интересно, как вы дошли до этой характеристики? – Право, это довольно трудно обяснить... Ведь каждая специальность образует таких знатоков, которые получают почти невероятную тонкость ощущений в своей области. Ведь вы слыхали о кассирах, которые с закрытыми глазами выбрасывают из пачки фальшивыя ассигнации? Так и в нашем деле образуется какое-то чутье. – Послушайте, Роман Ипполитыч, я удивляюсь только одному,– заговорила Доганская, перебивая,– как вы, с вашими знаниями и с вашею головой, до сих пор не можете выбиться из этой литературной поденщины? – Выхода три: деньги, имя или счастливый случай... я больше всего надеюсь на последнее. А газета у меня будет и пойдет, потому что я слишком хорошо знаю требования, вкусы, слабости и пороки улицы. Конечно, последнее слишком смело сказано, но ведь сегодня у нас вечер обяснений. – Послушайте, Сусанна Антоновна, вы здесь так тихо сидели, что Бог знает, что можно было подумать,– откровенно заявил oncle, появляясь в дверях столовой.– По меньшей мере можно было обясниться в любви... Так, Роман? А мы там, в курильной, чуть было не разодрались, вернее, вот эти господа чуть не отколотили меня и, наверное, отколотили бы, если бы во-время с похвальным благоразумием не вспомнили, что ведь Николай Бередников когда-то был отчаянным рубакой. Гости начали прощаться. Доганская вышла провожать их до порога залы, где они столкнулись с самим Доганским. Он поцеловал жену в лоб и, не дав ей кончить рекомендацию новаго гостя, схватил руку Покатилова обеими руками и заговорил: – Очень рад, очень рад... я так много слышал о вас... да! Какой-то философ и где-то сказал, что считает счастливым тот день, когда приобретает новаго друга; это и моя философия, а рекомендация Сюзи для меня больше, чем аттестат зрелости... Господа, куда же это вы? Сюзи, прикажи им оставаться. – Нет, уж скоро три часа, Юрий Петрович,– заявил oncle, вынимая часы, – Ну, как знаете,– согласился Доганский и, подмигнув oncl'ю, запел: О, mon cher amant, je te jure Que je t'aime de tout mon coeur... Доганская оперлась на руку мужа и старалась не смотреть на Покатилова. Очутившись на подезде, Покатилов долго стоял в раздумье. Ему все мерещилась вытянутая фигура Доганскаго с его длинными ногами и длинным безжизненным лицом. Покатилов видал его много раз прежде этого, но особеннаго внимания не обращал, а теперь... теперь они сидят вдвоем в своей английской столовой, он разсказывает, а она слушает. В голове Покатилова вместе с этою картиной вертелось письмо Периколы, и он шагал к себе на Моховую в каком-то забытье, несколько раз вынимая из кармана руку, которую крепко пожала ему на прощанье Доганская. – Нет, у меня будет своя газета!– громко проговорил Покатилов и сам удивился, каким образом именно эта мысль вынырнула из его головы, занятой совершенно другими соображениями.– Да, она должна быть... Ведь устроился же Нилушка, наконец этот Богомолов, а, кажется, ничего особеннаго... Да, да, газета... все будет зависеть от газеты.
X.
Калерия Ипполитовна не поверила своему дяде, хотя смутно и сознавала, что он прав. Ей так еще хотелось жить. "Еще посмотрим!" – повторяла она самой себе. Не теряя напрасно дорогого времени, Калерия Ипполитовна деятельно принялась разведывать петербургскую почву, точно она попала на какой-то новый материк. В течение двух недель она успела побывать у всех старых знакомых и завела несколько новых знакомств, конечно, с большим разбором, потому что прежде всего дело. Снова была она у Берестовских и Чвоковых, но ничего, кроме скуки, не нашла, как у Даниловых и Густомесовых. Калерия Ипполитовна точно зараз хотела выпить всю чашу испытаний; эти визиты с режущею ясностью выяснили ея собственное фальшивое положение. Иногда ей начинало казаться, что к ней относятся свысока или с обидным снисхождением. Другие встречали ее с тем безцветным участием, как это умеют делать только коренные петербуржцы. Да, она чувствовала себя лишней на этих бойких улицах, где жизнь катилась широкою волной, но, как утопающий хватается за соломинку, продолжала проделывать все то, что проделывают и другие в ея положении. Было время, когда Калерия Ипполитовна сама смеялась над подобными мышиными хитростями, а теперь даже не замечала, что проделывает то же. Она всем разсказывала, что Симон Денисыч сам отказался от места, что ему предлагают место на Урале, что они в Петербурге только на время, пока устроят Юленьку, и т. д. Эта ложь так часто повторялась, что наконец Калерия Ипполитовна сама стала верить ей и страшно сердилась, когда замечала хотя самую легкую тень недоверия к своим словам. "Все пристроились... все плотно сидят на своих местах,– со злобой думала Калерия Ипполитовна, перебирая своих знакомых.– И главное, они же и боятся, чтобы кто не отнял у них готовый кусок!" В своем исключительном положении она походила на пассажира, который опоздал на поезд и безтолково бегает по платформе, заглядывая в окно, где сидели с билетами в руках более предусмотрительные и счастливые путешественники. Банки, акционерныя компании, уфимския земли, кавказская нефть, концессии – вот чем живут люди и к чему так трудно было присосаться постороннему человеку. Иногда Калерия Ипполитовна невольно вспоминала доброе старое время, когда все на свете зависело от тех важных старичков, которые когда-то ездили к maman. И такие смешные были старички: в бархатных и шелковых жилетах, в сюртуках с узкими рукавами и широким воротником, в шелковых косынках, туго намотанных на шее. Эти старики все могли, и если б они были живы, не металась бы Калерия Ипполитовна по Петербургу, как угорелая, и не обивала бы чужих порогов. "Нашлось бы и моему Симону теплое местечко где-нибудь по провиантской части, в откупе, в интендантстве",– думала Калерия Ипполитовна и сама улыбалась своему ребячеству. Свои визиты к барону Шебеку, к князю Юклевскому и знаменитому Андрею Евгеньичу она оставляла в запасе, как игрок оставляет до последней возможности самый сильный и решительный ход. Единственное, что Калерия Ипполитовна сделала за это время,– это записалась членом разом в несколько благотворительных обществ, чтобы завести несколько хороших знакомств в исключительном мирке сановитых и богатых благотворительниц. – Что же, Леренька, устроимся понемногу,– говорил Симон Денисыч, стараясь успокоить жену.– Ведь живут же другие... Буду работать в ученых обществах, в специальных изданиях; в столице всегда спрос на рабочия руки, Леренька. – Ах, Боже мой, Боже мой, и он еще говорит!– стонала Калерия Ипполитовна, ломая руки.– Это ты-то будешь работать?.. Ха-ха... Подшивать бумаги в каком-нибудь департаменте, да и на то толку не хватит. Господи, за что Ты меня наказываешь? – Леренька, успокойся, ради Бога... – И он еще говорит?! Ведь тебя даже послать никуда нельзя, а везде я должна сама... Если бы не Юленька, я давно бросила бы тебя. И брошу... – Леренька! – А ты разболтай только Роману про наши средства, и брошу сейчас же. Ты воображаешь, что наши шестьдесят тысяч очень велики, а это всего три тысячи годового дохода, да и тех нет. Разве возможно жить в столице на три тысячи, когда дочь на шее? Нет, я чувствую, что совсем схожу с ума. Симон Денисыч хватал себя за голову и начинал бегать по комнате, как сумасшедший, проклиная все на свете, а больше всего свой проклятый язык. И нужно было соваться с утешениями, когда Леренька сердится! Она вообще не выносит возражений, особенно, когда бывает взволнована. – Ну, пошла наша воевода пыль подымать,– ворчала старая Улитушка, которой тоже доставалось при случае на орехи.– Ох, горе наше великое с этим самым Петербургом! Жить бы да жить в Заозерье-то, кабы не эта бухарская змея. Бухарской змеей Улитушка называла Сусанну, которую возненавидела с перваго раза и так относилась к ней до самаго конца. Это была та холопская беззаветная ненависть, с которой относятся в старинных барских домах старые, верные слуги к разным приживалкам и воспитанницам. Являясь домой, чтобы перевести дух, Калерия Ипполитовна не считала нужным делиться с кем-нибудь своими впечатлениями. Но за ней упорно следили два старых, слезившихся глаза Улитушки; от них было трудно скрыться. Взглянув мельком на усталое лицо барыни, старуха только печально качала головой, и этот немой укор являлся для Калерии Ипполитовны лишнею тяжестью, хотя она ничего не смела сделать своей старой няньке, изжившей свой век в покатиловской семье. Улитушка знала всю подноготную не только про Калерию Ипполитовну, но и все похождения Анны Григорьевны, когда та была еще молода. – Нет, видно, нашей Калерии Политовне далеко не вплоть будет до маминьки,– ворчала Улитушка, прибирая номер.– Конечно, кто Богу не грешен, светленько умела пожить Анна Григорьевна, зато и концы схоронила. Все шито и крыто... Ежели Бог веку пошлет, так еще успеет все грехи замолить. Покойный-то барин и думушки никакой не знал думать, а что этого греха и я напринималась из-за Анны-то Григорьевны!.. Охо-хо-хо... Тоже с записочками-то бегала, как брынская коза... Только и господа были на отличку: генералы в звездах, с лентами... Смела была Анна-то Григорьевна и ловка на руку, а у Калерии Политовны мамынькиной ухватки совсем нет, да и годки уж не те; ушло золотое-то времечко. Улитушка долго охала и вздыхала и даже принималась креститься, отгоняя от своего старческаго ума всякое "неподобное окаянство". Тоже и сама была молода, сама глупа; барыня Анна Григорьевна "проклажалась" со своими судариками и мужа к себе очень редко допускала, даром что заправский был генерал, ну, терпел-терпел генерал от жены, да и взглянул милостиво на Улитушку. Когда барин умер, Улитушка во всем покаялась Анне Григорьевне, а та хоть бы глазом сморгнула. "Уж хорош был барин покойный, а не побоялся девичьяго стыда,– раздумывала Улитушка.– Симон-то Денисыч разве такой? Уж, кажется, проще да жалостливее с огнем не сыскать... Ловко Калерии Политовне над ним мудрить". Улитушка вообще являлась живым синодиком покатиловских прегрешений, причем по странной старушечьей логике она все прощала и извиняла Анне Григорьевне, а Калерию Ипполитовну обвиняла. – Прост Симон-то Денисыч... А Калерия Политовна по мамыньке издалась насчет мужчин: такая же завидущая. И с анжинерами, и с офицерами, и с кем, с кем ни путалась... А то не хорошо, зачем с этим Морозом связалась да бегала за ним, как телка. И дочь от него, от змея, прижила, а теперь и погляди, как Мороз-то с той, с бухарской-то змеей охорашивается! И Юленька-то, еще от земли не видать, а уж как поглядит в другой раз: змеиная-то кровь сказывается. Раз, когда Калерия Ипполитовна вернулась откуда-то из своих ежедневных путешествий, Улитушка встретила ее на лестнице и с испуганным лицом прошептала: – Не ладно у нас, родимая барыня... Уж я не знаю, что и делать! – Да говори толком, ради Бога, что такое случилось?– спрашивала Калерия Ипполитовна, порываясь вперед.– Юленька больна? Улитушка оглянулась вперед и прошептала: – Он там сидит... – Кто «он»? – Ну, известно, кто... Мороз. – Не может быть!– машинально проговорила Калерия Ипполитовна, увствуя, как у ней захватывает дух.– Ты ошиблась... не может быть! – Накося, ошиблась!– обиделась Улитушка.– Слава те, Господи, не впервой его видеть-то. Прямо сказать: безстыжие глаза... Барин-то дома был, как он налетел. Барыня, голубушка, прогоните вы этого змея... не с добром он. Глазищами-то безстыжими так и поводит, а сам ласковый такой... Как раз обойдет барина-то нашего! Калерия Ипполитовна совсем не слушала болтовни расходившейся старухи и несколько мгновений не решалась, итти ей вперед или вернуться. Но ее толкала вперед какая-то сила. В самом деле, зачем мог приехать Доганский, как он мог на это решиться, и наконец какими глазами он будет смотреть на нее? Поправив волосы, выбившиеся из-под шляпы, Калерия Ипполитовна вошла в свой номер с решительным видом. – Я только-что услыхал о вашем приезде сюда и вот у ваших ног,– на самом чистейшем парижском жаргоне по-французски проговорил Мороз-Доганский, встречая Калерию Ипполитовну в передней.– Ваше здоровье, madame? – Юрий Петрович... мне кажется странным... что вы... после всего случившагося...– бормотала по-французски Калерия Ипполитовна, отыскивая глазами мужа, который смущенно улыбался и застегивал пуговицы жилета. – Это не я, Леренька...– оправдывался Мостов.– Это все oncle... да. – В таком случае, Юрий Петрович,– строго заговорила Калерия Ипполитовна, опуская глаза,– нам лучше всего не поднимать стараго знакомства... Надеюсь, вы меня отлично понимаете и постараетесь не возобновлять своего визита. – Ах, не то, совсем не то!– говорил Мороз-Доганский, делая театральный жест отчаяния.– Недоразумение, Калерия Ипполитовна... да, недоразумение, и я во всем этом деле не виновата ни душой ни телом! Честное и благородное слово порядочнаго человека... Позволите сесть, madame? Калерия Ипполитовна улыбнулась улыбкой человека, который ничему не верит, и молча показала гостю на кресло. – Если бы я действительно был виноват перед вами, madame, да разве я смел бы явиться к вам на глаза?– уже веселым тоном продолжал Доганский, не торопясь снимая перчатку с левой руки.– Я скорее являюсь потерпевшею стороной, и мне нужно сердиться, а не вам, madame... – И вы пришли сюда, вероятно, за утешением... да?– с разстановкой проговорила Калерия Ипполитовна.– Вы даже заметно похудели с того воемени, как я видела вас в последний раз. – О, будемте говорить серьезно. Я пришел просить пощады, а не пикироваться. Калерия Ипполитовна с презрением пожала плечами и проговорила подавленным шопотом: – А я вам никогда и ни в чем не верила... и теперь верю меньше, чем когда-нибудь! – В ваших словах противоречие, madame, такое решительное недоверие уже заключает в себе зерно веры. Но дело не в этом, madame, потому что все это пустяки... Не так ли, Симон Денисыч? – О, совершенно верно, Юрий Петрович,– торопливо соглашался Мостов, размахивая руками.– Я не понимаю, зачем Леренька так безпокоит себя... Именно, как вы изволили сказать, Юрий Петрович, произошло недоразумение, и я уверен, что все должно устроиться. – Да, да,– авторитетно поддакивал Доганский, закладывая ногу на ногу. Калерия Ипполитовна, прищурив глаза, внимательно разсматривала своего гостя, который казался ей таким маленьким-маленьким и таким ничтожным вместе с своими длинными ногами, эспаньолкой, улыбавшимися серыми глазами и подвижною, вытянутою, никогда ничего не выражавшею физиономией. К какой национальности принадлежал Доганский, сколько было ему лет, в каком положении находились его дела,– все это составляло, впрочем, неразрешимую загадку для всех его знакомых, которые, впрочем, не особенно интересовались его генеалогией. Калерия Ипполитовна слишком давно и слишком хорошо знала Доганскаго, чтобы стараться разгадать эту живую загадку, и теперь машинально разсматривала его длинныя кисти рук с напружившимися синими жилами, длинное нерусское лицо с развитою нижнею челюстью, открытый, немного сдавленный на висках лоб, вытянутый нос, вечную улыбку на широких поблекших губах. В костюме и манере себя держать у Догаискаго совмещалось несколько человек: аристократ с английскою складкой, отставной красавец из цирковых наездников, биржевой заяц, жуир и т. д. – Это все напутал этот ваш Богомолов,– продолжал Доганский, раскуривая сигару.– А я что же? Я узнал все это уже после всех, когда дело было совершенно непоправимо. – Однако этот Богомолов теперь ваш лучший друг?– прервала его Калерия Ипполитовна с нетерпеливым жестом.– Тоже, вероятно, недоразумение?.. Ах, Юрий Петрович, я думала гораздо лучше о вас, именно настолько лучше, что вы не решитесь сваливать собственную вину на перваго попавшагося под руку человека. – Я?.. Калерия Ипполитовна, неужели вы могли подумать так обо мне? Что я такое во всем этом деле, если разобрать серьезно? Полное ничто... Евстафия Платоныча считают все безхарактерным, слабым человеком, а попробуйте сломить его, когда он заупрямится! Так и в этом деле: Богомолов какими-то путями пробрался к Евстафию Платонычу, ну, и устроил так, что я уже ничего не мог сделать для вас. – Послушайте, будет уж разсказывать эти сказки,– обрезала Калерия Ипполитовна, поднимаясь с места.– Я не понимаю только одного, что заставляет вас разыгрывать предо мной всю эту жалкую комедию... чтобы не сказать больше? – Что заставляет? Моя полная невинность, madame, в которой вы убедитесь, может-быть, скорее, чем можно предположить по теории вероятности. – Именно? Право, к вам, Юрий Петрович, не идет совсем этот трагический тон... Вы что-то хотели сказать, кажется? – Да... я хотел сказать вам пока только то, что вы в моей невинности убедитесь в очень непродолжительном времени, когда мой новый друг Богомолов заменит меня Евстафию Платонычу во всех отношениях. – Боже мой, как это страшно сказано... ха-ха!– смеялась Калерия Ипполитовна.– Вы меня пугаете, Юрий Петрович! Доганский, потирая руки, тоже смеялся и совершенно другим тоном, тоном своего человека в доме, проговорил: – Послушайте, madame, я ужасно хочу есть... Ну, побранились – и достаточно для перваго раза, нужно же что-нибудь оставить для следующих, а пока я даю вам честное слово, что все устрою для вас. – То-есть? – Ну, все, что зависит от меня и что в состоянии я сделать, не больше. Невозможнаго ни от кого нельзя требовать... – А для вас самое невозможное – это оставить скверную петербургскую привычку обещать все на свете, кроме того, что действительно можно сделать,– заметила Калерия Ипполитовна, прижимая пуговку электрическаго звонка. – Однако, чорт возьми, неужели вы не могли в Петербурге найти ничего хуже этой дыры?– говорил Доганский оглядывая номер.– Что стоило обратиться ко мне... – Никогда этого не было и никогда не будет, чтобы мы обратились к вам с просьбой,– с гордостью проговорила Калерия Ипполитовна, отпуская лакея с необходимыми приказаниями относительно завтрака.– А в особенности теперь, когда вы даже не хотите сознаться в собственной вине... – Нет, это уже слишком, чорт возьми!– весело крикнул Доганский, чувствуя начинающееся отпущение прегрешений.– Заставлять человека взваливать на себя несуществующия преступления – это, воля ваша... я даже не умею назвать это, Калерия Ипполитовна. Мостов, когда речь зашла о завтраке, совсем успокоился и теперь только улыбнулся, многозначительно поглядывая то на жену, то на гостя: он отлично знал, что еда предвещала хороший исход и гроза минует сама собой. В ожидании завтрака Доганский разспрашивал Калерию Ипполитовну о том впечатлении, какое на нее произвел Петербург. – Очень хорошее,– говорила Мостова с деланым равнодушием.– Много новых блестящих построек, еще больше блестящих магазинов, богатых экипажей, богатых людей, и все это новое с иголочки, так что невольно чувствуешь себя вдвое старее рядом с этими новостями. Вдобавок боишься в чужом доме рот раскрыть со своим сибирским говором, особенно я боюсь за Юленьку... Мы свое, худо ли, хорошо ли, прожили, а ей еще нужно жить. – У вас сегодня какое-то похоронное настроение,– вмешался Доганский.– Кстати, что же я не вижу ma belle Julie? – Она у maman гостит... – Как жаль, что я не увижу ея... Мы с ней были всегда друзьями,– отвечал Доганский, не замечая строгой мины хозяйки.– Кстати, Калерия Ипполитовна, куда вы думаете поместить Julie, то-есть в какой пансион или институт? – Право, я еще не успела подумать об этом... Пока своего дела по горло,– уклончиво отвечала Мостова.– Сама я очень плохая воспитательница! – Позвольте не согласиться с последним. – Ах, пожалуйста, избавьте меня от комплиментов. За завтраком Доганский, как ни в чем не бывало, продолжал болтать о всевозможных пустяках; он любил пить черный кофе из маленькой чашки и теперь прихлебывал его аппетитными маленькими глотками. «Что этому отвратительному чудовищу нужно от меня?– думала Калерия Ипполитовна, разсматривая своего гостя с боку.– Уж не даром он вертится, как ртуть». Перебирая в уме все, чего мог пожелать Доганский, Калерия Ипполитовна приходила в окончательное недоумение: сегодняшний визит Юрия Петровича и его необыкновенная любезность просто сбивали ее с толку. «Может-быть, в нем проснулась совесть,– подумала Калерия Ипполитовца и сама улыбнулась своему ребячеству.– Разве у таких людей когда-нибудь бывает совесть?» – Вы чему это улыбаетесь, madame?– осведомился Доганский, поймав улыбку Калерии Ипполитовны. – Я?.. Ах, да, я подумала о том, как иногда бывают любезны люди, которым все на свете трын-трава. – Еще раз, madame, вы ошибаетесь, если это относится ко мне. – Зачем так много думать о своей особе, Юрий Петрович? Неужели, если думать, так можно только думать о вас... – Ах, да, я и забыл: вы все еще сердитесь, а все люди в этом состоянии редко бывают справедливы. – Что же делать? Не всем выпадает такое голубиное сердце, как ваше. На прощанье, когда Калерия Ипполитовна вышла провожать Доганскаго в переднюю, он быстро схватил ея руку и крепко поцеловал. – Вы видите пред собой несчастнаго человека, который просит пощады,– прошептал Доганский. – Не верю... ничему не верю!– ответила вслух Калерия Ипполитовна, отрицательно покачивая головой. Она стояла в передней еще несколько времени после того, как шаги Доганскаго уже замерли в коридоре; ее жег поцелуй этого Іуды, для котораго она еще так недавно была готова на все... Недавно!.. Нет, Боже мой, как это было давно, так давно, точно Калерия Ипполитовна была совсем другая женщина, которая могла верить Доганскому, могла его любить. Да, она его когда-то любила и теперь сама не узнавала себя. – Леренька, что это ты стоишь там?– окликнул жену Мостов., – Я?.. Ах, отстань, ради Бога... Пошатываясь, она побрела за перегородку и бросилась на постель, чтобы скрыть душившия ее слезы. Ей было совестно перед простоватым мужем, который был настолько доверчив и глуп, что даже обманывать его было скучно, он один любил ее. Боже мой! Доганский, наверно, все разсказал Сусанне, и эта бухарская змея теперь торжествует двойную победу,– но нет, она отмстит за себя, о, она сумеет отмстить за себя и будет жить для этого. Дальше думала Калерия Ипполитовна о своей Юленьке, и ее заставило снова краснеть то участие, которое неизменно высказывал к Юленьке Доганский: это чудовище осмеливалось считать Юленьку своею дочерью. «Зачем однако он приезжал?» – спрашивала себя Калерия Ипполитовна в сотый раз.