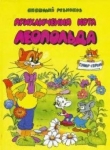Текст книги "Бурный поток"
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
I.
"Северное Сияние" в четыре года создало себе репутацию бойкой газеты, которую публика брала на расхват. Успех был колоссальный, сравнительно с другими изданиями, и Покатилов вел дело твердою рукой. Турецкая война, конечно, много помогла этому успеху, но главныя причины лежали глубже. Покатилов сумел стряхнуть с себя обычные газетные предразсудки и создал свою собственную публику. Покатиловская газета не принадлежала к уличной мелкой прессе и не гналась за определенной кличкой либеральнаго или консервативнаго издания. – Консервативные и либеральные органы имеют значение там, где есть политическая жизнь, партии и вообще общественная жизнь,– говорил Покатилов, когда его обвиняли за безпринципность.– А мы можем писать только для нашего читателя, в этом – все. Притом еще вопрос, что такое наш либерализм и консерватизм; я хочу сказать, что это – игрушка, в роде тех машинок, на которых китайцы производят гимнастику пальцев. У меня, кстати, есть целых две таких машинки в моей китайской коллекции. Своя газета быстро достигла цели: читатель так и валил, благо на страницах "Севернаго Сияния" было насыпано всякаго жита по лопате: тут и науки немножко, и художества, и политики, и внутренней жизни, а главное, работал бойко фельетон. Все, что жизнь выкидывала на свою поверхность, появлялось здесь в той специальной фельетонной форме, которую создала улица. Читатель хватал налету эту легкую и удобоваримую пищу, с жадностью проглатывал ее и постепенно усваивал себе фельетонный способ мышления; он в одно прекрасное утро делал приятное открытие, что знает и политическия тайны разных европейских дворов, и последния слова разных наук, и всякую злобу дня как в столицах, так и в провинции, а главное, все это было так просто, легко, понятно. Другия большия газеты наводили тоску своими длиннейшими статьями и просто пугали читателя, а тут даже как-то уж очень забавно выходило: он, читатель, чувствовал между строк, что ведь совсем же он не глуп и решительно все понимает. Развернул номер "Севернаго Сияния" – и готово, зарядился как раз до следующаго дня. Столичная улица заражала своим дыханием самую далекую провинцию, где быстро начали входить во вкус чисто-уличнаго миросозерцания. Серьезные журналы и серьезныя газеты казались скучными и смешными, и читатель уже своим умом догадывался, что они работают в безвоздушном пространстве, в своем собственном мирке, который ничего общаго с действительностью не имел. Вообще читатель вздохнул свободнее, потому что находил разрешение всех своих недоразумений в излюбленной газете. Через два года у Покатилова было уже за десять тысяч подписчиков, а еще через два года он расплатился из копейки в копейку с Теплоуховым. Вышла опять оригинальная сцена в теплоуховском кабинете. Покатилов представил все свои счеты и последний банковский чек. – Мне остается еще раз поблагодарить вас, Евстафий Платоныч,– говорил Покатилов с чувством.– Теперь наши расчеты кончены, но я всегда к вашим услугам. – Хорошо!– с усилием проговорил Теплоухов всего одно слово, не потрудившись даже посмотреть на представленные его вниманию счеты. Тем дело и кончилось, а в результате его Покатилов очутился обладателем своей газеты, которая будет приносить ему пятьдесят тысяч годового дохода. Но странное дело: все спорилось в руках Покатилова, газета шла великолепно, его имя уже составляло целый капитал, а между тем в глубине души у него вечно ныло неудовлетворенное чувство. Эти внешние успехи точно служили насмешкой над внутреннею нищетой: там сосала неотступно старая тоска, от которой он не мог забыться ни заграницей ни в чаду уличных похождений, когда за деньги покупал ласки знаменитых красавиц, сделавшихся célébrités du jour на театральных подмостках, в цирке или модных кабаках. Отчасти чтобы разсеяться, отчасти по старой привычке к уличному бродяжничеству, Покатилов прошел всю лестницу этих запретных плодов, которые покупаются бешеными деньгами. В этих темных похождениях его неизменным спутником являлся Бодяга, который был своим человеком за кулисами театров, в уборных цирка и в разных других приемных sui generis. Знакомство с наездницами, танцовщицами, фигурантками, разными певчими птичками и просто представительницами полусвета не могло потушить сосавшей Покатилова тоски: весь этот человеческий сор, накопившийся по привилегированным углам и заугольям широкой столичной улицы, в конце концов внушал только чувство отвращения и той брезгливости, какая сохраняется даже в безнадежно погибших людях. Между прочим, Покатилов переманил от Брикабрака его Фанни – шаловливую и глупую немку, которая вытянула у Покатилова массу денег, постоянно обманывала его и кончила тем, что Покатилов просто выгнал эту продажную тварь, славившуюся в среде прожигавшей жизнь публики под именем "губки". Домой Покатилов нередко возвращался совсем пьяный, и ему доставляло особенное удовольствие сильным звонком всполошить спавшаго швейцара. Степенный, седой семеновец торопливо выскакивал навстречу барину и, почтительно поддерживая под локоть, помогал добраться до спальни. Иногда пьяному Покатилову казалось, что он забрался в какую-то чужую квартиру. Неужели все это его, его собственность? Квартирой Покатилова теперь заведывала старая няня Улитушка, которая раздевала его пьянаго и укладывала в постель. Старуха подолгу иногда смотрела на спавшаго воспитанника, вздыхала, качала, дряхлою головой и повторяла стереотипную фразу: Жениться надо... безпременно жениться. Ох-хо-хо, согрешили мы, грешные! Юленька была большая, и Улитушка поселилась у Покатилова, где зорко стерегла каждую пушинку с какою-то собачьей привязанностью к покатиловскому добру. Своего воспитанника она чуть не боготворила и по-своему извиняла все его недостатки: перебесится и за ум возьмется, все господа смолоду-то на один фасон. "А уж какую бы невесту приспособили этакому-то орлу,– раздумывала Улитушка,– высокую, да белую, да глазастую, чтобы всего опутала сразу. Ох, ловкия есть девушки в этом треклятом Петербурхе!" За всеми хлопотами и торопливою газетною работой, у Покатилова оставалось очень много свободнаго времени, и его вечно тянуло на Сергиевскую, чтобы еще лишний раз вернуться оттуда с сознанием невозможности счастья. У Доганских он бывал то часто, то редко, иногда провожал Сусанну в цирк, куда она любила ездить по субботам, но разстаться с этою семьей было выше его сил. Покатилов тысячу раз давал самому себе честное слово, что идет на Сергиевскую в последний раз, но один ласковый взгляд Сусанныи – и честное покатиловское слово таяло, как снежинка, упавшая в воду. В четыре года Сусанна сделалась еще лучше, чем была раньше; в этой оригинальной красоте годы раскрывали только новыя чары. Теплоухов бывал у Доганских попрежнему и попрежнему молчал, как пень. Молодой Зост сделался своим человеком, хотя держал себя с большим тактом. Это была холодная, эгоистичная натура, с тем особенным закалом характера, который неотразимо действует на женщин. Чарльз часто бывал дерзок и груб с Сусанной, но она выносила от него все и готова была лизать его руки, как собачонка. Для Покатилова все здесь составляло неразрешимую загадку, и он мог только удивляться, как могли переносить всю эту комедию Доганский и Теплоухов, и наконец зачем он сам, Покатилов, является в этот проклятый дом. Между тем Сусанна держала себя с Покатиловым, как со своим человеком, и за эту опасную близость подвергала его иногда чисто-инквизиторским пыткам: она заставляла его редактировать свои записочки к Чарльзу, заставляла терпеливо выслушивать свои безконечныя излияния по поводу удивительных достоинств удивительнаго молодого человека, повторяла пред ним весь тот сумбур чувств и мыслей, который душил ее, и так без конца. Они вместе обманывали Доганскаго и Теплоухова, вместе лгали, и Сусанне доставляло особенное удовольствие ставить и себя и Покатилова в самыя нелепыя и опасныя положения. – Если вы меня действительно любите,– повторяла Сусанна несколько раз Покатилову,– то для вас мое счастье должно быть дороже всего – так? Вы даже должны меня постоянно благодарить за свое тайное счастье, которое я могла бы разрушить одною минутой снисходительности. Ведь всякое счастье заключается в неудовлетворенном желании, в самом процессе достижения известной цели, и чем больше препятствий на этом тернистом пути, тем выше счастье; вот я и хочу сделать вас самым счастливым человеком в мире. Жаль, что вы не пишете стихов, а то у вас в руках все средства сделаться, по меньшей мере, вторым Гейне. Я не гоню вас, и пользуйтесь этим. Одним словом, я, кажется, сделала все, чтобы не подвергать испытаниям ваш характер, и могу поручиться только за одно: что бы со мной ни было, я никогда не решусь разбить ваше счастье. Ну, перестаньте делать такое глупое, трагическое лицо. Это совсем уж не идет умному человеку, который, прежде всего, должен быть философом! Не правда ли? – Совершенно верно, но только черезчур великодушно, Сусанна Антоновна. Вы даже пощечину даете, как какую-то милостыню. В обществе Доганской Покатилов никогда не мог выдерживать характера и быстро переходил от одного настроения к другому: если был он с ней один, прикидывался равнодушным, шутил, пускался в откровенность, в обществе Чарльза делался неестественно вежливым, при Доганском разсказывал глупые анекдоты, при Теплоухове напускал на себя необыкновенную солидность, а при oncl'е или Нилушке держал себя с преувеличенною фамильярностью и даже позволял себе некоторыя дерзости. Сусанна все это замечала, конечно, и только улыбалась глазами, а в крайнем случае делала вид, что совсем не замечает Покатилова, и последний обязательно надувался, смолкал и уходил. – Какой он смешной, этот Покатилов!– смеялась Доганская каждый раз после такой немой размолвки.– Не правда ли, Николай Григорьевич? – Гм... пожалуй,– соглашался oncle.– Я не желал бы быть на его месте, Сусанна Антоновна. – И вы туда же? Вот, подумаешь, какое фамильное геройство! Несколько раз случалось так, что Покатилов ловил пристальный взгляд Сусанны, обращенный на него, и она каждый раз смущалась, как пойманный школьник. Что значили эти пристальные взгляды? Покатилов отлично мог припомнить день и час, когда это было: один раз они сидели в столовой, когда Нилушка чуть не подрался с Богомоловым, в другой раз – в ложе театра, в третий раз... О, этот третий раз Покатилов никогда не забудет: они вдвоем возвращались зимой из цирка в парных санях; Доганская целый вечер была какая-то задумчивая и грустная, а тут вдруг развеселилась. Он помнил это лицо, залитое румянцем, полузакрытые глаза, которые заставили его вздрогнуть, и эту роковую улыбку. Покатилов тихо обнял ее, она не сопротивлялась и дание наклонилась к нему на плечо, а потом точно проснулась от какого-то волшебнаго сна, отодвинулась и проговорила сурово по-английски: – Покатилов, вы с ума сошли! К прежнему обществу, бывавшему у Доганских, прибавилось только несколько смешных старичков с громкими именами. Эти старцы обыкновенно приезжали утром, и Сусанна принимала их с неестественною любезностью. – Наши новые друзья!– коротко рекомендовал Доганский со своею странною улыбкой.– Роман Ипполитыч! Всегда помните золотое изречение: "Господи, избавь меня от друзей, а с врагами я сам справлюсь". Oncle заметно постарел и все поднимал свои крашеныя брови, когда встречался с Покатиловым. – Ты что-то хочешь мне сказать?– несколько раз спрашивал его Покатилов.– У тебя такой странный вид! – Нет... так. Это от старости. За четыре года мужчины все заметно постарели и удивлялись друг другу, конечно, за глаза: у Нилушки образовалась лысина, у Богомолова явились два вставных зуба, Доганский сделался совсем серый, Покатилов пополнел, и в его красивых глазах все чаще и чаще стало появляться усталое выражение. Это еще не была старость, но дело уже шло не к молодости, как говорила Улитушка. Всего удивительнее было то, что Покатилов часто прямо от Доганских отправлялся на Моховую к Бэтси. Она больше уже не давала уроков у Зоста, с которым разошлась из-за Чарльза: старик узнал через кого-то, что сын познакомился с Сусанной через Бэтси, и сделал гувернантке горячую сцену. Бэтси чувствовала себя виноватой перед этою семьей и постоянно укоряла себя за сделанное преступление. С Юленькой она тоже не занималась, потому что не могла видеть Калерии Ипполитовны. Теперь англичанка занималась переводами из английских газет для "Севернаго Сияния" и этим существовала. Она попрежнему жила в номерах Баранцева и оставалась все такою же чистенькой и щепетильной. Визиты Покатилова положительно отравляли существование Бэтси. Это был решительно невозможный человек, приводивший Бэтси в отчаяние: придет, сядет на диван, схватится за голову и по целым часам надрывает душу Бэтси своими жалобами. – Я дрянной человек, но это мне дает возможность, Бзтси, еще лучше оценить твою чистую душу,– говорит невозможный человек.– Сознаю, что я мучу тебя... а разве я сам не мучусь? Да, я виноват, кругом виноват, но что я получил за свою вину? Эта Сусанна совсем сумасшедшая женщина, Бэтси. Я часто ненавижу и проклинаю ее, но меня неудержимо тянет к ней... Я все ей прощу, все извиню, даже собственное унижение, хотя у меня часто является желание задушить ее. Все равно, я плохо кончу! Бэтси слушала эту безумную исповедь обыкновенно молча и ни одним движением не выдавала своего душевнаго состояния. Один момент душевной слабости, и она опять свяжет себя с этим страшным человеком. Часто ей делалось жаль Покатилова, он был не злой человек по душе и всегда так умел угодить в тысяче тех мелочей, которыя особенно ценятся женщинами, но Бэтси делала суровое лицо и молчала, как убитая. – Мне иногда снится вот эта самая комната,– вслух мечтал Покатилов.– Да, снится тихое и хорошее счастье, мне вдруг делается до слез жаль вот всех этих мелочей, к которым привык глаз и с которыми связано столько хороших воспоминаний. Я долго плачу во сне, а настает день, и я опять чувствую себя, как пьяница, который не может отказать тебе в первой рюмке. Если бы ты знала, Бэтси, что значит носить в душе постоянный ад! Раз Покатилов вошел с сияющим лицом и торжественно заявил: – Ах, Бэтси, Бэтси, они уже ссорятся, и он больше не любит Сусанны. Да, я слышал своими ушами, как она укоряла его в чем-то, потом грозила, затем плакала,– словом, все происходит в надлежащем порядке. Мальчик образумился... – Я была бы совсем счастлива, если бы этот мальчик образумился,– проговорила Бэтси с волнением.– Он лежит на моей совести. – Да, да, это ты, Бэтси, подвела его, т.-е. устроила все моя любезная сестрица, а ты только разыграла некрасивую роль. Ах, Бэтси, я четвертый год разыгрываю ту же самую дурацкую роль. На-днях, например, Сусанна посылала меня разыскивать Чарльза по всему городу и не велела без него показываться на глаза... ну, и нашел. Притащил мальчишку на Сергиевскую чуть не за уши... Скажи, ради Бога, на что это похоже?.. Да ведь я первый ни за что не поверил бы подобной нелепости, если бы не проделал ее собственными руками! – Я, Роман Ипполитыч, могу посоветовать вам только одно,– говорила Бэтси.– Как я слышала, Сусанна начинает обделывать какия-то дела... – Это ты про гнилых старичков? – Да... Собственно, тут сам Доганский что-то затевает. Может-быт, и неправда... – Э, тут все может быть, Бэтси! Этого Доганскаго сам чорт не разберет. Каждый раз, когда Покатилов уходил, Бэтси провожала его печальными глазами: ей было жаль, что он погибает. Самые успехи для таких людей приносят только несчастье. Бедной англичаночке приходилось вообще не легко, и она каждый день с тяжелым чувством развертывала свежий номер "Севернаго Сияния", где печатались и ея переводы из иностранных газет. Между газетными строчками притаилось и ея одинокое горе, которое она как-то связывала с этою проклятою газетой. Единственным утешением для нея были приходившие ж ней газетные старички, как Бэтси называла про себя капитана Пухова и Симона Денисыча. Они всегда относились к ней с таким вниманием и так заботились чем-нибудь угодить или развлечь. – Вы у нас, Лизавета Ивановна, на дочернем положении,– обяснял капитан со своею обычною галантностью.– Да-с. Я всегда думаю о вас в этом направлении: была у меня дочь, потерялась, а потом опять нашлась. Газетные старички приносили сюда все, что у них накипало на душе, и Бэтси знала отлично малейшия подробности закулисной жизни "Севернаго Сияния" и все тайны номеров Квасовой. Разболтавшись, друзья переглядывались и мысленно обвиняли один другого в невоздержности на язык. Через них Бэтси знала все, что делалось в редакции. Всего умилительнее было то, что и капитан и Симон Денисыч считали себя настоящими заправилами газеты и говорили о ней "мы". – Вот летом нам хорошо!– обяснял Симон Денисыч, попивая кофе.– Тогда уж никто не будет нам мешать: вся газета в наших руках. Все разбегутся, потому что им ведь все равно, а мы с капитаном все дело орудуем...
II.
Может-быть, нигде не идет время так быстро, как в Петербурге, т.-е. идет быстро для людей, которые ничего не зарабатывают, а проживают свои последния крохи. Время точно существует для того, чтобы напоминать, когда платить за квартиру, когда швее, прачке, горничной, швейцару. Проживающий крохи только удивляется, в какую прорву плывут деньги, в руки взять нечего, а между тем деньги тают, как вешний снег. Кажется, лишних денег никуда не бросали, наконец позволяли себе только самое необходимое, даже отказывали во многом, и все-таки в конце концов дефицит растет, как незаштопанная прореха. А праздники? Что может быть хуже для такого проедающагося человека этих проклятых петербургских праздников? Особенно солоно достаются Рождество и Пасха, когда, с одной стороны, вся публика, как угорелая, набрасывается на праздничныя покупки, а с другой – на эту же публику накидывается целая орава голодных ртов: просит на чаек дворник, просит кухарка, лакей, почтальон, пожарные, городовые, разсыльные, капельдинеры, разныя приживалки, кучера,– словом, нет конца-краю этому прошению, а не дать – неудобно. Эти маленькия люди сумеют насолить при случае, а главное, неприятно видеть, как они начинают терять к вашей особе всякое уважение. В течение четырех лет, которыя прожила Калерия Ипполитовна в номерах Квасовой, она испила эту чашу до дна и под конец даже при мирилась со своим пассивным положением, но на сцену выступили новыя злобы, требовавшия новых денег, расходов и хлопот. Иногда Калерии Ипполитовне начинало казаться, что она только вчера приехала в этот промятый Петербург, так эти четыре года были скомканы в какую-то безобразную массу, точно она все время провела где-нибудь на вокзале в ожидании поезда и все оназдывала взять билет, или ее оттирали именно в тот самый момент, когда она уже заносила ногу на подножку вагона. А публика приезжала и уезжала, предоставляя Калерии Ипполитовне приятную обязанность платить "чайки" за свое толканье среди торопливых людей. Особенно ей тошно делалось перед Пасхой, когда Петербург принимал самый праздничный вид и все магазины, лавки и лавчонки были запружены покупающею для праздника публикой. Кроме чисто-праздничных покупок, это время совпадало с заготовлением летних костюмов, с наймом дачи, с тяжелыми воспоминаниями о том, что когда-то это время так же радовало ее, как теперь радует всех других. В душе поднималась тяжелая и тупая боль, а потом делалось как-то решительно все равно; это новое состояние просто пугало Калерию Ипполитовну, и она часто думала про себя, уж не сходит ли она с ума. Она и на себя начинала смотреть как-то издали и со стороны, как смотрят в зеркало, когда хотят разсмотреть себя во весь рост. Иногда Калерии Ипполитовне делалось как-то смешно, когда она перебирала в голове длинный ряд перенесенных неудач: свои безполезныя хлопоты у влиятельных покровителей, как князь Юклевский, барон Шебек и Андрей Евгеньич, а чего-чего ни делала только Калерия Ипполитовна, чтобы встать на ноги: и на бедных жертвовала в один очень влиятельный аристократический комитет, и с кружкой ходила собирать пожертвования в пользу славян, и в спиритических сеансах принимала участие, наконец даже втерлась в какую-то аристократическую религиозную секту. Все это делалось для того, чтобы, во что бы то ни стало, выбиться из своего положения и войти в какой-нибудь из хороших столичных кружков, но все ея усилия оказывались напрасными: сначала дело шло как будто ничего, в ней принимали участие, знакомились, а в конце концов она опять чувствовала себя чужою и лишнею и должна была стушевываться незаметным образом. Если кто действительно делал что-нибудь для нея, так это один Доганский, которому она платила за его услуги самого черною неблагодарностью, а между тем Доганский совал Симона Деписыча и в банки, и в акционерныя компании, и в какия-то промышленныя предприятия, и даже на биржу. На работу мужа в "своей" газете и на свою жизнь в номерах Квасовой Калерия Ипполитовна смотрела, как на что-то временное и случайное, что только пока, между прочим. Симон Денисыч с величайшею охотой брался за всякое новое место и каждый раз непременно находил, что именно это место точно нарочно для него создано, но проходило два-три месяца, и он по-добру, по-здорову должен был бросать службу. Сначала Калерия Ипполитовна сердилась, делала страшныя сцены, кончавшияся мигренью, плакала, но потом стала относиться к мужу с молчаливым презрением. В последний раз Симон Денисыч потерял место в какой-то компании рыбопромышленников и явился домой с таким убитым видом, что даже Калерии Ипполитовне сделалось его лгал. – Опять неудача?– спросила она, напрасно подыскивая, что бы сказать ему утешающее или ласковое. Этот простой вопрос заставил Симона Денисыча совсем растеряться; он посмотрел на жену какими-то испуганными глазами, провел рукой по своей лысине и глухо проговорил: – Стар я стал, Леренька, и... и... и глуп! Последнее слово он выговорил с величайшим трудом, точно оно засело у него в горле, закрыл лицо руками и тихо всхлипнула. – Simon, что с тобой? Ты нездоров?– с участием спрашивала Калерия Ипполитовна, неприятно пораженная этою мелодраматическою сценой. – Нет, ничего. Я я вот что скажу, Леренька: ничего я не понимаю в нынешних делах. И люди какие-то особенные... новые люди, одним словом. А я не могу, Леренька... нужно кланяться, подделываться, торговать совестью, вот что везде нужно, а я стар и устал. Мне очень тяжело бывает иногда, и я часто думаю, как хорошо было бы умереть. – Что же мы будем делать? – Мне все равно, Леренька. Уедем куда-нибудь. – Ну, уж это вздор! Нужно только потерпеть и не терять энергия. Андрей Евгеньич недавно был у maman и обещал... Калерия Ипполитовна, против воли растроганная слезами мужа, старалась утешить его, как ребенка, и принялась повторять в сотый раз свои планы и предположения, в которые больше и сама не верила. Ей просто хотелось успокоить беднаго старика, к которому она чувствовала теперь большую нежность, и Симон Денисич действительно успокоился, успокоился гораздо скорее, чем предполагала Калерия Ипполитовна. Вышла опять жалкая детская сцена, и теперь Калерию Ипполитовну душила глупая радость мужа, который принялся мечтать вслух разныя глупости. – А у меня есть один проектец, Леренька,– говорил он, бегая по комнате маленькими шажками.– Это уж последний... Ты только не сердись на меня, Леренька! – Да говори, пожалуйста, без этих глупых предисловий. – Я... то-есть меня приглашает к себе Роман... это только одно предположение, Леренька, и ты, ради Бога, не сердись. У него есть место заведующаго политическим отделом... то-есть я хочу сказать, что я окончательно желаю посвятить себя журналистике. Тебе это может показаться немножко странным, но ведь такое время, Леренька, нужны люди... – Что же, и отлично... Я ничего не имею против твоих литературных работ, только оставь меня в покое и никогда и ничего не смей мне говорить о своей службе, как и о газете Романа. Мостов принял это милостивое разрешение за чистую монету и горячо поцеловал руку жены, так что Калерия Ипполитовна еще раз с душевною болью должна была убедиться в глупости своего мужа и окончательно махнула рукой. Конечно, все, что происходило в семье, все эти неудачи и треволнения оставались строжайшей тайной, и Калерия Ипполитовна оставалась по наружному виду все такою же Калерией Ипполитовной, которая держала себя всегда с большим гонором и относилась ко всем другим жильцам номеров Квасовой свысока. Она также при каждом удобном случае делала замечания Зинаиде Тихоновне, постоянно ссорилась со швейцаром Артемием и считала своим непременным долгом повторять всем и каждому, что они здесь только временно и не могут поручиться, что не уедут завтра же, если позволит здоровье Симона Денисыча. Свои неудачи она хоронила у себя дома и была уверена, что никто даже не подозревает горькой истины, а всех меньше, конечно, жильцы номеров Квасовой, эти жалкие "короли в изгнании", как она называла их про себя, повторяя определение капитана. Но все-таки Калерии Ипполитовне подчас делалось ужасно грустно, именно, когда на нее наваливалось это чувство равнодушия ко всему; и вот в одну из таких тяжелых минут Калерия Ипполитовна как-то машинально отправилась с визитом к Зинаиде Тихоновне. После она сама не могла понять, как это могло случиться, но это так: она, Калерия Ипполитовна, первая сделала визит этой кронштадтской мещанке. Зинаида Тихоновна была тоже крайне удивлена появлением Калерии Ипполитовны в ея двух комнатах и не знала, как ей принять гостью. – А я к вам зашла сказать, Зинаида Тихоновна, что мы, во всяком случае, уедем с первым пароходом,– каким-то равнодушным тоном проговорила Калерия Ипполитовна, занимая на диване самое парадное месго:.–Мы не пропустим этой навигации, поэтому необходимо... я сочла долгом предупредить вас относительно квартиры... – Хорошо, хорошо. У меня есть на примете один господин,– соглашалась Зинаида Тихоновна, внимательно разсматривая свою гостью, и даже подумала про себя: «Ох!.. должно-быть, она того... с мухой!» Калерия Ипполитовна действительно держала себя настолько странно, что подозрения Зинаиды Тихоновны имели некоторое основание. Начать с того, что пришла она в такое несообразное время, когда в гости никто не ходит, именно сейчас после обеда, когда Зинаида Тихоновна любила соснут часок-другой, и притом просидела, не вставая с места, битых часов пять. Принять гостью «по-благородному» Зинаида Тихоновна, конечно, умела и вся разсыпалась в самом политичном разговоре: пожалела капитана, ядовито отозвалась о «своей газете», наговорила целую кучу о человеческой неблагодарности, интригах и подлости. – Уж не сварить ли кофейку?– предлагала хозяйка, окончательно входя в свою роль.– Я бы живою рукой... – Пожалуй,– равнодушно согласилась Калерия Ипполитовна. – А кстати я вам и средство от мигрени скажу... Мне одна знакомая чиновница-старушка по секрету его передала... и какое простое средство!.. Докторам-то хоть сколько плати, они и способа не скажут... Чтобы удивить гостью вполне, Зинаида Тихоновна вытащила самой необыкновенной формы старинный серебряный кофейник, устроенный так, что неопытный человек непременно принял бы этот кофейник за какой-нибудь прибор для опытов по физике. Хитрая штучка, конечно, была приобретена при случае, о чем Зинаида Тихоновна и разсказала, пока возилась с кофейником. Средство против мигрени оказалось очень незамысловатым: в крепкий черный кофе опускался кружок свежаго лимона и вливалась небольшая рюмка коньяку. – Я иногда сама лечусь этим средством,– обясняла Зинаида Тихоновна, приготовляя целебный напиток.– И отлично действует: по моей комплекции в сон вгоняет.... Для этого случая я всегда финь-шампань держу. Да... Калерия Ипполитовна нашла, что, действительно, средство не дурно, и обещала непременно его попробовать при первом же припадке мигрени. – А ведь я слышу, как вы мучаетесь этою самою мигренью,– распиналась Зинаида Тихоновпа.– И сколько раз хотела вам предложить, да как-то все не решалась... Чужие-то люди, Калерия Ипполитовна, всегда больше пожалеют, чем свои. Вот у вас и братец есть и дядюшка, а много ли вы от них внимания-то видите, а вот я всегда вас жалела: все-то вы хлопочете, везде-то вы сами, ну как тут мигрени не быть? А мужчины это разве могут понимать? Взять хоть вашего-то братца, Романа Ипполитыча... Конечно, он теперь большой человек и в капитале скоро будет, а вот настоящаго родственнаго чувства в нем и нет. Ох, нехорошо что-то разсказывают про Романа-то Ипполитыча, сударыня, хотя, конечно, из зависти больше болтают: очень уж он к той-то, к Доганской, то-есть, подвержен, можно сказать даже, совсем в отсутствие ума впадает. И она им тоже вот как крутит: ни настоящаго привету ни настоящаго отказу, а так... тянет только... – Сам виноват... – Вот уж истинную правду сказали, Калерия Ипполитовна, именно сам виноват... А жаль: такой умный человек и вдруг точно оступился. Эти мужчины, Калерия Ипполитовна, все на один фасон, как двугривенные. Дамы долго просидели за кофейником, наговорились, и знакомство завязалось: Калерия Ипполитовна нашла, что Зинаида Тихоновна совсем не так глупа, как можно было бы предполагать, а Зинаида Тихоновна сделала приятное открытие, что Калерия Ипполитовна совсем уж не такая гордячка, как ее прославляли все жильцы, а только держала себя по-настоящему. Отчасти Калерию Ипполитовну тянуло к Зинаиде Тихоновне следующее обстоятельство: уроки Юленьки с Бэтси кончились, и упрямая англичанка видимо избегала бывать у Мостовых, так что Калерия Ипполитовна по получала теперь прямых сведений обо всем, что делается у Доганских; между тем Зинаида Тихоновна знала о них ей одной известными путями решительно все, тем оставалось только воспользоваться, благо Зинаида Тихоновна была слабенька на язычок. Входя в комнату Зинаиды Тихоновны, Калерия Ипполитовна чувствовала себя точно на телеграфной станции, соединявшей ее тысячью невидимых проволок с редакцией «Севернаго Сияния», с квартирой Доганских и вообще с тем миром, который ее так интересовал. Эти визиты сначала делались под разными предлогами: спросить что-нибудь, посоветоваться, где купить хороших ниток, а потом знакомство повелось уже запросто, причем немаловажную роль играло изобретенное старушкой-чиновницей лекарство от мигрени. Случалось как-то так, что и хозяйка и гостья страдали припадками этой болезни в одно время, поэтому и лечиться вместе было веселее. Попивая кофе с коньяком, дамы заметно краснели, делались откровеннее и вообще недурно коротали быстротечное время. Калерия Ипполитовна нашла, что это заветное средство действует отлично не только от мигрени, но прогоняет и то страшное чувство апатии и равнодушия, которое так ее пугало. – А та, Сусанна-то Антоновна, на все фасоны пошла,– сообщала Зинаида Тихоновна своей приятельнице. – Какие фасоны? – Как же... С Теплоуховым-то у ней того, не совсем ладно: глуп он свыше меры, а тоже не слепой. Этот англичанин тут замешался... Ну, не сегодня-завтра, а Теплоухов ненадежен, пожалуй, и сбежит. Вот Доганский и завел новых знакомых, старичков разных, которые падки на женскую-то часть... Разговор происходил в описываемое нами время, т.-е. вскоре после русско-турецкой войны. Дамы беседовали за кофе. Зинаида Тихоновна за это время заметно пополнела, Калерия Ипполитовна тоже пополнела, но обрюзгла, подбородок отвис жирною складкой, углы рта опустились, на носу просвечивали тоненькия красныя жилки, глаза смотрели с какою-то тупою сосредоточенностью, а в волосах уже серебрилась седина, точно голова была посыпана первым осенним снегом. Обе дамы сидели в самых непринужденных позах, как люди, приготовившиеся побеседовать по душе. – Смотреть на них, так даже как будто ничего не разберешь,– продолжала Зинаида Тихоновна.– Как будто и Теплоухов на прежнем положении у Сусанны Антоновны, и как будто англичанин этот сильно касается, и как будто англичанин-то пошел уж на удаление. Мужское дело: свое получил вполне – и бежать. А мне то удивительно, Калерия Ипполитовна, что разве не стало в Петербурге-то красавиц-женщин, каждый год однех французинок сколько навезут; такия красивыя мерзавки, а вот поди же, Сусанна Антоновна всех перешибла своею красотой... Невероятность какая-то. А эти старички-то почище Теплоухова будут, и Сусанна Антоновна через них большия дела обделывает: за ум схватилась. Калерия Ипполитовна торжествовала, слушая болтовню Зинаиды Тихоновны: все выходило так, как она предполагала. Сусанна увлеклась этим мальчишкой и теперь делает одну глупость за другой. О, как все женщины похожи в своих слабостях и без конца повторяют одна другую. Пусть же Сусанна помучится, а когда потеряет красоту, ее выгонят на улицу, как старую клячу. Теперь она теряет Теплоухова, а на старичков – плохая надежда, да ниже этого женщине и опуститься нельзя; женщина может ошибаться, делать глупости, но служить приманкой для выживших из ума развалин – нет, это последняя ступенька возможнаго унижения. – Чего же Доганский-то смотрит?– спрашивала Калерия Ипполитовна. – Чего ему смотреть-то, если он сам подводит к жене этих старых чертей. Теплоухова потеряла, ошибочка есть с англичанином, а тут уж не погневайся, матушка. Разговоры-то у него короткие, у Юрия Петровича: возьмет веревку, да и удавит. Такой уж человек особенный... Ведь он Сусанной только и держится. Может, и напрасно это болтают, Калерия Ипполитовна, а только много их, таких-то мужей... Да, и барышни нынешния, ежели разобрать, тоже мое почтение, побольше нас с вами знают.